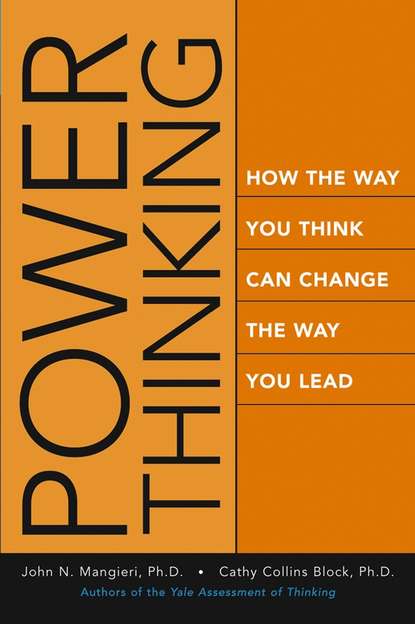- -
- 100%
- +
У меня, дурака, ни хрена нет, и курить я бросил, блею что-то вроде «не собирался, не подумал, не захватил…». Это моё сволочное тугодумие! Что делать? Ясно, Тольке выходить за могильную оградку нельзя, надо мне бежать на Заречную, к мосту, к магазину, что-то взять выпить, да закусу, да «Беломору».
Виновато ему:
– Толь, я сейчас быстро сгоняю, подожди.
– Ну, давай дуй… Деньги-то есть?
Комок в горле, ухожу и просыпаюсь. Помянул брата, называется!
Ему было всего 49 лет. В тот год мать уехала к Игорю в Брянск на всё лето. И заодно родную деревню навестить через 40 лет, Старую Присмару свою, что всё ещё есть на земле на смоленской. И я кричу себе через ночь: хочу, хочу туда – вот это, блин, хотение! – как у животного, у лебедя белого: хочет он в залив Лососей, и всё тут! А я в Россию хочу, посмотреть, что там. А ровно через полгода после этого вот сна умер и дружок мой Витя Ли, тот, что бросил меня в публичном доме в городе Толстоберёзовске 11 июня 2006. Как всё в монолит в мозгу моём спрессовалось-то! Хорошо в тот год дела мои складывались. Я строил себе мастерскую в Аниве, за подвесным мостом, уже настелил полы, сложил печку и зачал свой первый холст, на котором намеревался изобразить праздник жизни – рытьё могилы и подношение угощения могильщикам. Брата видел редко, он шоферил, я малевал в совхозе «наглядную агитацию» – так называлось особое искусство украшения лесов, полей и рек крашеным кровельным железом, которым крыши не крыли, но пускали его как вечный материал, стойкий пред бурями и ливнями, по-японски тайфунами, на изготовление фундаментальных партийных и имперских декорационных установок – так называемых стендов.
• Тут надо бы о задаче художника, о его предназначении ввернуть: коли довелось в империи родиться, да ещё в провинции у моря – выживи! Живи как хошь, но не дай себя похоронить в оной провинции, – здесь и кладбища всё временные, нету тут вечного покоя, только аверсы одни да реверсы, а и есть растворение в солёных водах болот, озёр и океана. И упокоен ты будешь, как пустая консервная банка – пинком в канаву.
Такая маловысокохудожественная задачка, как говаривал Михаил Зощенко. Однако пока ещё я у мамочки за пазухой, рано грузиться мировыми проблемами. Я ещё только народился. Игорь пришёл рано утром со двора, глянул на младенца в люльке и говорит матери:
– Мам, а он у тебя кривой вышел!
– Ты что, сынок, такое говоришь! Хороший он, никакой не кривой, – мать встала с постели, прикрываясь недавно пошитым пододеяльником, она хотела поскорее выпроводить старшего из дому, чтобы взять косенько лупающего младенца на руки и защитить его от грубости старшего брата…
…Что там далее – за проливом, за рекой?
* * *Да всё там – весь прошлой жизни сухостой и прошлогодние будылья.
• Жгу мусор у дома. Мама на втором этаже. Один костёр прогорел. Второй я разложил у самой стены, рядом с кустом розы. Языки пламени взметнулись ввысь и достали края крыши. Мысль: загоримся! Вижу – уже не остановить: горит толь. Сразу понял: дом обречён, сейчас полыхнёт вовсю. Кричу: «Люба! Горим!» Сам бегу наверх маму выводить. «Володь, что такое, что случилось?» – «Скорее вниз!» Веду маму, со столба хватаю какие-то тряпки, одежду тёплую, штаны. Дверь снаружи заперта, подвожу маму к окну, выбиваю раму, вылезаю сам, чтобы принять маму. Тут меня что-то отвлекает, как будто Люба говорит, что вызвала пожарных. А крыша уже горит. Я понимаю, что ничего они уже не успеют. Просыпаюсь.
В 1976 году я построил здесь себе мастерскую, в которой 25 лет рисовал и писал картины. И чувствовал себя былинным героем, под стать Добрыне Никитичу, как минимум.
Пребывая в полном нуле житейски-финансовом, проще говоря, «когда жрать нечего» – так ещё и ни холста, ни красок не купить, и даже из Парижа и Амстердама не выписать, не говоря уж о Токио, он вообще, глядь, был за пределами фантазии… Союз художников в то время погряз в самодовольстве, натурально как сама КПСС, в масштабе страны. Провинциальные «самородки» вроде нас, пальцем деланные живописцы, с протянутой рукой в это заведение побираться ходили. «Подайте, люди добрые, белильцев – охорьки по тюбику, маслица-скипидарцу по пузырёчку! Мочи нет, как писать хоцца». Какая на х… живопись, какое изящное искусство! Один Веничка Ридель меня привечал и рюмашкой согревал, и говорил, занюхивая рыбкой: «Ну, давай!». И я отдавал ему список пигментов-колеров и разбавителей, и кисточек размеры, и холстика моток.
О, святость братских чувств!
* * *Слава Богу, у нас в те времена доламывали японщину, то, что ещё сохранялось в забытых углах городков и выселков. Было откуда доски-балки тащить.
Да, тяжёлый это случай – писать мемуары. Дайте мне вспомнить хоть чего-нибудь из того, когда это со мной случилось. Точной даты уже не установить, кажется, это было ещё в детстве. Уже тогда я был подвержен влиянию сновидений, если можно так выразиться, имел глубокие переживания и даже физиологические реакции на увиденное во сне.
Одеяло у меня было ватное, тёплое и тяжёлое. Спал я на перине, сотворённой мамой из наших кур, ибо прежде чем съесть курицу и даже молодого петуха, их нужно было ощипать. Перо мама сортировала и складывала в большие серые мешки, наволочки – не наволочки, в общем, в то, что можно было завязать как мешок, узлом, и положить в кладовку. Кровать была железная, солдатская, с ромбической сеткой, удобная как люлька. Приходя домой с бесконечных футбольных матчей, с речки, моря, сопок, еле волоча от усталости ноги, я заваливался, обессиленный, в койку и засыпал мертвецким сном, не забыв, конечно, поесть, но забыв пописать. Тут-то и приходил ко мне тот насмешливый шутник – гномик с большой писькой, и предлагал окропить одуванчики на зелёном лугу. (Ибо что такое сон, если не сетка воспоминаний, связанных крючком? Вы запутываетесь в ней, как в реальной вяжущей вас ловушке, со страху или соблазну легко и обписаться. Чуть позже мы эту мысль разовьём и развесим, разукрашенную, просыхать.)
У меня были два друга – Лёвка Шин из Алма-Аты и Аист Шин оттуда же. Экзотическое имя Аист… Это перевод с забытого мною корейского – мы звали его «Аська». Родители у того и у другого были учителя, носили одну фамилию, но по нашим русским понятиям кровными родственниками не были, хотя корейцы-однофамильцы по традиции выводят свой корень от одного предка. У кого предок Сон, у того и потомки Соны, не «сны», заметьте. Ким, Цой, Тен, Ли, Юн – очень распространённые родовые имена у сахалинских корейцев, всё это фамилии моих друзей.
Тост, произнесённый Толиком Курбе, когда мы киряли просто так – от любви друг к другу – был лапидарен:
«За Сахалин!». За тот, который мы впитали в детстве, за отбитый у япошек пласт суши, утраченный предками и отвоёванный отцами и братьями… И мы выпили и закусили сасими из камбалы и закатали суси в сушёную капусту Линеок и… ох, как хорошо пошло. И пили мы за Минами-но Еси, не обнаруженное Богом шахтёрское селение напротив Монерона, и пили за Хвостово, за Рутаку, за Маоку, короче, за Толстоберёзовск… Потом оказалось, что всё не так, не нужно было это всё – деревушки побережья, рыбацкие посёлки, любимые фантомы, порождаемые ныне только нашими мозгами… Ничего там нет давно, и мосты посмывало, и в речках рыбу ловят медведи. Не успели мы объяпониться. Не успели обжиться, как пошла косить коса укрупнения колхозов и опустошения побережий.
Тогда, в солёно-кисло-сладком нашем японском детстве, запахи, вкус и цвет были животворные. Первым был запах воды. Или земли? Ладно – мокрой земли – песка, ила, глины, болотной жижи. Солёного камня.
* * *Мамины руки, тёплые и влажные, – она только что месила тесто, лепила пирожки или пельмени, трудно себе представить: чтобы накормить семь человек. У мамы руки всегда влажные. В 36 лет у неё уже было четверо сыновей и одна дочь. Вот такая жизненная сила! А иначе было бы ей не справиться с таким хозяйством.
Пельмени с рыбным фаршем – лёгкая еда. Но это смотря по тому, сколько съешь, десять или сорок штук, да каких! Если маминых, то с кулачок пятилетнего мальчишки. На весенних каникулах в марте у нас устраивались массовые лыжные гонки. Стартовали-то мы всегда весело и азартно, но кто-то сходил по разным причинам, кто-то просто не тянул, а кто-то дотягивал до финиша, но имел бледный вид. Довольство – кубки да грамоты – доставалось немногим. Мне вредили мамины пельмени. До финиша я доходил, но становилось мне тошно. Да, это была жизнь! Не отвертишься, побежишь, даже обожравшись или натощак. Тяжеловато её пробегать и возвращаться в ту же самую точку старта. Она же финиш и есть.
11 авг., вечер. Вот он, знак номер один: огонь во дворе. Горят гнилые доски: теплица, кухонный стол, палитра, диван, стол, гнилые плинтуса, холсты, картоны, одежда, обувь, заплесневелый ковёр… Что тут от меня остаётся: книги, мамина швейная машина, отцовы шахматы, старые японские пилы «на себя», печка, веранда – всё это до поры, до времени – до полного истления.
* * *3.15. Увидел Владимира Фёдоровича Фаворского. Толковали о том – как различать временно́е и вре́менное? Как отделить предвечное от привнесённого временем?
4.25. Приехал к маме в городок в средней России, холмистый, на реке. В домике одна живёт. Обнимаю её, целую, не хочу отпускать, а она потихоньку так отстраняется. Я шепчу ей: «Не хочу от тебя уезжать». Она: «Так оставайся. Поживи недельки две».
Гуляю по городу. Старинный купеческий пейзаж. Думаю, продам всё, что есть на Востоке, построю здесь у мамы мастерскую. И ей, и себе дом по типу анивского – дощато-засыпной. Спрашиваю маму, как тут вообще жизнь. Она: «Свет часто отключают, рыбы мало, а рыбки нашей хочется. Ты подумай, может, не надо здесь строиться». А мне всё нравится и маму не хочется из рук выпускать, тоска – хоть плачь.
На улице. Тащу сумку, смотрю – сын идёт, я ему сумку отдал, говорю – неси к бабушке, я туда приду. Он взял и понёс. Потом мы с ним гуляли по городу, какие-то безделушки покупали, а вообще собираемся по России поездить. На партсобрание неизвестной партии забрели, и мама как будто тут. Смутно вижу её. И ухожу.
Потом в мастерской у местного мазилы непонятки. Коллега приветствует меня сдержанно, полуофициально, как будто я какой-то чиновник. Выражает почтение и равнодушие. Показывает работы. Сидит на корточках, перебирает листы графики, показывает офорты, речные пейзажи. Мне всё интересно – и город, и люди, и Россия, и картинки. Хочется здесь остаться и сомневаюсь – зачем я здесь, я другой и вряд ли нужен этим людям, неинтересен я им. Так, дальневосточный экзот, это места для Фаворского, думаю, он где-то здесь обитает.
Пошёл купить газетку. Киоск чудной – двусторонний: с одной стороны – газетное окно, тут большая очередь, с другой – чай, кофе, салаты с ветчиной, тут два-три человека. Я, хитрый, встал со стороны чая, говорю продавщице: «Мне, мисс, “Московский комсомолец” и “Новую”». Она: «Сюда газет не даю, да и нету таких». Я: «Тогда туда ветчины с луком». А она мне: «Как вы можете такое читать!», и отвернулась. Странные всё же люди в раю, ветчину с луком едят, а «МК» не читают.
* * *Навещаю друга. Дом призрения на северной окраине города – богадельня под названием «Дом-интернат для инвалидов и престарелых». Расположен этот домик (однако в пять этажей) на берегу Охотского моря, на параллели мыса Терпения. Если описать дугу, окаймляющую одноимённый залив, то окажется, что Дом призрения и мыс Терпения стоят в основании этой дуги. По касательной к дуге идёт меридиан, соединяющий полюса. Две дороги – шоссе с твёрдым покрытием и ещё более твёрдая железная дорога. Естественно, у них есть только два направления – юг и север. Из окна Коли видны обе дороги и тянущиеся вдоль них пакгаузы, по-нашему склады железной дороги и рыбобазы купца Агафонова, который держит здесь, кажется, всё, кроме РЖД и этого дома, которые принадлежат государству и находятся на попечении оного. Что касается ландшафта, то это типичный северояпонский вид прибрежной полосы. С того берега тихоокеанского окоёма, из Калифорнии глядя, мы живём на западном берегу, а с точки зрения сибирского дикого Запада мы живём на диком Востоке – у безбрежного и очень тихого океана, глядя на который в лицо, чувствуешь спиной бегающие по шкуре мурашки. Я не думаю, что эта богадельня – самая дальняя в точном географическом смысле, есть ещё и Камчатка с Чукоткой со своими богадельнями, но уж точно в России она крайняя, ибо стоит у самой воды залива Терпения, и лучше бы старикам тут вообще не жить. Однако поскольку без стариков такие места не обходятся, да и без молодых, нуждающихся в любви, не обходятся, то дома такие – призрения людей – нужны. Стоят на самом берегу Охотского моря, напротив мыса Терпения – это уж точно край. Тем не менее, как говорил художник Ярошенко – «всюду жизнь». В доме тепло и людно, и работает телевизор, и царствует в этом «царстве терпения» попса, заглушая всякую надежду на свободу мысли и исповедания. Впрочем, этот вопрос в тутошних обстоятельствах скорее медицинский, чем философский. И шумит волна, и поёт прибой, гитара звенит струной.
– Мне часто снится, что я в кабине бульдозера. И ни хрена у меня не болит: ни руки, ни ноги, ни поясница, и голова не кружится. И сношу я всякую нечисть с поверхности земли…
– А куда ты всё это сгребаешь, Эдик?
– А сгребаю я её в громадную кучу в одном тайном месте – до небес навалил, как Вавилонскую башню, а дальше – хрен его знает что. Сон обрывается.
– А Юрку Фалеева ты давно видел? А Юрку Лапшу? А Юрку Кузина? Чё-то у нас много Юрок. А помнишь, у нас другой был, длинный, Кузин? Его мать работала директором хлебокомбината. Его как звали, тоже Юрка?
Через несколько минут:
– Значит, Юрка в моей квартире теперь? Там у меня два новых пиджака остались… Впрочем, на него они не полезут. А вот капитанский китель Камала мне был как раз. Мы с ним одинаковые. Постный тип этот Камал.
Коля оборачивается ко мне:
– Противно мне с тобой разговаривать, огорчаешь ты мою душу, и не верю я тебе.
Он не выносит садистски рисуемых мною чудовищных картин его идиотического существования в родной квартире, где у некурящего чистюли Коли пол был по щиколотку покрыт окурками. Он не помнит этого и не верит в это и, проклиная меня, замолкает. И через несколько минут возобновляет движение разговора по кругу.
– Куда они все испарились?
– В океане растворились, в туман превратились. Видишь, тянет с Охотского моря? Это они променад совершают.
– А мне в общем-то отсюда и уходить не хочется, да и некуда, буду тут доживать.
• И никаких сантиментов. Только констатация уже свершившегося.
– Знаешь, что мне врач сказал, когда из психушки выписывал? Говорит, у вас, Николай Семёнович, никаких патологических изменений в организме не произошло – можете начинать всё с начала. Но меня почему-то не домой, а сюда привезли. А тут ничего невозможно начать с начала. Тут только конец.
Коля не имеет представления, кто и как занимался его судьбой, то есть устройством на вечный покой, который ему и не снился.
– Я повторяюсь, да? А что ещё я могу? Только повторять. После паузы:
– Почему я создан только для потерь? Вроде Бог мне, как и всем, всё дал. А потом одни ещё чего-то приобретали, а я только терял…
– Мать твою звали, кажется, Надежда Павловна?
– Да.
Коля вернулся с холода со слегка изменившимся видом и более энергичным голосом. Ясно стало – где-то «укололся». С Охотского променада дуло.
• Вождь мыслил геополитически. У него были амбициозные имперские планы. Грандиозные амбиции и ложь без конца и края. «Оскорблённое величие» вызывает идиотические решения. Конституционная ложь разлагает любое величие. Великие свершения, оплаченные кровью, потом и слезами народов, превращает в исторический нуль.(Из вычитанного).
* * *С Валериком говорим о старом. Старое всё лучше!
– Особенно мы с тобой, мы лучшие в мире старцы, – говорю я, жуя навагу.
– Ну, себя я не знаю, а тебя хвалить не буду.
Потом был сон про анкерные болты с гайками, Никита Михалков, у него этих гаек навалом, надо бы спереть ящика два.
6.15. Аннексия. Освобождение. Захват Сахалина объединёнными войсками американо-японо-украинской коалиции. Десант высадился в Макарове и Песчаном. В небе летали туда-сюда ракеты довольно низко, как ласточки, но нас не задела ни одна. Мы стали искать лопаты, рыть щели, и тут выяснилось, что уже поздно что-либо делать. Появился офицер в парадной форме и приказал всем копать картошку и солить капусту. Роздал детям конфеты под названием «Золотая птичка» и печенье «Пальмовая роща». Испуганные дети, тихие собачки. Молчание собак потрясало. Я пришёл в какую-то контору, которой когда-то продал свои картины. В «красном уголке» обнаружил залежи произведений искусств: расчленённые живописные полотна, изображающие чёрт знает что. Но живопись замечательная, живые рисунки, я охапками собирал фрагменты и носил в мастерскую кроликам, и вдруг увидел того самого русскоговорящего офицера, который приказал женщинам копать картошку: «Теперь вы свободные люди, и свобода эта обеспечена войсками коалиции. В Толстоберёзовске провозглашена Советская Сахалинская Республика и объявлена независимость от России. Правительство ССР обратилось к правительству Японии о присоединении к альянсу и с просьбой принять ССР в состав Японии на правах ассоциированного члена. Короче, ООН исторгло Россию из членов ООН за агрессию против острова Рисири, в результате чего Россия лишилась Сахалина. Гарнизоны российских войск были блокированы, нейтрализованы и разоружены без единого выстрела за одни сутки. Анивский полк как-то рассосался, а это была элитная часть, главная ударная сила корпорации. Можете расслабиться, господа».
Жена посмотрела на меня с укором, ничего не сказала, а только отвернулась, когда увидела меня с охапкой шедевров. Я крикнул ей, как дурачок:
– Смотри, они почти всё сохранили! Правда, на куски порезали.
– В мозгу твоём куски да нарезки, – горестно озвучила жена мой диагноз.
– Не бойся. Пойду опять к ним работать, в ДРСУ, дорожные знаки рисовать. Проживём. В конце концов, мы же не объявляли никому войну. И что там думают в Москве, нам неизвестно, может, нас отдали в обмен на Крым. Теперь лет на пятьдесят нам обеспечен мир, и мы никогда не узнаем, что шепчет по утрам господин Президент.
Этот чудовищный сон приснился мне утром в понедельник 17 августа.
* * *Вороны каркают – из открытых клювов валит пар – такие вот горячие у нас птички. Из щелей двери и окон – холодок. Вижу натюрморт: яблоки на палой листве – в процессе работы, удовольствие тактильное – от кисти в руке и красочной массы. Следом за этим – команда ватерполистов в бане. Молодые мускулистые тела – хорошая рифма к яблокам.
На берегу залива. Краб, листья капусты, бревно, стволы, столбы.
На запястье моей руки, которой я пишу, подлетел и сел летучий клоп.
Полный отлив обнажил песчаное дно, там живут сердцевидки, дно ледяное, не порезвишься – зубы заноют.
Из предвыборных речей исполняющего обязанности.
«Народ на Сахалине лёгкий и весёлый» (ага, особенно если посмотришь криминальную хронику). А те, что перебрались на острова лет 50–70 тому назад, они прямо ухохатываются от цен на рыбу.
Я чуть не умер со смеху, когда в Аниве торговка из-под полы прилавка показала хвост горбуши и назвала цену – 800 р. «Ты чё, бабуля, он же не тебя покупает», – пошутил мужик, стоявший рядом. Те, что приехали позже, смеются меньше – и реже, и как-то мельче. А мы, кому за 70, дохнем со смеху просто косяками.
Валерик смотрит телевизор и разговаривает с ним: нах… было вообще в Афганистан лезть – теперь вот баскетболистов на чемпионат не пускают. Улавливаете связь времён, господа? Друг мой ужасный спорщик и резонёр, научит вас не только рыбу солить.
– Мышку полёвку знаешь? Шерсть короткая, челюсти во! Собака увидит, дважды обсерется и завоет со страху. А кот у меня был, интеллигент, на мышей ходил с удавкой, надавит их полный мешок, вытряхнет на крыльцо, собаки в ужасе разбегаются. А клещей на нём, замудохаешься вытаскивать, шерсть портновскими ножницами не сострижёшь… Девять лет прожил у меня, потом издох, я его похоронил, выкопал ямку на границе огорода у бамбука, завернул в белую тряпку и закопал.
А вот пароход «Анива», на котором они приехали в 48-м году, – это название он запомнил точно, хоть и было ему четыре года. Вспоминаем госпиталь в Аниве, который стал нашей первой школой, поликлинику и больницу для гражданских. Витька Логвинов, «Пузо», – сосед Валеркин.
– А на пенсию я уходил за двадцать минут. Валька Стрельникова, зав. кадрами, по дружбе обстряпала. Это уже после землетрясения. Я решил уезжать сразу, хватит, тридцать лет на Курилах.
* * *Наконец-то сказал сакраментальное слово в последнем эпизоде персонаж, претендующий на звание главного и даже, может быть, мегазвезды. Тот, про которого говорят «дети Ванюшина», человек, задержавшийся в своём развитии во имя чести, в общем, чего-то – какой-то цели, принципа жизни… Я встретил его, конечно, не случайно, а в силу воли, движущей рукой сценариста и управляющей капризами режиссёра. И вот он, мягко тыкая мне в грудь пальцами левой ладони, стоя на расстоянии вытянутой руки, говорит, что автобусную остановку в Малиновке назвали именем Сколишенко, сержанта из «учебки» погранцов. В своё время, очень, надо сказать, хреновое время, он погиб, спасая в водах залива купавшегося малыша. Кто это был, память людская не сохранила – мальчик или девочка, вероятно, у него (или у неё) теперь уже внуки. Этот бородатый незнакомец говорил, терзая мою душу словами, жгучими и текучими, как горящая смола криптомерии, а впрочем, кто их разберёт, эти пинии да сосны. Друг от друга их не отличить, когда они горят.
Мы стояли посередине тротуара, мешая пройти некой паре, мужчине и женщине, которые деликатно мялись, не желая помешать нашему разговору и боясь ступить на проезжую часть, залитую жидкой грязью. Потом женщина решительно и плавно прошла, улыбаясь, между нами, давая пример своему спутнику. Каждый из нас, детей Ванюшина, задержавшихся в развитии, сделал по шагу назад, и мужчина, так же как и его спутница, прошёл мимо, кивнув, однако, приветственно головой, но не обернувшись ни к одному из нас.
Тут всё дело в том, что я ждал такой ночи уже шестые сутки. И вот он пришёл, этот чудный сон, который я ещё не определил. В нём много слов, ещё больше – действия самых разных сил, представляющих могущество бесчисленного количества образов, героев и вождей чертовщины, – так я называю порождения моего мозга, видение превращения неживого вещества в живое, но не одухотворённое. То, что обычно называют волшебством, но не чародейством. Надеюсь, всякому известно это тонкое различие – сродни родственным отношениям между пинией, сосной и криптомерией. Темечко моё разогрелось от зрелищ и покрылось липкой испариной, было 3 часа ночи.
Валерик гремел тазами в ванной и бил крышкой унитаза, или наоборот. Впрочем, это уже было не важно, ибо я проснулся и смаковал подробности сна. Лента была подобна голливудской фантастике с русскими боевыми кличами «Вперёд!», «Ура!» и кричалками в виде песенных шлягеров с разоблачительным антисоветским пафосом в несколько смягчённом варианте. Сон, в который можно входить и выходить, как через незапирающуюся дверь. Тут люди так и живут – не воинственно и не агрессивно, подбадривая и настраивая друг друга на деторождение. Люди, у которых память не держит ничего лишнего из прошедших дней и лет, а значит, и обид, злых дел. Они помнят ягодные места в лесах и тундре, где растёт морошка – где белая, где жёлтая, где красная – клюква, брусника, клоповка, и как ловится рыба в реках и морях.
Старая Анива. Школьные фотографии меня изрядно потрясли и, как вы поняли, возбудили вполне определённо. Встречи с Верками и Таньками детства, ныне в разной степени прихрамывающими и слепнущими старушками, завели меня в дебри детского эротизма. Возлюбил их как мамочек. Запахло резиновыми молочными сосками, надетыми на бутылочки.
Проснувшись и закурив, Юра сказал вместо приветствия: «Живи и дай жить другим…» – «Вот незыблемый принцип безответственности, ибо ответственный человек всегда найдёт кого убить», – завершил сентенцию я и пошёл к дверям за чем-нибудь к чаю… На улице слышу крик из форточки:
– Стой, ты не туда идёшь, «Флотский» за углом направо, рядом. Что, голова кружится?
– Да, я испытываю эстетическое чувство голода, – мысленно ответил я другу и скорректировал курс.
* * *Нет, тут «система буравчика» не действует, тут работает дырокол! Эта система вам плеши пробуравит и проколет, и запротоколит – подпишет и прошьёт. Не знаешь, где она родилась? Не на Сахалине? Нет? Ах, она из Египта до нас дошла. Господи, прости меня! Так хочется материться. Всех и всё пронзила бюрократия. И никакой демократии не осталось, даже мифической античной, даже пролетарской. Одна только свобода трепаться да свобода от мыслей.
Валерик: