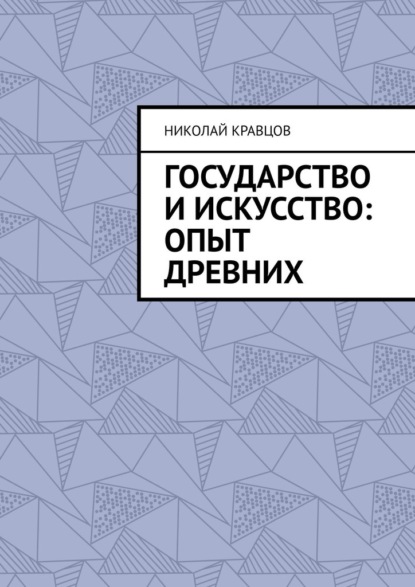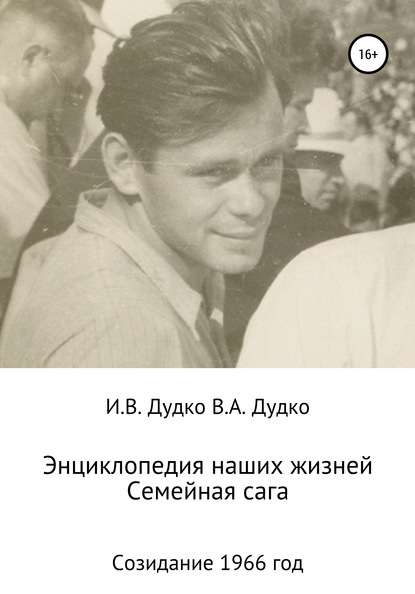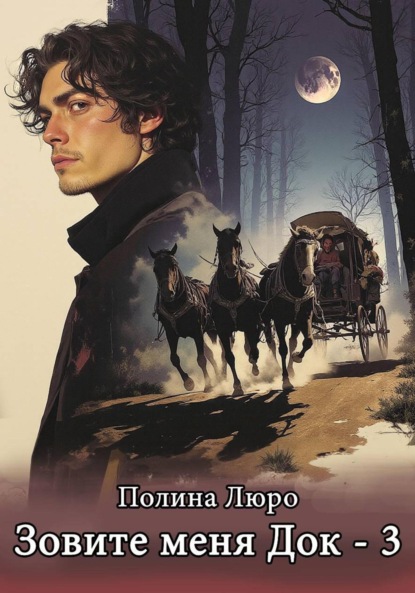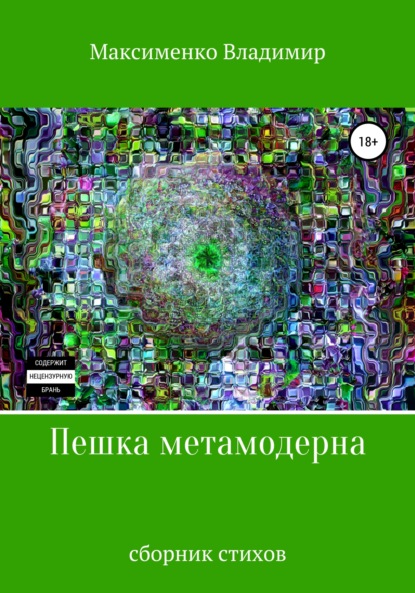- -
- 100%
- +
При этом представляется знаменательным сам факт, что именно эти школы интересовались вопросами искусства, в то время как, школы, не занимавшиеся политико-правовой проблематикой, одновременно игнорировали и проблематику искусства.
Школа даосов прошла долгий путь – от негативного отношения к искусству, как явлению бесполезному и суетному, в работе основателя, Лао Цзы – до абсолютного признания общественной ценности искусства в памятниках позднего даосизма. Уже Чжуан-цзы признавал искусство необходимым для построения подлинной социальной гармонии. Эта мысль получила развитие в знаменитом своде даосской философии «Люйши Чунцю», в котором содержалась концепция построения общественной структуры и чиновничьего аппарата в соответствии с принципами музыкальной гармонии. Это тем более интересное обстоятельство, что аналогичная (хотя и несопоставимо менее развитая) теория будет разработана в Европе только в эпоху Возрождения (в «Шести книгах о государстве» Жана Бодена). Фактически, в указанном даосском памятнике, законам музыкальной гармонии придаётся то же значение, которое европейские мыслители придавали принципам естественного права. Авторы свода признают органическую связь между состоянием искусства и состоянием государства. Они требуют наличия обязательного художественного образования у правителя государства.
Школа конфуцианцев, в отличие от даосов, изначально пришла к пониманию положительной социальной роли искусства, и на этой основе пришла к формулированию теоретических концепций принципиальной важности. Основатель школы, Конфуций, как известно, придавал ритуалу значение основного социального регулятора. И, поскольку ритуалы всегда носили в себе важную эстетическую составляющую, неизбежным было понимание конфуцианцами органической связи между эстетической и социальной нормативностью. В связи с этим мыслитель ратовал за обязательное изучение искусств аристократами и признавал прямое соответствие между состоянием искусства и общественной жизни. Другой классик конфуцианства, Сюнь-цзы, прямо трактовал искусство, как регулятивную систему, равнозначную в своём значении ритуалу и закону. Ему же удалось выделить социальные функции искусства: регулятивную функцию, функцию социальной стратификации, функцию формирования необходимых эмоциональных состояний, утилитарную функцию, функцию охраны (общей) добродетели, нравственно-ориентирующую функцию, функцию прославления и поддержания добродетельности правителя, функцию услаждения органов чувств правителя. Значение искусства в общественном регулировании понимал и третий крупный конфуцианец – Мэн-цзы. Он, в отличие от предшественников, трактовавших искусство, как достояние, главным образом, правящего класса, рассматривал его (чуть ли не впервые в истории общественной мысли) как общенародное достояние. В конфуцианской исторической хронике «Цзо Чжуань» также проводилась мысль о взаимообусловленности художественной и социальной гармонии. А в знаменитом конфуцианском своде «Ли цзы», разъясняющем смысл и последовательность ритуалов, содержится концептуальное понимание социального регулирования, как совокупности систем морально-религиозного, эстетического, политического и правового регулирования. В этом же источнике в предельно чёткой форме излагается концепция соотношения между состоянием государства, состоянием музыки, состоянием управления и настроением народа. Кроме того, приводится чёткая концепция бытия социальной гармонии в соответствии с музыкальной гармонией. В этой концепции каждому из пяти тонов китайской пентатонической гаммы соответствует некоторый социальный институт, причём расстройство тона неизбежно влечёт за собой негативные последствия, как эстетического, так и социально-политического порядка. Более того, согласно «Ли цзы» политическая практика основывается на политической теории. Та, в свою очередь основывается на музыкальной теории. В основе последней лежит акустическая система. А она базируется на природных началах.
В отличие от предыдущих школ, моисты оценивали политическую роль искусства резко отрицательно. Исходя из чисто экономического подхода к жизненным ценностям, они видела в искусстве лишь расточительство. А, поскольку, моисты принципиально отрицали всё, чему симпатизировали конфуцианцы, отрицали они и ритуал, вместе с его художественной составляющей. Аналогичную позицию заняли легисты. Поскольку искусство очевидно не входит в предписанный ими народу круг занятий – земледелие и война – оно излишне, и лишь «способствует распущенности нравов».
Прочие народы Востока
Если об отношении к искусству и его деятелям в государствах древних египтян, евреев, индусов и китайцев мы имеем относительно многочисленные сведения, то гораздо сложнее обстоит дело, когда речь идёт о других цивилизациях Востока. Здесь сведения либо отсутствуют вовсе, либо отличаются крайней фрагментарностью.
Полулегендарный характер носит вообще любая информация о народе гиперборейцев. Они почти неизвестны нам, а по поводу статуса искусства в их государстве обнаруживается одно-единственное свидетельство Диодора Сицилийского. Подавляющее большинство античных авторов располагает их цивилизацию на севере. Однако указанный автор рассказывает о них именно в разделе, посвящённом народам востока. Диодор пишет, что гиперборейцы чрезвычайно почитали Аполлона и всенародно воспевали ему гимны. Более того, они посвятили богу целый город. Этот город был полон музыкантов, которые непрестанно воспевали добродетели и благодеяния бога. Никаких гарантий надёжности этих сведений, разумеется, не существует. Тем более что речь идёт о Диодоре – авторе чрезвычайно неразборчивом и некритичном в отношении источников информации. Но если мы предположим, что в указанных сведениях (которые на сегодняшний день никто не может, ни подтвердить, ни опровергнуть) содержится истина, то перед нами вырисовывается любопытная картина. Всенародное воспевание гимнов богу требует широкого распространения хотя бы элементарного музыкального образования. А это даёт возможность предположить, что обучение народа основам искусства пения могло носить государственно-организованный характер. Информация о городе, полном музыкантов, приводит к той же мысли. Причём, можно также предположить, что упомянутые музыканты были юридически свободными лицами. Трудно укладывается в голове мысль о том, что в город, посвящённый самому почитаемому богу, были согнаны для его непрестанного воспевания рабы. Наконец, в общем, представляется, что общество гиперборейцев высоко ценило, по меньшей мере, музыкальное искусство. Иначе появление сведений, приводимых Диодором (даже если они ложны) было бы в принципе невозможным.
Совершенно ничего не известно об общественном положении деятелей искусства в Персии. Это притом, что сами образцы персидского искусства широко известны и впечатляющи. Единственное указание, которое нам удалось обнаружить, содержатся в знаменитом трактате «Пирующие учёные». Его автор, Атеней, приводит описание царского обеда в Персии, во время которого конкубины царя поют и играют на музыкальных инструментах. Возможно предположить, что в Персии музыкальное образование царских наложниц было таким же государственно организованным делом, как воспитание гетер в Индии.
Не лучшим образом обстоит дело и с цивилизацией хеттов. Дошедшие до наших дней хеттские законы практически не содержат никаких сведений на этот счёт. Единственный их фрагмент, содержащий хоть сколько-нибудь полезную информацию, гласит:
«Если кто-нибудь слепит человеческое изображение из глины, то это колдовство и подлежит суду царя.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.