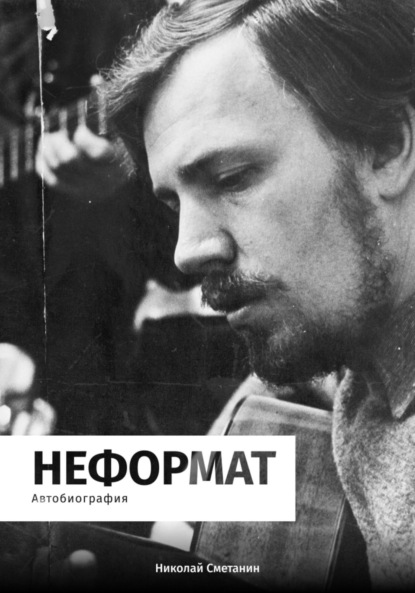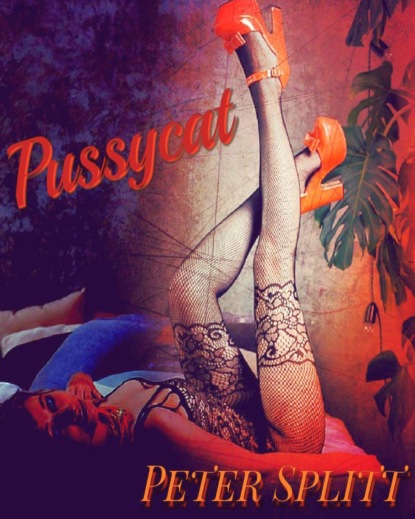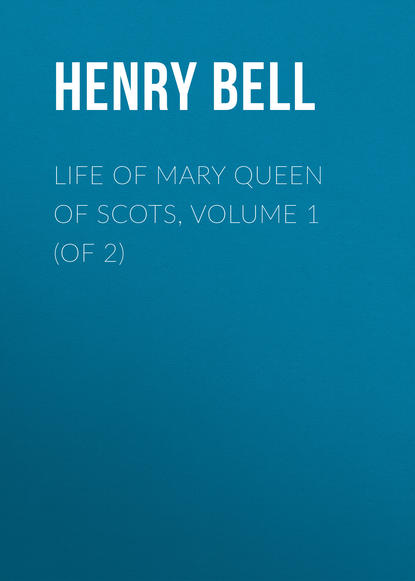- -
- 100%
- +

«Счастливая случайность – просто псевдоним Бога»
Альберт Эйнштейн
Глава 1.
Мне всё дороже, всё родней…
Вспоминаешь раннее детство, и жизнь представляется долгой дорогой: идёшь по ней день за днем, но вдруг запнулся, упал, например, – вот уже и событие случилось. Жизнь ведь из мелочей состоит. Бывают какие-то и крупные события – как большие и тяжёлые камни… А то вдруг что-то очень счастливое случится и, наоборот, как солнышко путь осветит. А так, в основном, дорога выстлана мелкими камушками, и ты их забываешь. У меня раннее детство не складывается в какую-то цельную картину, оно состоит из эпизодов – такая мозаика, фрагменты. Я даже не помню, какие из них были раньше, а какие – позже. Просто что-то всплывает – это я помню, а дальше провал. Происходило тогда, видимо, что-то совсем обыденное.
Люди начинают помнить и осознавать себя в разные моменты жизни – кто-то с трёх лет, а кто-то с двух, с четырёх, с пяти. Моё самое первое воспоминание относится к 1953-у, когда мне было три года. Помню, как мы с бабушкой возвращались из детского садика на Сортировке, а жили мы в Пустошь-Боре. Тогда был такой маршрут: Сортировка – Пустошь-Бор. Автобусы эти, кроме номеров, имели наверху три разноцветных фонарика, и по набору цветов каждый знал, какой это номер маршрута. Я помню, наши фонарики светили жёлтым, синим и красным. Как вижу, что едет автобус, а наверху у него жёлто-сине-красные фонарики – это наш. И мы с бабушкой готовились к посадке. Мать мне потом сказала, это могло быть только в 53-м году, потому что потом такие автобусы ходили уже без огоньков, с одними номерами. Я даже немножко помню этот мой первый детский садик, куда меня водили в малышовую группу. И самое яркое – эти автобусные огоньки…
Баба Юля часто носила меня на закорках. Сама она была маленького роста, но на закорках меня носила совершенно без проблем. Я был «крайне мал», как говорил Остап Бендер. На остановке бабушка меня, конечно, ссаживала, когда мы поднимались в автобус или выходили из него, а потом опять брала меня на закорки.
Так же – на бабушкиной спине – я ездил и в Посадскую баню, там тётенька торговала газированной водой, с сиропом и без. Мыли меня в женском отделении. Помню, как бабушка несёт меня по улице Жиделёва, я смотрю на прохожих сверху, это так необычно… сюда сворачиваем, там – баня и большая очередь. А уж что там внутри было… Баня она и есть баня. Мне тогда была интересна только сама помывка – слишком горячо или не горячо, вот и всё, что меня заботило. А главное – чтобы поскорее в душ попасть, вот это уж удовольствие! Не говорю уж о газировке с сиропом.
Позже меня перевели в другой детский сад, на улице Калинина, поближе к тому месту, где работала моя мать. Там я был на круглых сутках – меня брали домой со второй половины дня субботы и на воскресенье. А утром в понедельник отводили опять на круглые сутки, потому что у матери нас было двое, а она одна, работавшая всю жизнь в три смены.
В этот детский садик мы часто ходили пешком. У меня же родители из деревни, для них пройти несколько километров в школу и потом из школы – это ничего не стоит, поэтому ходили пешком много и запросто. Мать привыкла с детства и даже любила пойти пешком – и деньги экономятся, их же немного, и автобуса вечно не дождёшься… О пользе ходьбы – тогда ещё такой агитации не было, только «Закаляйся, как сталь…», такого рода песенки, а трусцой никто ещё не бегал, не помню такого. Вместо физкультурников на улицах гораздо чаще можно было увидеть мужчин-калек – война-то недавно закончилась…
В этом детском саду у нас была молодая воспитательница, которая мне очень нравилась. Я хорошо помню, высматривал – тайком, конечно, – как она идёт. Это была моя первая, бессознательная влюбленность, хотя воспитательница была взрослой девушкой, не меньше 20 лет, я думаю. Она как-то особенно элегантно одевалась, примерно в таком стиле, как Мэри Поппинс в одноименном советском фильме. У неё было серое платье, не чёрное, а именно серое, тоже с белым воротничком. Потом, когда я увидел фильм о Мэри Поппинс, – прямо Вера Ивановна! С Верами мне везло, первая моя учительница была тоже Вера.
Я, как и многие дети, учился читать по вывескам, когда мы с матерью шли пешком по городу. Как Шариков читал: «АБЫР»… Остановимся, и мама спросит:
– Коль, смотри, что там написано? Какие буковки ты видишь?
– Иг-руш-ки… игрушки! Па-рик-ма-хер-ская… парикмахерская!
Я рано, лет с четырёх, наверно, начал читать вывески. Годам к пяти читал довольно сносно уже и книжки, как мне мать потом говорила, а в шесть лет меня даже воспитательницы просили в детском саду читать детям.
– Коль, почитай ребятам, а мы пока тут посидим, отдохнем.
Они там сидят, болтают негромко, а я читаю. Плохо ли? Да и гордость меня так и распирала! Кто-то из детей лежал, кто-то сидел в начале тихого часа, а я читаю, чтобы они засыпали. Мне очень нравился сам процесс – я им читаю, а дети меня слушают. Наши педагоги говорили:
– Ты, Коля, читай с выражением!
Вот я и старался им подражать. Книги были про Буратино, Чиполлино, русские сказки, простенькие истории и стихи, конечно: Агнии Барто, Сергея Михалкова, Самуила Маршака, Корнея Чуковского – словом, всё, что тогда было положено читать в детских садах.
Мама… Конечно, мама – это, прежде всего, детство. А детство – это, прежде всего, мама. Ну да, бабушка меня водила в садик, и на закорках носила, но мама – это нечто особенное. Когда её увидишь, так что-то даже поднимается внутри… Помню самую первую поездку в пионерский лагерь, первый день посещения, я в толпе выглядываю маму. Вот увидел её лицо – оно настолько родное, именно родное, другого слова не подберёшь.
Моя мама, Екатерина Александровна Сметанина, овдовела очень рано, её муж, Николай Михайлович Сметанин, умер от ревматизма 27-и лет от роду в 1952-м, когда мне было полтора года, и она осталась одна с двумя сыновьями.
Послевоенная жизнь была трудной, как и у многих других обитателей нашей окраины Иванова – выходцев из окрестных деревень, трудившихся на фабриках и заводах, потерявших кормильцев, в том числе, на фронтах Великой Отечественной. Нам помогала бабушка Юля, которая была, между прочим, персональным пенсионером, она получала очень неплохую по тем временам пенсию – рублей сорок, сравнимую даже с фабричной зарплатой. Баба Юля могла бы жить и с другой своей дочерью, Валей, но у нас было свободнее: там детей-то четверо, шумно очень, а у нас два пацана, которые всегда гуляют на улице, – я и Вовка.
Помню, мама знала, что я очень люблю ириски «Золотой ключик». Ну, ирис «Забава» – это было бы еще лучше, но он стоил четыре рубля за килограмм, а этот – два рубля семьдесят копеек. Хорошо помню, когда я был в детском саду на круглых сутках, после тихого часа выбегал в раздевалку, открывал шкафчик, совал руку в карман пальто – а там ириски! Это мама за время перерыва успела прибежать с работы, с фабрики Крупской, положить мне в карман конфеты, порадовать меня ирисками, чтобы мне не было там так уж одиноко. Специально прибегала. Не каждый день, но…
Хорошо помню её характер. Если она была бы парнем, то можно было бы назвать её «рубаха-парень». Мама, работая слесарем по увлажнению на фабрике имени Крупской, получала маленькую зарплату. Получит, бывало, мама зарплату и накупит всякой вкусной еды, всё, что мы любим, не пожалеет денег. Был у неё такой вот щедрый характер! Купит, например, халву – не подсолнечную, а тахинную обязательно, 600г – она же знает, что Колька любит тахинную. Вовке всё равно, что за халва, он сладости не очень-то любил – он «колбасник». А мне колбасы даром не надо, я любил молоко и конфеты. Молоко – это моя самая любимая еда. Мог на молоке с мягкой городской булкой прожить хоть неделю. А Вовка, мой брат, любил мясо. Как он обгладывал кость из щей – до последнего кусочка мяса, выскребывал, вилкой выковыривал, тщательно высасывал и стучал, чтобы оттуда выскочило нечто особо вкусное, если эта косточка мозговая. И рыбу обгладывал до голого скелета, включая головы. Он и мать – мясоеды. А я молочник, весёлый молочник, как сказали бы сейчас.
Однако на самом деле я не очень весёлый был в детстве, плакал часто, по общим отзывам, и я сам это хорошо помню. Я так-то весёлый был, шустрый, всё нормально, но у меня всегда глаза оказывались на мокром месте, и не потому, что меня, например, пнули по ноге, и я заплакал от боли, это понятно. Но стоило меня чем-нибудь обидеть, словом, например, – от одной обиды я мог заплакать. Причём не специально, мол, дай-ка я зареву, а просто слёзы сами начинают катиться из глаз, и всё. Или я смотрел какое-нибудь кино, там был трогательный момент, и я ревел, просто ревел. Мама тоже могла заплакать в кино, как и я.
Моя мама родом из деревни Дьяково, а в школу ходила, как и другие дети, в Авдотьино – каждый день четыре километра туда и столько же обратно. Мама училась хорошо.
В 38-м году бабушка Юлия Васильевна переехала в Иваново, в частный дом к своей старшей сестре, которая уже была очень пожилая, ей требовался уход, вот она и позвала свою сестру Юлю с мужем. Они взяли с собой дочек Валю и Катю, тогда еще незамужних, остальные дети были уже постарше. Мама училась в 37-й школе, в той же, в которую впоследствии поступил и я, окончила полную десятилетку с четвёрками и пятерками, собиралась поступать в медицинский институт, у неё была такая мечта. Но…
Это был тот самый случай, который мы в кино видели не один раз. Мама окончила школу именно накануне войны, она получила аттестат 21 июня 1941 года, была выпускницей последнего мирного дня. Она собиралась на следующий день подать документы в медицинский институт, но её папа, истинный большевик Ноговицын Александр Фёдорович (кстати, в прошлом председатель колхоза, потом, когда они переехали в Иваново, он был уже просто пенсионером, пожилым и довольно больным человеком), сказал:
– Катя, учиться потом будешь, а сейчас стране нужны снаряды, началась война, и мы все будем работать на Родину. И мама моя всю войну делала снаряды на заводе им. Королёва – для фронта, для победы. Когда в 1945 году вышла замуж, уже не до учёбы стало. Так мечта её и не сбылась.
Мама была мудрым и неунывающим человеком, любила петь. Люди к ней тянулись, как к магниту. Она умела сочувствовать. Вот где-то хоронят знакомых, на той улице или на другой, она обязательно на эти похороны пойдет, придёт вся заплаканная оттуда. И ей помогали, потому что вся улица знала, что она одна, вдова, двоих пацанов воспитывает. Мужики помогали: кто крышу починит, кто подправит наши сени, они там сели на одну сторону… Община такая существовала, исконный российский деревенский уклад жизни.
Люди в нашем краю – Минеево, Пустошь-Бор – вышли из окрестных деревень и сохранили деревенскую духовность, привнесли ее с собой в город. Думаю, и другие городские окраины жили так же. Все были приезжие, как в фильме «Москва слезам не верит». И они, по сути дела, постепенно создавали духовную атмосферу города Иваново, а сами, в свою очередь, усваивали городской быт. Почти все работали на фабриках или заводах.
Другая черта характера моей мамы – врождённая деликатность. Вот один из примеров этого её качества. Отец бабушки Юли, мой прадед Василий, шуйский мельник, выстроил дом в Иванове, в местечке Пустошь-Бор, для другой своей дочери. Я уже не помню точно её имя – то ли Анна, то ли Лиза. Она тогда еще молодая была, и её отец думал, что она там замуж выйдет и детей родит. Но она до старости так и прожила в этом доме одинокая, детей у неё не было. Она завещала всё моей матери, но – на словах, поскольку была неграмотная. При бабушке Юле и при других членах семьи не раз говорила, что весь дом, мол, завещает Кате, поскольку Катя у неё любимица была, любимая племянница. Она, как солнышко, войдет и споет или спляшет, без расчёта, её никто не учил этому, всё с улыбкой, с добром в душе. «Ой, Катенька, посиди со мной!» – тетка часто звала мою мать к себе. И говорила много раз: «Я весь дом завещаю Кате. Это моё такое желание, это мой дом». Потом эта бабушкина сестра умерла. А Юлия Васильевна, будучи матерью и Кати, и Вали, сказала:
– Что хотите со мной делайте, пусть я даже нарушу волю сестры, но, в общем, пустим Валю с семьёй. А где им жить? Смотри, у них с Тимофеем уже двое детей, может, и ещё будут, куда они пойдут жить?
Валя с мужем-инвалидом и детьми поселилась в задней половине этого же дома. А Катя с Николаем, двумя сыновьями и своей матерью – в передней части, что по площади-то даже поменьше. Тогда ещё мой отец был жив. Мать даже какое-то время обижалась на Бабу Юлю, свою мать, ведь при ней же было сказано, что дом завещан ей, Кате…
Позже сестры частенько ссорились между собой по этому поводу, но мать никогда сор из избы не выносила. Дело в том, что Вова и я всегда дружили с двоюродными братьями Герой и Лёней, а также с сестрой Лидой. Я особенно был дружен с Лидкой, мы с нею погодки, брат Вовка – больше с Геркой, он на год моложе моего родного брата, то есть с 47-го, и с Лёнькой тоже, он мне ровесник. Витька еще маловат был, он с 53-го. Все четверо детей уложились у них в шесть лет.
– Вот одноногий стругает! – говорил сосед, смеясь. – Сколько у вас ещё детей-то будет?
Я в детстве всегда думал, что мама и тетя Валя никогда не ссорятся.
– Ты что – не ругаются! Еще как ругаются! Просто она не хочет, чтобы мы слышали это, – тайно сообщал осведомлённый Вовка.
Мать никогда в присутствии детей не говорила даже о самом факте раздора с сестрой. Я узнал об этом много позже, мама рассказала:
– Они-то что сделали! Я ведь думала, ну ладно, мы потерпим, пока им не дадут квартиру, Тимофей – инвалид войны, ему положено. Я поделилась с ними, понимала же, что надо им где-то жить. А теперь у них есть своя жилплощадь, лучше моей, со всеми удобствами, да она еще на этом «наварила» – на нас, фактически. А у нас что? Я одна с двумя детьми, я хоть квартирантов пустила бы, всё деньги какие-то.
Тете Вале и дяде Тимофею, действительно, дали в начале 60-х годов квартиру на улице Индустриальной, в доме номер 20\17 – две больших комнаты из трёх (в третьей, самой маленькой, жили бездетные супруги). У них была ванная, был туалет в квартире, все удобства. То есть они получили жильё, и казалось бы, должны были просто съехать. Все же помнили, что владевшая домом тётка говорила: «Дом завещаю Кате!» А Валентина взяла и продала ту часть дома, где жила, чужим людям, и даже деньгами не поделилась… Вот это самое обидное для мамы было. Ну, получила ты площадь, деньги всем нужны, понятное дело, но ты же помнишь, что это не твоё. И у моей матери хватало деликатности не посвящать в свои обиды детей. Мы же с детьми-то тети Вали дружим, зачем между нами сеять раздор? Что, Монтекки и Капулетти? Она видит, что нам весело, нам хорошо, и слава Богу. Но между сёстрами надолго пролегла, действительно, большая несправедливость. Есть на что обижаться, как говорится. Потом всё это сгладилось, забылось…
Мать рассказывала:
– Мы когда в город переехали, так тоскливо сразу стало. У нас в деревне чуть не каждый день вечорки были. Мы уходили на берег речки, там был гармонист, из соседней деревни приходил, он нам играл, у нас там пляски, песни, игры разные, в «колечко», например…
Вот сейчас люди живут разобщённо в многоквартирных домах, соседей едва знают, так и у переехавших в город из деревни такой же перепад был, хотя они жили дружнее, чем мы сейчас. Мама скучала по родным местам, по весёлым вечоркам, да и по молодости безоблачной, ушедшей…
Мать, бывало, ходила «ряженой» на чужие свадьбы. Её всегда зазывали, потому что она везде споет, всегда спляшет, заводная такая, непременно какие-то простыни, какие-то тряпки навяжет, с костылем каким-нибудь, нос большой наденет, свеклой намажется и обязательно во всех этих шествиях и частушках поучаствует. Святое дело! Придут специально пригласить её: «Катька, а ты придешь? А то кому же петь-то? Я вот один куплет, может, и знаю, а дальше-то не знаю ничего, а ты все куплеты всех песен знаешь. Да и пляску кому завести без тебя?» Мама как массовик-затейник была, любила веселье. Она же не за деньги после ночной смены отплясывала, а просто ради радости жизни. Тяжко ей приходилось, вдовья доля горькая, можно и скиснуть. А если веселья добавлять, то получается вроде и ничего, терпимо. Живём пока, не помираем.
Итак, я был в детском саду на круглых сутках. Меня забирали домой в выходные дни. В те года, ещё дошкольные, я хорошо помню, по выходным у нас дома обязательно устраивали застолья. Приходили соседи, квартиранты, а это были, как правило, лётчики и обслуживающий персонал с Северного аэродрома. Военного городка тогда ещё не было, и они снимали жильё в округе аэродрома, того самого, где формировалась в годы Великой Отечественной войны легендарная эскадрилья «Нормандия – Неман».
Хотя в нашей половине дома была всего одна комната вокруг печки, но, тем не менее, мать пускала до трёх человек квартирантов, потому что нужны были деньги. Я хорошо помню, что у нас жили муж с женой, отгорожены были фанерой, как в общежитии имени монаха Бертольда Шварца в «Двенадцати стульях». Отдельный, самый большой закуток, как комнатка, был для матери и бабушки, там же жил Вовка, он на раскладушке спал, а бабушка – на каком-то диванчике, узеньком таком, неприхотливая она была.
Мать спала на кровати с шарами. Как это всё там помещалось?! Я неизменно спал за печкой, как сверчок, это было моё излюбленное местечко. Перегородка глухая, до потолка, я засыпал там, что бы взрослые ни делали. Нормально.
Почти все старались пускать квартирантов – в основном это были холостые молодые мужчины, работавшие на Северном аэродроме. Тогда эта теснота никого не раздражала и не удивляла, потому что все так жили в послевоенные годы – бедно, дружно, весело. У тети Вали, маминой сестры, было четверо детей, а они с мужем тоже квартирантов пускали, потому что и им тоже нужны были деньги. Да и квартирантам надо было где-то жить.
Помню, например, Нину и Галю, работавших на фабрике, такие красивые были девушки. Они потом от нас съехали. Хорошо помню военного квартиранта – молодого, красивого мужчину Ави Ивановича. Ави – так было в паспорте, я тайком посмотрел. Но я его называл просто дядя Аля, он снимал угол у нас довольно долго, они с матерью как-то ужились вдвоём.
Он был страстный рыболов, поскольку родом с Кубани, и меня к рыбалке приучил. К раме своего велосипеда дядя Аля привязывал удочки, сажал меня на раму, и мы с ним отправлялись на Красотку, есть такая речка около Красносельского, через неё перекинут железнодорожный мост. Вот на эту Красотку он и любил ездить. Или рыбачили на Талке, если времени было мало, тогда там ещё рыба водилась: довольно крупная плотва иногда попадалась, окуни, пескари, гольяны, даже карпы. А ещё там было много «сикилявок», то есть совсем мелких рыбёшек. Забросишь немудрящую самодельную удочку, и они сразу же клюют, моментально, верхоплавки эти. А какое удовольствие! Мне было лет пять или шесть, может быть, а уже рыбу ловил! Как шутил дядя Аля: «Маленьких-то мы выбрасываем, а больших складываем в спичечный коробок».
Еще дядя Аля тогда же приучил меня ловить шаранок. Это майский жук, но у нас, в Пустошь-Боре, как и во всём Иванове, их называли шаранками. В мае их вылетало немыслимое количество. Мы их выпускали из-под парты на уроках, этих майских жуков, но это уже попозже было. Они в коробке царапаются, шуршат… Я их обожал просто! Они же безобидные, не кусаются, такие милые, какие-то гладенькие, симпатичные, с усиками. Не так давно я как-то поймал и дал такую шаранку внуку, а он боится. Я говорю:
– Не бойся, открой ладошку, вот я тебе положу в ручку.
Положил. Он стоит, на меня смотрит со страхом.
– Ты ручку-то закрой, шаранка там будет тихонечко царапаться, но не больно, а просто она так передвигается.
Ему стало щекотно, и он скорей её выбросил. В общем, пока он не привык к шаранкам, а внучка – и подавно, она ещё малышка.
А мы ловили майских жуков, я даже не помню, с каких времён. Это целый спорт! С вечера, в сумерках, они поднимались с земли, и сразу слышно жужжание. Видимость уже плохая, но когда они летели на фоне неба, их хорошо было видно. Пока они поднимались, их уже можно было поймать, потому что разворачивались медленно – пока крылышки расправят, пока то да сё. Правда, это редко удавалось – у земли их было хорошо слышно, но почти не видно. А когда они поднимались повыше, мы гонялись за ними, как сумасшедшие! Но чаще их ловили уже утром, когда они спали в листве берёз: сбивали вениками, швабрами, деревья трясли. Кто-то брал метлу или голый веник насаживал на шест и сбивал шаранок наверху. А по толстым берёзам – там, где в коре были проплешины – просто лупили большими камнями. Шаранки срывались с листьев и, не успевая очнуться, падали в траву, а мы потом ползали, искали: большие усы – самец, маленькие усики – самка. Так было интересно, когда спрашивали:
– У тебя сколько?
– У меня семнадцать, а у тебя?
– А у меня – двадцать пять!
Жуков сажали в банки, траву и листики туда закладывали. Чем майские жуки питаются? Листиками. И они жили в наших банках или коробочках несколько дней, потом вялые такие становились, приходилось выбрасывать и ловить новых.
Позднее я узнал, что они вредители, но я к ним испытывал только самые нежные чувства, и до сих пор я их люблю. Они какое-то количество листьев, наверно, съедали, но больше приносили все-таки радости нам, детям, чем вреда природе. Я не видел, по крайней мере, голых деревьев, без листьев, этого у нас никогда не было. А теперь голые деревья можно встретить, но не из-за шаранок, кстати, не из-за майских жуков, или хрущей, как их еще называют. Когда они скребутся в коробке, то хрустят. Вероятно, майских жуков так называли, чтобы обозначить их вредность – хрущ, он хрущ… Что-то агрессивное в этом слове, а шаранка – что-то такое приятное. Для меня они всегда остаются шаранками, такое ненаучное название, детское, ласковое.
А дядя Аля потом уехал к своей матери, в Темрюк. Уже много-много лет спустя я был там, пытался разыскать его, я знал адрес, но адрес этот оказался старым, а дядя Аля переехал куда-то…
Глава 2
Мостик к былому
Мой дед по материнской линии, Александр Фёдорович Ноговицын, родился в деревне Дьяково близ Иваново-Вознесенска, в большой и бедной семье. Он выбрал путь революционной борьбы, с начала 1900-х стал большевиком. Его родная сестра, Мария Фёдоровна Наговицына, впоследствии Икрянистова по мужу, – выдающаяся революционерка, депутат Первого Иваново-Вознесенского общегородского Совета с 1905-го года. Ей поставлен бюст в аллее мемориала на реке Талке, посвященного первой русской революции. Она позже уехала в Москву, и я никогда не видел её лично. Просто знаю, что дедушкина сестра – выдающийся человек. Были и такие герои, это было их время, их выбор. Они шли в революцию совершенно искренне. У Марии Фёдоровны была партийная кличка «Труба». Почему? Потому что она зычным голосом всегда говорила, не боялась шпиков. Кто-то нашёптывал, а она всё громко вещала. Её и хватали, и арестовывали, но, тем не менее, конспирации она не признавала никакой. Мне рассказывали, что ещё в дореволюционное время Мария Фёдоровна, работая в московской типографии, в присутствии посторонних людей могла спросить у хозяина, который тоже был тайный большевик: «Товарищ, где у нас метла?». А ведь «товарищ» – это значит большевик, подпольщик.
Деревня Дьяково славилась тем, что там был настоящий «рассадник» большевизма, многие жители были настроены революционно, в том числе и семья деда. В их доме большевики устраивали тайные собрания, там бывали А.Ф. Афанасьев, М.В. Фрунзе и другие революционеры. Чуть ли не в каждой второй избе деревни Дьяково работала небольшая типография, на весь город они печатали листовки и просто воззвания всевозможные, перепечатывали ленинскую «Искру», носили в город, распространяли. Этим в молодости занимался и мой дедушка, он тоже ходил в Иваново-Вознесенск и распространял прокламации. Там он и познакомился с девушкой Юлей, которая была родом из Шуи, из зажиточной семьи мельника. Я много раз спрашивал у матери, как же они решились соединить свои жизни, ведь вышли – то из разных слоёв общества? «Такая судьба».
Баба Юля рассказывала, что их дом и водяная мельница находились на берегу реки Тезы, они соседствовали через прогон, т.е. пыльную просёлочную дорогу, с имением господ БальмОнт. Тогда они так звались – БальмОнт, хотя теперь мы привыкли произносить БАльмонт. Сам Константин Бальмонт, великий поэт Серебряного века, в родовом имении редко бывал, в основном жил в Санкт-Петербурге или в Европе. Баба Юля вспоминала, что его шуйская семья была далеко не бедной.
Семья Александра и Юлии Ноговицыных… Вот как говорить о предках? Я лично с прадедом и другой роднёй по бабушкиной линии не был знаком, знаю только, что звали его Василием, поскольку бабушка моя была Юлия Васильевна. Для меня бабушка была Ноговицына – по мужу. А в девичестве она была Мочалова, у нас сохранилась подписанная фотография её матери Марии. Вся родня бабушки Юли осталась в Шуе, она туда больше никогда не ездила с тех пор, как её, 15-летнюю, отдали «в люди». В центре Иваново-Вознесенска, примерно в районе 30-й школы, она работала домашней прислугой у господ.