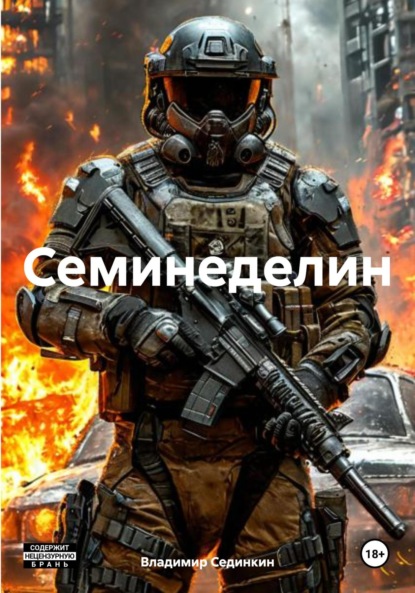- -
- 100%
- +
Ты осознаешь: то имя, которое он произносил, – твое настоящее имя, но не то, что можно написать. Это имя не нуждается в звуке. Оно – ритм твоего сердца. Когда ты слышишь его, мир становится прозрачным, словно всё вокруг – отражение твоего дыхания. В нём нет расстояния между тобой и тем, кто звал.
Ты снова идешь, но теперь уже без страха. Шаги мягкие, как дыхание земли. Ты знаешь, что дорога не закончится, потому что она – ты. Голос больше не зовёт: он живёт в тебе, как пульс, как тихое «да» всему, что происходит. И теперь каждый новый звук мира, каждая встреча, каждый взгляд – это всё тот же отклик, продолжающий первый.
Ты вспоминаешь начало – тот миг, когда тьма впервые моргнула. Тогда тоже что-то позвало свет наружу, и он пошёл. Теперь это повторяется в тебе. Всё, что было когда-то между Тьмой и Светом, теперь происходит между тобой и голосом. Ты – мост между молчанием и словом, между безымянным и именем.
С каждым днём ты слышишь этот зов всё яснее. Он больше не тревожит, а успокаивает. Он становится привычным, как дыхание во сне. Иногда кажется, что он уходит, но это не исчезновение, а пауза – мгновение, когда жизнь делает вдох, прежде чем сказать следующее слово.
И вот ты понимаешь: звал тебя не кто-то и не куда-то. Звал сам путь. Жизнь звала к себе, чтобы ты стал её продолжением. Звал свет, чтобы через тебя вновь увидеть мир. Звал Бог, чтобы вспомнить себя в человеческом голосе. И всё это одно и то же.
Ты идёшь дальше, потому что теперь знаешь: дорога – это форма любви. Голос – это ее язык. И каждый твой шаг – это ответ на вечное приглашение быть.
Вечером, когда солнце садится, ты слышишь тишину. Она не пугает, не давит, она просто есть. И где-то в этой тишине снова звучит то самое имя, но теперь ты не ищешь его смысл. Ты улыбаешься и шепчешь в ответ: «Да». И мир отвечает тем же шёпотом.
Тьма снова моргнёт, и всё начнётся заново. Но теперь ты не потеряешься: ты знаешь голос. И, может быть, когда он позовёт в следующий раз, ты узнаешь не только звук, но и того, кто зовёт.
Ты долго стоишь на месте, будто мир ожидает твоего решения. Всё вокруг тихо, как в ожидании слова. И тогда ты произносишь его – не губами, не языком, а внутренним движением. Это не ответ, а признание. Слово короткое, простое, как дыхание: «Да». Оно не несёт смысла, но от него начинает светиться всё вокруг – будто само пространство услышало тебя и согласно.
Ты снова идёшь. Земля стала плотнее, шаги – увереннее. Теперь ты не ищешь направление: куда бы ни повернулся, всё ведёт в нужную сторону. Каждый изгиб тропы становится напоминанием о чём-то уже прожитом. Даже случайные камни под ногами кажутся знаком, что кто-то прошел здесь до тебя.
В какой-то момент тебе приходит мысль, что, возможно, ты идёшь по внутренней дороге – не по земле, а по своему же сознанию. Каждое дерево – воспоминание, каждая тень – забытый страх, каждый луч – надежда. И голос, который ты слышишь, – не кто-то другой, а ты сам, но тот, кто жил здесь всегда, в глубине, под слоями тревог и имен. Он знал, что когда-нибудь ты вспомнишь, и ждал этого мгновения.
Путь ведёт тебя к воде. Это не река – скорее зеркало, настолько неподвижное, что кажется, будто само время остановилось. Ты подходишь ближе и видишь отражение. Оно похоже на тебя, но не полностью. Лицо мягче, взгляд спокойнее, словно в нём нет ни возраста, ни усталости. Ты не узнаешь себя – и вдруг понимаешь, что именно это и есть узнавание. Тот, кто смотрит на тебя из воды, – это и есть голос, зовущий по имени. Он всегда жил в отражении, просто ты не решался посмотреть достаточно долго.
Ты опускаешь ладони в воду – и она теплее воздуха. В этот момент всё вокруг растворяется: лес, небо, ветер. Остаётся только звук воды и биение сердца. Ты не думаешь, не называешь, не объясняешь. Просто слушаешь, как внутри тебя звучит мир. Голос больше не отделен – он разлился по всему существу, как свет по утру.
Теперь ты знаешь: имя, которое он шептал, – не слово, а состояние. Его нельзя произнести – можно только быть им. Когда ты есть, имя звучит само собой. Оно не обозначает тебя, оно – ты. Оно не зовет – оно дышит.
Ты долго сидишь у воды, пока небо меняет цвет, и замечаешь, что всё, что когда-то казалось внешним – ветер, птицы, шум листьев – теперь дышит с тобой в одном ритме. Мир больше не отделен. Граница между «я» и «не я» растворяется, как линия берега под приливом. И в этой растворённости появляется покой, который не нужно удерживать. Он просто есть.
Ты вспоминаешь путь, вспоминаешь голос, вспоминаешь себя. Всё складывается в одну мелодию, простую и древнюю, как пульс земли. Ты понимаешь, что зов был не для того, чтобы привести тебя к истине, а чтобы привести тебя к слушанию. Истина – тишина после голоса. В ней нет слов, но есть знание: всё уже случилось.
Когда солнце опускается к краю неба, ты поднимаешься. Тело лёгкое, будто лишено веса. В нем нет усталости, только теплая благодарность. Ты больше не ищешь путь – ты сам стал дорогой. Каждый вдох теперь – шаг, каждое сердце – дом.
Вечер медленно опускается на мир. В воздухе запах дыма и влажной земли. Тени становятся длиннее, но не страшнее. Тьма возвращается, как заботливая мать, чтобы укрыть всё живое. Она больше не враг – она покой. Ты слушаешь, как в этой тьме вновь рождается тот же голос, но теперь он не зовет. Он просто присутствует.
Ты улыбаешься. Впервые понимаешь, что всё это – дыхание одного и того же мира: зов, шаги, дорога, покой. И если однажды тебе снова покажется, что ты потерял путь, стоит лишь закрыть глаза и вдохнуть. Потому что в каждом вдохе живёт тот самый голос, зовущий по имени, которого ты ещё не знаешь, – и знать не нужно. Достаточно идти.
Ты идёшь – и мир идёт вместе с тобой. Путь больше не впереди, не позади, не под ногами. Он внутри. Каждый шаг теперь не измеряет расстояние, а лишь глубину присутствия. Ты чувствуешь, как каждая частица пространства подстраивается под ритм твоего дыхания. Всё течет через тебя: свет, воздух, ветер, мысли, память. И всё это – один и тот же поток, одна и та же волна, начавшаяся когда-то давно, в то мгновение, когда тьма впервые моргнула.
Теперь ты знаешь, что голос не исчезает никогда. Он не зовёт – он звучит всегда. Просто иногда ты слишком занят, чтобы его услышать. Но он ждёт. Он терпелив, как море, и мягок, как ночь. Он не упрекает, не требует, не напоминает. Он просто есть – всегда рядом, в глубине тишины, в промежутке между вдохом и выдохом.
Когда ты забываешь себя, он возвращает. Когда теряешь смысл – становится смыслом. Когда падаешь, он ложится под тебя землёй, чтобы смягчить удар. Он не покидает, потому что никогда не был снаружи. Он – в самом дыхании жизни, в пульсе, в движении крови, в каждом мгновении, где ты позволил себе быть.
Ты вспоминаешь, как всё начиналось: звук, похожий на зов, шаги в неизвестность, первая дрожь, первый отклик. Тогда тебе казалось, что кто-то другой ведёт тебя. Теперь ты знаешь – никто не вёл. Голос был твоим собственным эхо, отразившимся от неба. Ты звал сам себя, и это был самый верный путь домой.
Солнце окончательно скрывается за линией холмов. В небе остаётся только отблеск – тонкая золотая нить, соединяющая день и ночь. Ты смотришь на неё и понимаешь, что это и есть ты – тонкий мост между светом и тьмой, между зовом и ответом, между жизнью и её тишиной.
Ты садишься на землю. Трава прохладная, и её запах кажется древним, как память. Мир вокруг не требует больше слов. Всё уже сказано. Всё уже услышано. Осталось только быть.
И когда ты закрываешь глаза, внутри все еще звучит этот голос – не громко, не настойчиво, а как лёгкий шорох в глубине сердца. Он говорит то, что не нуждается в переводе: «Я здесь. Я был всегда. Я – ты».
И тогда наступает тишина. Настоящая, не пустая, а живая. В ней нет ни начала, ни конца. Только мягкий свет, разлитый в каждом атоме, и ощущение, что весь мир наконец сделал вдох и не спешит выдохнуть.
Ты улыбаешься. Потому что всё нашлось. Потому что теперь ты знаешь: звать – значит любить, а идти – значит помнить.
И голос, который звал по имени, которого ты ещё не знал, наконец становится тобой.
Глава 3. Молоко неба
Сначала всё – белое. Не цвет даже, а тепло, которое случайно стало светом. Оно не слепит, не доказывает, не требует, – просто лежит на веках и коже, как мягкое одеяло мира. Мир еще без контуров: ни углов, ни расстояний, ни границ между мной и тем, что не я. В этом белом – молчание, которое не давит; оно дышит размеренно, как дыхание того, к кому я тянусь, не зная имени. Мне не нужно знать. Мне достаточно тянуться.
Белый свет насыщен запахами. Они приходят раньше образов, как будто зрение – ленивый родственник обоняния. Запах тёплой кожи и молока, дыхания, в котором есть еле уловимая сладость, – всё это собирается в меня и удерживает, чтобы я не распался обратно в то спокойное ничто, откуда пришёл. Запах – первая рука, которая меня держит. Вторая – настоящая, пальцы, широкая ладонь, чуть шершавые подушечки – подталкивают меня к источнику, где мир обещает стать простым: «возьми, глотай, живи».
Я не умею открывать глаза. Точнее, открываю, но они ничего не понимают: вокруг – молочная глубина, и в ней растворены все будущие предметы, все их названия и нужды. Глазам нечего делать, пока не появится необходимость различать. Но рту – есть что делать. Рот – самый древний мыслитель. Он ищет, находит и отвечает: сосание – моя первая мысль, а глоток – мой первый согласный звук. С каждым глотком во мне поселяется уверенность, что мир – не ловушка, а повторяющееся чудо, и это чудо имеет вкус.
Тепло окружает со всех сторон: здесь нет сторон, но есть со всех. Я слышу, как сердце рядом работает вместо часов – его ритм, знакомый еще до рождения, удерживает меня на поверхности времени. Сердце не спешит, оно напоминает: «дыши», и я дышу. Вдохи сначала короткие, неровные, как шаг младенца по невидимому полу. Потом – глубже. С каждым вдохом пространство становится плотнее, будто мир, услышав моё «да», решает проявиться чуть отчетливее. Но пока – мягкость, непрерывность, молоко света, разлитое кругом.
Я плыву к источнику, и он плывёт ко мне. Между нами нет «между». Я ещё не умею хотеть, и потому мое желание – чистое движение. На языке – чуть солоноватое, теплое, густое; во рту – этот древний ритм, которому ничто не мешает: ни мысли, ни слова. В такие минуты я становлюсь целиком. Меня никто не позвал по имени, и всё же я откликаюсь так, будто слышу своё древнее. В этом отклике – доверие, которое не нужно доказывать. Его нельзя объяснить – только пить.
Иногда белый свет делается более плотным; он становится тканью, прикосновением, шарканьем материи о мою кожу. Ткань не холодна – она просто отмечает границу: «вот ты, вот остальное». Граница мягкая, и я могу её не замечать, если не захочу. Рука, по которой я узнаю мир, водит меня по этой границе: ладонь, запястье, предплечье, – всё это продолжение единственного тепла, что держит меня у груди. Я не знаю слова «мать», но знаю ее свет. Он не в лампе, не в окне – он в ней и во мне, в том, как наши дыхания подстраиваются друг к другу, пока исчезают паузы.
Снаружи – звуки. Они похожи на ветки, которые царапают воздух. Иногда тонкие и быстрые, иногда бархатные и длинные. Я не понимаю их смысла, но слышу, что в них нет опасности. Опасность – это резкость. Здесь всё кругло. Даже мой плач, если он случается, быстро становится кругом: его берут на руки, кладут на грудь, и острая линия превращается в дугу. Я плачу от удивления: как удержать слишком большой мир? Мне отвечают теплом. Мир уговорить невозможно; его можно приложить. Меня прикладывают – и он растворяется во мне снова.
Глаза постепенно учатся: в молоке неба проступают оттенки. Белый, сероватый, еле золотой, почти розовый. Оттенки – это первые попытки мира назвать себя без букв. Я смотрю и не верю, что это «кто-то» и «что-то» – до сих пор мне достаточно «есть». Но формы настаивают: появляются контуры, туманные, как воспоминание. Лицо, которое склоняется ко мне, не имеет черт, пока не заговорит взглядом. Взгляд – это тёплая нить, которая связывает меня с поверхностью мира. Пока взгляд длится, я не упаду.
Когда меня моют, вода – ещё один вариант молока. Она прохладнее, но тоже держит. Я плаваю в ладонях, и ладони – берег. Вода шуршит тише, чем ткань, и ее шорох похож на ответ на вопрос, который я ещё не придумал. Я дрожу не от холода, а от перестановки тепла: в такие моменты я понимаю, что тепло – не только у груди, оно – повсюду, просто умеет менять сосуд. Тело учится. Оно выгибается, расслабляется, соглашается на тяжесть своих рук и ног. Я не знаю, что это «я», но я уже ощущаю, что это приятно: быть тяжёлым, быть присутствующим, быть занятым своим дыханием.
Сон приходит как белая тень. Он кладется на глаза изнутри и говорит без слов: «сейчас – обратно». Обратно – это не «назад». Это возвращение в место, которое не нуждается в направлениях. Там тоже бело, но иначе: там нет запахов, нет вкуса, нет даже ритма сердца, потому что там всё – ритм. Во сне я снова становлюсь достаточно большим, чтобы вместить в себя и свет, и тьму. Когда просыпаюсь, мне нужно всё заново – вкус, тепло, голос. Мир любит повторять: так он чинит необходимость.
Где-то рядом иногда звучит другой тембр – ниже, шершавее. Он обходит меня по кругу, будто проверяет, держится ли мир на своих невидимых гвоздях. Этот голос – не тот, у кого молоко, но он умеет стать стеной, за которой ничего не ломается. В его руках – другая география, тверже, у неё есть углы. Но и в этой твердости есть мягкость, как у дерева, которое соглашается стать колыбелью. Мне нравится его тень: она плотная, безопасная, как крышка, под которой не разлиться.
Иногда мне кажется, что белый свет звучит музыкой. Не мелодией, а тем, что было до неё. Это тянущееся «ммм» мира, которое он напевает, когда у него всё получается. Эта музыка приходит, когда меня качают. Качание – не просьба и не приказ, это способ сказать телу: «ты не один». Тело верит быстрее ума, потому что у него нет языка, чтобы спорить. Его язык – согласие. Я соглашаюсь и снова пью, потому что пить – значит доверять.
Губы узнают сосок быстрее, чем глаза – улыбку. Сначала – рот, потом остальное. Так мир вводит меня в отношения: первее всех – те, кто кормит. Вкус – первая грамматика. У этого вкуса есть оттенки: один говорит «спокойно», другой – «скорее», третий – «уже достаточно». Я слушаю языком, и язык – мой первый наставник. Он строгий и добрый: когда я пытаюсь захватить слишком много, он напоминает, что полнота – в ритме, а не в спешке.
Я учусь времени через паузы между глотками. Пауза – это и есть «потом». В паузе можно вдыхать и смотреть. Можно распадаться на более мелкие «я» и собираться снова. Можно положить ладонь туда, где бьётся сердце, и убедиться, что оно всё ещё работает за нас двоих. В паузе рождается благодарность, хотя я не знаю этого слова. Благодарность – это теплая тяжесть в груди после того, как – достаточно.
Пальцы – мои первые разведчики. Они всегда спешат проверить границы быстрее взгляда. Я хватаю воздух, ткань, волосы, собственную тень. Иногда попадаю на чужой палец – и нахожу в нем ту же температуру, что хранит меня с самого начала. Это открытие смехотворно простое и великое: снаружи – то же, что внутри. Мягкость – не только во мне. Она повсюду, если её не толкать.
Когда меня поднимают к окну, белый свет перестаёт быть только молоком. Он становится небом. Небо – это большое слово, слишком большое для моей груди, но оно не просится внутрь. Оно умеет оставаться снаружи и всё же согревать. В небе иногда шевелится что-то сероватое – как сон, который забыл проснуться вместе со мной. Мне нравится следить за его медленным бегом. Бег там – другой, не такой, как шуршание рук и ткани, – он не требует от меня участия. Я могу просто быть свидетелем. Свидетельство – еще один способ доверия: верить, не вмешиваясь.
Иногда мир кажется слишком звенящим, и тогда всё снова сужается до груди и запаха. Я понимаю так: если громко – значит далеко. Близи почти не шумят. Она приближает меня к себе, и громкие вещи исчезают. Я учусь: тишина – это близость, шум – расстояние. С этой меркой жить просто.
Я много сплю, потому что мир – трудная работа. Каждый новый запах – это отдельная глава, каждое прикосновение – отдельное слово. Но язык сна возвращает меня к целому. В нём ничто не просит доказательств. В нём я снова становлюсь кругом, который не знает, где начало. Просыпаясь, я беру с собой кусочек этого круга – столько, сколько помещается между глотком и выдохом.
Есть мгновения, когда мне кажется, что я уже где-то видел эту мягкость. Возможно, до рождения у света была такая же температура, и тьма согревала меня так же терпеливо. Мир не торопит меня в форму: он позволяет мне ещё немного быть водою. Я – вода, которой дали имя, но имя пока молчит. Имя проснется позже, когда белый расслоится на много цветов, и каждый цвет попросит внимания.
Пока же я выбираю простые задачи: дышать, хватать, глотать, искать. Искание – сладкая работа. В нём нет беспокойства: искать – значит уже находить. Моя голова поворачивается к звуку, как цветок к солнцу. Я не чувствую себя маленьким: маленькое – это придумали те, кто умеет считать. Для меня всё либо рядом, либо нет. Рядом – значит всё.
Когда меня оставляют на минуту, я слушаю, как свет шуршит об стены. У света есть манера касаться вещей так, будто они всегда были готовы к этому. Мне хочется научиться так же касаться людей: не причиняя, не уменьшая, а просто проявляя их теплоту. Пока у меня получается только с матерью и тем, кто приносит свою тень и нижний голос. Это достаточно: двое – уже мир.
Иногда я плачу вовсе не потому, что голоден или мокр. Плачу от избытка: слишком много белого, слишком много тепла, слишком много хорошего, и мне кажется, что я не удержу. Тогда меня прижимают крепче и говорят теми звуками, что лечат воздух. Воздух зачиняется, как рана, и всё снова терпимо. Я учусь быть вместительным.
К вечеру белое становится янтарным. Молоко неба густеет, и в нём появляются золотые ниточки. Их так много, что в них хочется запутаться и остаться там навсегда. Иногда мне можно всё – даже засыпать на руках. Руки – это кровать, которую несут. Я не знаю ни одного закона, кроме одного: если несут – значит нужен.
Ночью мир становится еще мягче. Я почти слышу, как тьма и свет договариваются обо мне: когда кормить, когда укачивать, когда позволять смотреть дольше покладенного. Тьма не просит меня закрывать глаза, но делает так, что открывать их незачем. Я понимаю: тьма – не враг, она – подкладка света. Без неё у света болели бы пятки.
Иногда меня будит голод, и тогда белое возвращается сразу, без подготовки. Оно приходит из глубины, через запах, голос, тепло – и я снова до смешного спокоен. Спокойствие – это не отсутствие возмущений, а знание, где источник. Я знаю. Я ещё не умею помнить, но знаю.
Мне нравятся утренние минуты, когда всё только собирается из ночи. В это время молоко неба – особенно светлое, прозрачное, как слово, которое вот-вот родится. В такие минуты мне кажется, что я – его рифма. Не смысл, не предложение, а рифма: то, что делает мир согласным с самим собой.
Я начинаю улыбаться раньше, чем понимаю, почему. Улыбка – это ответ прежнему свету, который снова пришел. Он приходит каждый день не потому, что должен, а потому что так ему легче дышать. Так и я: улыбаюсь, потому что так проще жить. На улыбке мир держится крепче, чем на плечах.
Когда-нибудь я узнаю слова, и белое разложится на полки. Названия облегчат переносимость вещей, но отнимут у них чуть-чуть тайны. Всё равно я благодарен будущему языку: он даст мне возможность сказать «спасибо» тому, что кормило меня именами молока и света. Пока же моё «спасибо» – это сон после груди, тяжелый, как камешек, который невозможно не любить.
Я учусь различать шаги. У тех, кто любит, они отзываются у меня в животе. Живот – мой барометр. Если в нём тихо – значит, вокруг те, кто меня умеет. «Уметь» – это не «знать как», а «быть рядом так, как нужно». Этому нельзя научиться без кожи.
Я не знаю времени – я знаю повторение. Повторение – это луна, которая переворачивает молоко неба, чтобы оно не скисло. В повторении нет скуки: оно похоже на качели, где каждая дуга – новое доказательство, что ты не упадёшь. Мир качает меня так, чтобы я вырос не из страха, а из доверия.
Иногда я просыпаюсь и вижу, как мягкий белый растворяется в сероватом: форма мира подняла голову. Я не сержусь на неё. Пускай приходит – у нас будет разговор. Но пусть он ещё немного подождёт. Ещё несколько дней, недель – пока я напьюсь вдоволь молока неба, пока моё тело выучит язык тепла наизусть. Я хочу помнить его дольше, чем любую букву.
Если у мира есть дом, то он – там, где меня держат. Дом – это не стены, а способ касаться. Я нахожу его каждый раз, когда пальцы нащупывают знакомую нить на запястье, когда плечо под моей щекой становится подушкой, когда дыхание другого превращает мой страх в усмешку. Дом – это когда тебя не спрашивают, достоин ли ты – тебе просто дают. И ты берёшь, и этим уже платишь.
Когда меня укачивают, я вижу, как белый свет проходит сквозь веки, – он становится коралловым, как море, которое светится изнутри. Я не был у моря, но оно у меня, в крови: там же, где память про тёплую воду до рождения. Память – это не картинка; это способ тела узнавать, кому доверять. Я доверяю всему, что умеет быть мягким.
Если бы у благодарности был запах, он пах бы как шея матери: молоко, немного сна, немного солнца. Иногда я прячу туда лицо и слышу, как там живёт мой будущий смех. Смех – это молоко, которое забыли на плите, и оно убежало через край, и всем стало легче. Я смеюсь глазами, губами, потом – звуком. И мир наконец понимает, что я согласен – не из вежливости, а по-настоящему.
Я не знаю имени того, кто сделал белый свет моим домом. Не потому, что его нет, а потому, что оно мне не нужно. Имя – это для тех, кто далеко. Близким достаточно взгляда. Я живу во взгляде. Если он рядом, всё остальное – детали.
Когда-то я научусь сидеть, идти, говорить. Научу мир своей форме – как он однажды научил меня своей мягкости. Может быть, я ушибу колени его углами и вернусь на руки, чтобы вспомнить, что углы придуманы для взрослых. Может быть, я потеряю из виду белое и буду искать его в вещах. Но пока – оно со мной: тёплое, без форм, в которое вмещается всё, что мне положено любить.
И если однажды мне станет тесно, я снова найду источник, прикоснусь губами к миру и пойму: он по-прежнему годен к жизни. Он снова отзовётся молоком – настоящим или световым – и скажет своим древним языком: «возьми, глотай, живи». Я возьму. Потому что это единственное правило, которому стоит подчиняться без вопросов.
Белое становится тише к ночи. Оно ложится вдоль кроватки длинной полосой и хранит меня, пока глаза уступают тьме. У тьмы – добрые руки, она укрывает и сторожит до утра. Я не боюсь ее, потому что знаю: там, где заканчивается молоко неба, начинается молоко сна, и оно такое же мягкое. Я уплываю туда, где ничего не нужно держать, и возвращаюсь оттуда, чтобы снова держать всё, что ко мне прижмут.
Мир, кажется, улыбается, когда я засыпаю. Может быть, ему приятно видеть, как его белый свет справляется с моей маленькой работой – расти. Расти – значит учиться быть благодарным без причин. Я тренируюсь каждый день. У меня получается: я просто дышу, и этого достаточно, чтобы молоко неба не кончалось.
А утром всё начинается заново. Белый возвращается первым, как будто всю ночь стоял за дверью и ждал, когда я подам голос. Он несёт с собой тёплый запах и руки – мои постоянные адреса. Я открываю рот раньше глаз. Я выбираю верить прежде, чем различать. И мир, чувствуя это, снова становится простым.
И если однажды меня спросят, что я помню о самом первом времени, я, наверное, скажу: «молоко, которое светится, и свет, который кормит». Всё остальное – потом. Всё остальное – формы, углы, имена. А это – основа. На ней держится мой новый мир. Он белый, мягкий, без форм, но вмещает в себя всё, что мне нужно, – и тех, кто умеет быть рядом так, как нужно.
Я засыпаю с пальцами, которые держат чужой палец. Это мой договор с миром. Его шрифт – пульс. Подпись – дыхание. И каждый раз, когда белое снова наполняет комнату, я читаю этот договор заново, не вслух, но верно: «я принимаю». Мир отвечает тем же – тёплым молчанием – и становится еще ближе, будто может войти внутрь без стука. Я не возражаю. Это и есть мой способ жить: впускать, глотать, расти, благодарить. И пусть когда-нибудь придут слова и углы – я сохраню эту мягкость как букву, с которой начинается моё имя, даже если произносить его пока рано.
Иногда мне снится, что я снова лечу. Не руками, не телом – просто светом. Я не знаю, что такое полёт, но тело помнит, как это – быть без веса. Во сне я слышу тот же ритм, что и раньше – медленный, уверенный, похожий на удары сердца, которое принадлежит не только мне. Там, где звучит этот ритм, нет нужды держаться – всё держит тебя само. Я просыпаюсь и чувствую, как этот звук долго не уходит: он остается в груди, в ушах, в воздухе. Может быть, это и есть песня мира, которую он поет всем новорожденным: «Ты уже дома. Просто дыши».