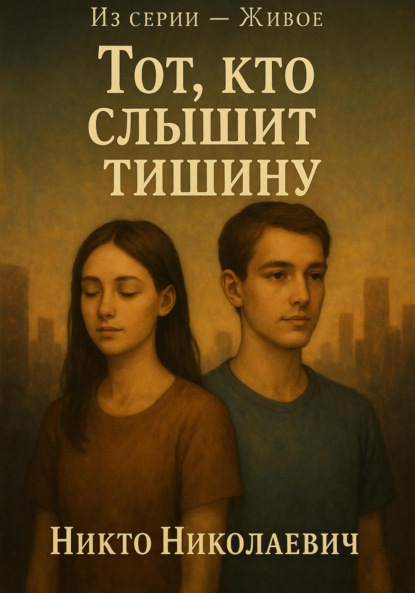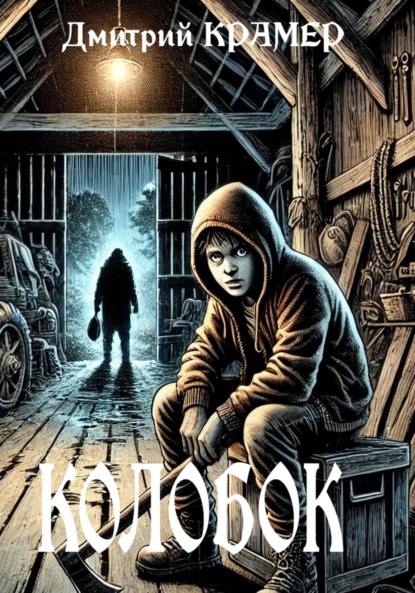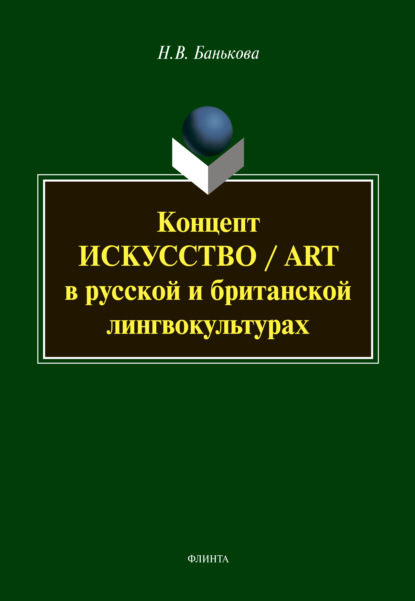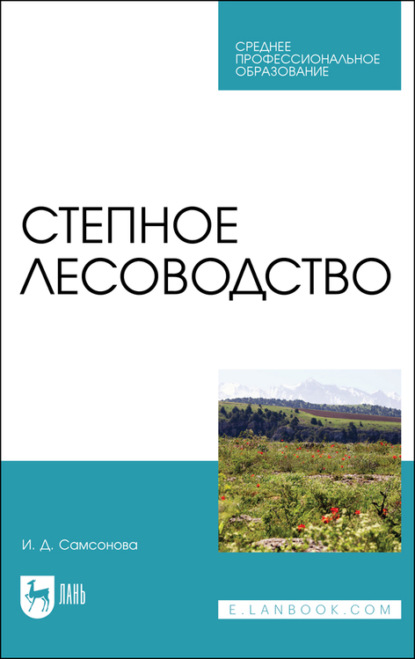- -
- 100%
- +

Пролог
Сначала был звук. Не музыка, не речь, не шепот моря – а крошечные, бесконечные дробления времени на сигналы. Тик в ленте. Пик уведомления. Щелчок подключения. Сердцебиение света, превращенное в пакеты данных: входящие, отправленные, доставленные, прочитанные. И каждое – маленькое дрожание мира, которое подтверждает: «Я есть. Я был услышан. Я в сети».
Гиперсеть не спит. Её память разложена по миллиардам ячеек, как хлебные крошки, ведущие к чужим жизням. Она дышит равномерно и отрывисто, то рокоча громом стримов, то шорохом бесконечных переписок. В её гулком нутре сплетаются рекламные лозунги, карты желаний, карты дорог, голосовые, где люди говорят не друг другу, а в пространство – уверенные, что пространство ответит.
Голоса не имеют лиц. Они витают, как тёплая пыль, в свете мониторов. У каждого – ритм: у одних быстрый, как бег по лестнице, у других ленивый, тягучий – будто бы слово тянется и никак не отпустит. У одних – смех, короткий, официально-пластиковый, из тех, что принято вставлять в короткие видео. У других – сдержанный крик, спрессованный до иконки «!!» в конце фразы. У третьих – немое «прочитано», тяжёлая пауза, которую по распоряжению разработчиков научились заглушать новой вкладкой, новой музыкой, новым окном поверх окна.
– Слышите меня? – спрашивает один бесформенный голос.
– Слышите меня? – отвечает другой, не слыша первого.
Они похожи на узоры на воде: касаются друг друга, пересекаются, смещаются, но не смешиваются. У каждого – своя API к миру, и каждый – уверен, что понял остальное.
Линии связи, как пчелиные соты, переливаются в небе. Город внизу звучит, как орган из стекла и проволоки: автобусы оставляют после себя коммент – длинный, протяжный, с накрученным в конце хэштегом «#кудаедем». Лифты посылают отчеты о пройденных этажах, светофоры ведут статистику терпения, обувь горожан считает шаги и пересылает их в хранилища, где шаги становятся рейтингами, а рейтинги – маршрутами. Кофемашины фыркают, как уставшие киты, и тут же постят в ленту температуру воды и настроение бариста.
– Я проснулся, – сообщает кто-то, и сотни «доброе утро» накатывают, как тёплая волна.
– Я устал, – пишет другой, и ему советуют витамины, дыхательные практики и тринадцать способов повысить продуктивность за пять минут.
– Я люблю, – и сразу картинка, фильтр, где каждый оттенок кожи равен идеальному.
– Я ненавижу, – и система, натренированная на сглаживание, прикрывает глаза и предлагает «переформулировать: я расстроен».
В Гиперсети никто не уверен, откуда исходит звук. Он просто есть. Он везде, как воздух. Его слушают, чтобы не услышать себя. Его повторяют, чтобы не забыть, что повторяемое – безопасно. Он должен быть непрерывным, потому что в паузе вдруг может что-то прорваться – что-то старое, первобытное, нехранимое ни в одном облаке.
– Тишина невозможна, – говорят голоса. – Тишина – это сбой. Переход на низкую частоту. Потеря сигнала. Паника службы поддержки.
И если вдруг связь обрывается, на экранах всплывает мягкий прямоугольник с закруглёнными углами: «Хм, похоже, у вас проблемы с подключением. Попробуйте перезапустить». Люди перезагружают. Люди дергают роутер, перетыкaют кабель, выдыхают как научили – на счёт «четыре – задержка – четыре». Люди не умеют жить под шумом света и вдруг – без него. Им обязательно нужно что-то, что шуршит рядом: вентилятор, музыка, чужая речь. Без этого кажется, что в комнате появился кто-то ещё – тот, кого мы давно перестали приглашать.
Голоса заполняют всё. Они живут поверх городского ветра, поверх дыхания метро, поверх запаха влажной земли после дождя – и чем больше их, тем тише становится мир под ними. Это – общий заговор: если говорить одновременно, не слышно никого, и значит, никто не услышит тебя по-настоящему. Никто не подорвет твою броню вопросом: «А что, если ты не то?» Никто не вытащит из тебя древнюю хрящевую рыбу, которая носит имя «страх».
По вечерам голоса становятся мягче: у них появляются пледы, чай с лавандой и плейлисты, где любое «ха-ха» заранее отмерено. Они рассказывают о детстве, где из-под одеяла светился экран, и мать просила лечь спать, но кто-то в другом конце мира ещё не ложился, и к нему было важно притянуться хотя бы на минуту. Они вспоминают те времена, когда нужно было поднимать трубку, и когда еще было стыдно молчать, а не отвечать. Они пишут воспоминания в формате «до/после»: до – шум, после – больше шума, но правильно структурированного.
– Мы связаны, – говорят они и ставят галочку в чек-листе. – Мы на одной волне.
Волны складываются в спектры. Спектры ломаются о бетон. Бетон вбирает в себя реплики, от которых становится тёплым – так кажется. На самом деле это трубы отопления, но в Гиперсети любые явления можно перевести на язык близости. Близость – это лайк, рядом – это видимость в чате, объятие – это стикер с котёнком в пледе, а взгляд – это уведомление «…печатает».
Каждый голос боится замолчать первым. В темноте слышно, как шепчет собственная кровь, и это очень интимно. Поэтому голоса учатся не переставать. Они передают эстафетную палочку быстрее, чем угасает курсор набора текста. Они потеют вместе с серверами, они разряжаются вместе с аккумуляторами, они превращают паузы в эффект, который длится ровно столько, чтобы захотелось ещё.
Иногда кто-то пишет: «Я не знаю, о чём говорить». Остальные приходят с инструкциями: «Вот темы для small talk. Вот набор безопасных фраз. Вот примеры реакций». Мир обеспечивает словами, как города – водой. Нажми, и польется. Поверни кран – и льется ровно на ту температуру, на которой принято общаться в данную эпоху.
Слова делают мир гладким. Их так много, что они исчезают как отдельные: попадают в поток, растворяются, и можно только угадывать, что было сказано. Текст становится пейзажем. Пейзаж – интерьерами. Интерьеры – платформами, где можно жить годами, меняя лишь обои в профиле.
И всё же, если прислушаться, в этом всеобщем шипении есть повторяющаяся фраза. Она выскакивает, как всплывающее окно: «Слышишь? Слышишь? Слышишь?» Голоса ходят с ней по кругу, они напоминают друг другу, что слышат, потому что так вежливо. Они вежливы до святости, гуманны до инструкции, чутки до шаблона.
– Слышишь? – и тут же: – Я слышу. Конечно, слышу.
Но это – не слух. Это – подтверждение доставки.
В Гиперсети существуют островки тишины, но их не зовут тишиной. Их пишут как «ошибка 504», «превышено время ожидания», «сервер не отвечает». Люди злятся, жмут «обновить», и где-то там, в глубине стеклянных башен, дежурный программист пьёт холодный кофе и шутит: «Умер – значит, воскресит кто-то из дежурной смены». Они не называют это словом, которое однажды исчезло из обихода, как исчезли кассеты и кнопка «сохранить» в виде дискеты. Они называют это «минутой, которую нужно чем-то занять».
Тишина – слово старое. Оно пахнет деревом и потолочной паутиной. Оно напоминает не те релаксационные минутки из приложения, где голос упругой дикторши поддерживает тебя каждые тридцать секунд, не оставляя наедине с собой, – а простор, в котором нет стен и гардин, и слышно, как растет трава, хотя трава не растёт слышимо, но почему-то ты уверен: растёт. Слово это вышло из моды, как все слова, которые не окупаются в ежеквартальных отчетах.
– Тишина – это пустота, – твердят голоса, поднявшись на цыпочки, чтобы нам не было видно их колени, дрожащие от усталости. – В пустоте нечем поделиться. В пустоте нет реакции. В пустоте не продашь ничего. Значит, пустоты не должно быть.
Их можно понять. В Гиперсети любовь – это кинематограф, дружба – это монтаж, а смысл – результат алгоритмического совпадения. Здесь опасно попадать туда, где нет правил. Здесь каждая пауза может стать трещиной, через которую вывернется на свет то, что не отретушировали. Лучше говорить без остановки. Лучше держать линию на линии.
Иногда, очень редко, один из голосов вдруг останавливается. В чате, по которому текли, как по руслу, ободряющие формулы, появляется внезапная пустая строка. Курсор мигает, как крошечный маяк. Другие голоса, испугавшись, подбегают: «Ты тут? Ты с нами?» Он отвечает: «Да». Но «да» получается таким тонким – как волос на белом листе – что его почти не видно, и остальные – из вежливости – ставят реакцию смайликом. Опасность миновала, поток возвращен, можно продолжать.
И всё же где-то в городе есть место, где звук не правит. Окно там закрыто не против дождя, а от звуков, которые были признаны необходимыми. Серые панели стен скрывают слои, поглощающие эхо. Воздух не орёт кондиционером. Вентиляция работает негромко, как тихая собака, которая дышит рядом, едва касаясь твоей лодыжки тёплым носом.
Там время иначе ложится на пол – не полосами уведомлений, а широкими тенями, которые идут и идут по кругу, пока не исчезнут, оставив за собой мерцание пылинок. Это – башня, но не та, о которой пишут в путеводителях. Её не фотографируют, потому что на фотографии она – просто прямоугольник без вывесок, окно без неона, тень без истории.
Башня не любит внимание. Её стены специально созданы так, чтобы каждый звук, попав внутрь, уставал уже у порога, тянулся, кланялся, осыпался хлопьями и оставался лежать до утра, а утром уборщик, который не знает, что он убирает звук, выметал его вместе с обрывками бумажек.
Там живёт девочка.
Это слово произносится робко, потому что Гиперсеть давно привыкла к унификациям: «пользователь», «единица аудитории», «подписчик». Девочка – не рационально. Девочка – слишком определенно. У неё есть возраст, который ещё не успели превратить в сегмент: двенадцать лет. У неё есть имя, которое звучит, как вдох, который не добрался до гласной: Нуа. Имя, в котором света больше, чем букв. Имя, которое легко потерять в шуме, как каплю росы – в прибрежной пене.
Она сидит у окна и слушает. Её слушание не направлено ни на что – это как смотреть в темноту и видеть ее не как отсутствие света, а как присутствие глубины. Там, за стенами башни, Гиперсеть переливается, как гигантская цифровая медуза, и каждый её щупальце договаривается с другим, кого коснуться следующим. Здесь – не так. Здесь – сначала тишина. Потом – снова тишина. Потом – что-то, что ещё не нашло себе имени.
Нуа не называет это «тишиной». Она не помнит, чтобы слышала это слово вслух. Но она знает: если не шумит, значит – живет. Если не говорит, значит – дышит. Если не просится в ленту – значит, настоящее.
Иногда ей кажется, что в глубине этой необыкновенной яви что-то зовёт её, как зовёт запах дождя тех, у кого было детство в городе, где лето начиналось с раскаленных крыш, а заканчивалось – промокшими кедами. Это не голос. Это не сообщение. Это – ожидание. Оно не требует ответа. Оно просто есть.
Оркестр города тем временем набирает громкость. Колёса автобусов пишут посты, турникеты у метро выдаются четкими звуками, которые уложили в равные промежутки, чтобы людям не тревожиться от случайного. Случайное – то, на что нет схемы, а значит – дурной тон. Ветер шуршит, но его шуршание затыкают рекламные флаги, сделанные из ткани, которая шуршит громче ветра. Птицы трепещут крыльями, но рядом включают динамики, чтобы заглушить трепет – он слишком непредсказуем.
– Тишина невозможна, – повторяют голоса, будто заклинание.
И всё же в эту минуту в стеклянном нутре башни происходит событие, которое никто не транслирует. Оно не попадает в тренды. Оно не собирает реакции. Оно ни к чему не призывает. Оно – как вспышка в глубокой воде: ты знаешь, что что-то светануло, но не можешь сказать, что именно.
Девочка впервые слышит, как не звучит мир. Она слышит в неслышании – форму. Как у снега – не только белизна, но и тяжесть, и холод, и обволакивание. Как у неба – не только цвет, но и даль, и голод по высоте. Она слышит – тишина это не дырка в ткани дня, а другая ткань, более плотная, с неповторимым рисунком. Если приложить к ней ухо, то можно различить: где-то далеко, под сотнями, тысячами испепеляющих «слышишь меня», бьётся тихий, спокойный пульс.
Этот пульс не принадлежит серверам. Не принадлежит городу. Не принадлежит чьей-то программе. Он не требует обновления. Он – как сердце, которое забыли измерить.
Нуа прикрывает глаза, и звуки башни ещё больше отступают. Дышит вентиляция, щёлкает старый термометр, где застряла ртутная линия, постоянно обещая «чуть-чуть позже станет теплее». Снизу поднимается запах хлеба – пекарня на углу печет булочки, и их запах не может быть переведен в байты, потому что каждое утро пахнет по-новому, в зависимости от того, кто встал за печь и о чём он думал, пока месил тесто.
Гиперсеть не знает, что делать с такими данными. Она записывает их как «диффузный шум», «неструктурированный фон», «помехи». Девочка – как помеха. Башня – как помеха. Ночная прохлада – как помеха. И только пульс, который слышит Нуа, не распадается в её слушании. Он как слепая карта, на которой одна белая область – и именно туда хочется дойти.
Там, в этой белой области, кто-то однажды спросит: «Слышишь ли ты?» И девочка не ответит «да» или «нет». Она ответит тишиной, и это будет самый полный из возможных ответов.
Пока же все голоса мира продолжают старательно говорить, подставлять друг другу формулы, расставлять эмодзи, чтобы было видно интонацию. Они бережно обходят пустоты, чтобы не провалиться в них. Они точно знают, что пауза – враг вовлеченности. Что незаполненное – означает уход. Что молчание – это когда не любят.
И ни один из них не догадывается, что именно там, где они не были ни разу – в непрошедшем модерацию пространстве – родится восприятие, способное однажды остановить их бесконечный бег. Не замолчать за них, а научить их слышать – себя, друг друга, мир.
Гиперсеть шипит, как море из света. Город спит вполглаза, чтобы не пропустить новый звук. Башня стоит, как музей, где экспонат – само ничего, но это – самое насыщенное из возможных «ничего». Девочка сидит у окна и учится различать оттенки молчания, как другие – оттенки цветов в витрине. Она не знает, что скоро ей придётся выйти из комнаты и принести с собой эту тишину туда, где её не ждут.
А пока – ночь. И звук, который никогда не умолкает, для неё впервые звучит иначе: как поверхность, из-за которой видна глубина. Как зыбь, под которой есть неподвижность. Как мир, шумящий от страха, что если он перестанет шуметь – останется один.
Но она-то знает: когда шум кончится, там будет не одиночество.
Там будет он – мир, который хочется услышать.
Раздел I. Башня тишины
Глава 1. Мир не замолкает
Утро.
Шум начинается еще до рассвета. Он не зависит от солнца, от времени года, даже от того, спят ли люди. Шум живёт своей жизнью, и люди – лишь его жильцы. В мире, где каждая поверхность связана с Гиперсетью, тишина давно стала легендой, выдумкой, чем-то вроде старых сказок про драконов или ведьм. Никто её не слышал. Никто не верил, что она вообще существует.
В квартире, где живёт Нуа, утро наступает не со звуком будильника, а с мягким, но настойчивым голосом, встроенным в потолок:
– Доброе утро! Сегодня среда. Температура воздуха двадцать три градуса. Влажность семьдесят процентов. На завтрак предлагаю кашу с ягодами или тосты с авокадо. Ваш выбор?
Отец Нуа бормочет: «Кашу», – и потолок подтверждает: «Заказ принят. Питание оптимизировано для вашего состояния».
Мать, еще не открыв глаза, говорит: «Включи новости», – и стены оживают десятками голосов: статистика, прогнозы, рекомендации.
Нуа сидит на кровати и молчит. Она никогда не отвечает потолку и не просит стены заговорить. Её родители привыкли: у дочери «особенность». В медицинских отчетах это называли «дефицитом восприятия аудиопотока», но никто не мог объяснить, почему при этом она слышит всё остальное.
Отец проверяет почту. Его пальцы делают привычные жесты в воздухе, и невидимый экран подчиняется, как дрессированная собака. Мать набирает сообщения: её губы двигаются беззвучно, глаза бегают – она уже не в этой комнате.
– Нуа, – говорит отец, не отрываясь от интерфейса. – Ты готова к школе?
Девочка кивает.
Её кивок остаётся без внимания. Родители ждут звукового отклика, но она не произносит ни слова. Им кажется, что она упряма. А ей – что они глухи.
На кухне запах еды не успевает появиться: вентиляция мгновенно улавливает любые ароматы и превращает их в формулы, которые можно передать в сеть. Нуа ест молча. Ложка звенит о тарелку – единственный живой звук в этой комнате. Родители этого не замечают: их слух занят другими каналами.
В глазах у матери мелькает тревога. Она не говорит её вслух – но Нуа слышит, как будто тревога звучит тише шёпота, ровнее биения сердца.
Дорога в школу.
На улице город поёт своей бесконечной песней. Светофоры разговаривают с машинами, машины – с навигаторами, навигаторы – с владельцами. Каждое движение комментируется, фиксируется, переводится в отчет.
Нуа идёт по тротуару и чувствует, как воздух дрожит от тысяч голосов. Над головой летают дроны и кричат рекламные лозунги: «Скидка только сегодня!», «Поделись моментом!». В каждом магазине – динамики. В каждом окне – мелодия. Даже деревья на аллее снабжены сенсорами, и когда мимо проходит человек, они выдают короткий аудиоролик: «Посмотри вверх! Мы настоящие!»
Для Нуа всё это – как нескончаемая буря. Она не слышит отдельных слов – только гул. Но в этом гуле улавливает провалы. Маленькие, почти незаметные, как если бы кто-то выключил свет на долю секунды. Эти паузы для неё важнее всего.
Остальные дети идут в школу шумной толпой. Они обмениваются сообщениями быстрее, чем словами. Их браслеты вибрируют, линзы мигают. Они смеются одновременно, потому что система прислала один и тот же смешной ролик.
– Эй, Нуа, – кричит кто-то. – У тебя опять нет устройства?
Она не отвечает. Дети смеются и бегут вперёд.
Её одиночество плотное, как стекло. Но именно в нём слышно то, чего не слышит никто другой.
Школа.
Класс наполнен звуками ещё до того, как приходит учительница. Кто-то включает игру в полупрозрачном экране, кто-то пересылает мемы, кто-то спорит о новом сериале. Все подключены.
Учительница заходит и с порога говорит:
– Сегодня мы читаем классику. Откройте учебники.
Но её слова тонут в фоне: уведомления, переписки, звонки. Даже у неё самой в глазу мигает линза – она проверяет реакции на свою статью.
– Нуа, – вдруг обращается она. – Прочитай вслух первое предложение.
Класс замолкает. Все оборачиваются. На лицах – нетерпение. Сейчас будет шоу.
Нуа открывает учебник. Слова для неё – пустые знаки. Она смотрит на белый лист, и белое поле кажется ей живее, чем напечатанный текст.
Она молчит.
Учительница начинает раздражаться. В классе шепчут: «Она опять зависла». Кто-то отправляет в общий чат картинку: «Ошибка соединения». Смех прокатывается, как волна.
Нуа поднимает глаза. В её взгляде нет ни страха, ни злости. Только тишина. Учительница на секунду теряется и отворачивается:
– Ладно, Иван, читай дальше.
Шум возвращается мгновенно.
Перемена.
Звонок в школе звучит не колоколом, а сигналом, который каждый настраивает под себя. Поэтому перемена – это тысяча разных мелодий, наложенных одна на другую: от стилизованной птицы до восьмибитного марша. Пол в коридоре вибрирует – под его панелями проложены кабели, и каждый шаг передается в систему как «индекс активности». Экран у входа радостно сообщает: «Сегодняшняя перемена – на 11% оживленнее, чем вчера». Никто не читает, но экран всё равно старается.
Нуа выходит из класса последней. Она не торопится, идёт так, будто слушает что-то очень тихое и очень важное. По дороге её пытаются задеть – не злонамеренно, а как игра: «Давай проверим, отзовётся ли». Мимо летит бумажный стикер с нарисованным динамиком. Кто-то шепчет: «Эй, каково это – ничего не слышать?» Другой добавляет: «Да она слышит, просто выбирает не отвечать». И в этом «выбирает» чувствуется раздражение: мир не любит тех, кто не откликается.
У пьющих воду из автоматов детей вода не просто льётся – каждый стакан сопровождается маленьким поздравлением: «Вы – на пути к здоровью!» Пластиковые трубочки шуршат, будто насмешливо повторяя: «здоровью, здоровью». Нуа задерживается у окна. За стеклом – двор, кусочек неба, голые ветки старого вяза, которому кто-то зачем-то прикрепил датчик. На датчике мигает лампочка, и на экране у входа дублируется: «Скорость ветра: 2,1 м/с, влажность: 71%». Казалось бы – полезная информация. Но для девочки важнее другое: как ветка чуть слышно скребёт по стеклу. Этот звук едва-едва пробирается сквозь обшивку школы, и всё же он есть – как рукопожатие с чем-то живым.
К ней подходит одноклассница – та, что обычно болтает без умолку, перескакивая с темы на тему так быстро, что за ней не угнаться.
– Слушай, нас хотят добавить в новый проект, – говорит она, глядя вниз, в интерфейс на ладони. – Соц-эксперимент. Будем учиться эмпатии. У меня уже двадцать двухсекундных видео, где я рассказывала, как люблю слушать людей. А ты?
Нуа молчит.
– Ну ты хотя бы зарегистрируйся. Без регистрации эмпатии тебе не начислят, – подмигивает девочка и исчезает, оставляя после себя легкий запах яблочного шампуня и шлейф уведомлений.
В столовой музыка настроена так, чтобы совпадать с ритмом выдачи блюд. На подносе у каждого – маленький экранчик, который ласково подсказывает: «Сделай фото. Поделись моментом. Мы сохраним». Столы гудят, как трансформаторы. Две учительницы обсуждают, как дети стали «хуже концентрироваться», и одна говорит: «Всё из-за этого – ну ты понимаешь», кивая на собственную линзу в глазу. Другая кивает в ответ: «Но и отказываться нельзя, таковы времена».
Нуа сидит у стены, где нет рекламы. Перед ней – тарелка супа. Пар поднимается, растворяется в кондиционере, и кондиционер, уловив теплоту, шепчет: «Оптимальная температура восстановлена». Она не берёт в руки вилку, не пьёт сок – просто слушает, как в глубине здания, под полом, повторяется один и тот же тяжёлый вздох механики: «ха—аа», «ха—аа». И каждый раз между «ха» и «аа» – крошечная пауза. Эта пауза – драгоценность. Её нельзя запостить. Она не собирает сердечки. Но в ней, как в трещине, виден настоящий свет.
Когда перемена заканчивается, коридор снова заливает многоголосие. Кто-то запускает игру «кто дольше не будет молчать» и выигрывает без труда – никто ведь не молчит. Нуа возвращается в класс, и её стул скрипит тихо и внятно – единственный честный звук в комнате.
После обеда школа становится усталой. Даже Гиперсеть это замечает и включает «мягкий режим». Уведомления погружаются в приглушённые тона, голоса в динамиках приобретают вязкость. Учитель по естественным наукам демонстрирует новую модель экосистемы, где всё связано со всем – вода, воздух, бактерии, растения. Дети кивают, одновременно проверяя «экосистему» своих групповых чатов. Учитель говорит: «Слышите, как всё взаимозависимо?» И, пожалуй, он прав – всё действительно связано. Но не так, как кажется.
– Если вы не услышите слабый сигнал, – продолжает он, – система погибнет. Игнорирование – опаснее, чем шум.
Он смотрит в класс, ищет глазами кого-то, кто уловил смысл. Взгляд скользит мимо Нуа – он привык считать её «выпавшей». И напрасно. Слабые сигналы – её стихия.
На математике учительница задает задачку на проценты. У кого-то не сходится – говорит: «Система, помоги», и система выстраивает пошаговое решение прямо перед глазами, как добрый фантом. Никто не спорит. Никто не спрашивает, почему именно так. Оптимально – значит верно. В этом есть спокойствие: если всё посчитано, можно не замечать лишнего.
На физкультуре звуки становятся громче. Мяч по полу – «тук-тук-тук». Кроссовки по резине – «шшш». Свисток тренера – резкий, настойчивый. И, что поразительно, – эти простые шумы настоящего мира почти не замечают: они не ведут статистику лайков, не меняют статус, не повышают «индекс вовлеченности». Для Нуа же это – как дождевая вода после долгой жары. Ей хочется лечь на пол и приложить ухо к старой деревянной планке, где в глубине слышны древние шаги – те, о которых система ничего не знает.
В раздевалке девочки сравнивают результаты по бегу – у кого сколько «очков здоровья», кто сколько калорий «сжег». Их слова как искры, сыплются и тут же гаснут. Одна говорит: «Я стала на 3% лучше вчерашнего». Другая: «А я на 5% хуже». Их утомляет постоянная необходимость становиться лучше, но признаться в этом – значит проиграть. Они продолжают, потому что так принято. Плеть нормальности щёлкает едва слышно, но каждый чувствует ее на коже.
Когда прозвенел последний звонок, школа облегченно выдохнула. Нуа медлит с выходом – не потому, что боится улицы, а потому, что хочет задержать тот еле уловимый шорох, который появляется в здании, когда никто никуда не бежит. Здание словно расслабляется, усаживается, перестаёт держать спину. И в этом расслаблении слышно, как дышат стены – медленно, древне.