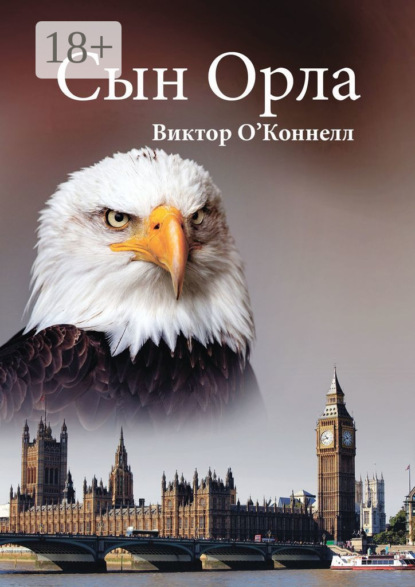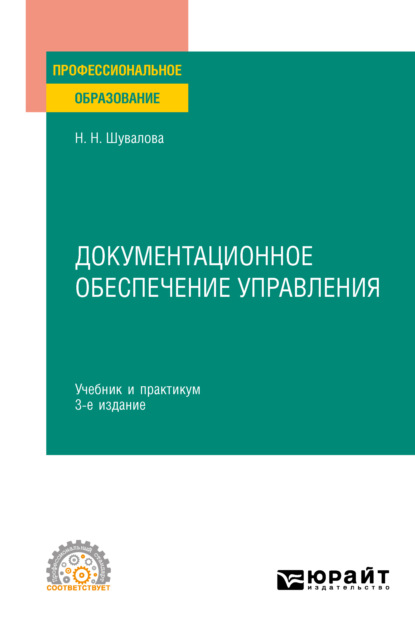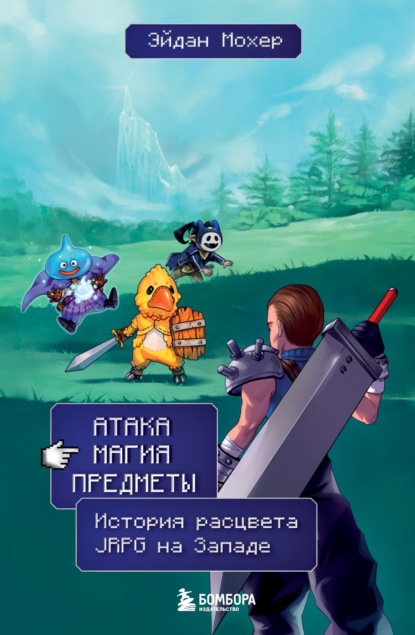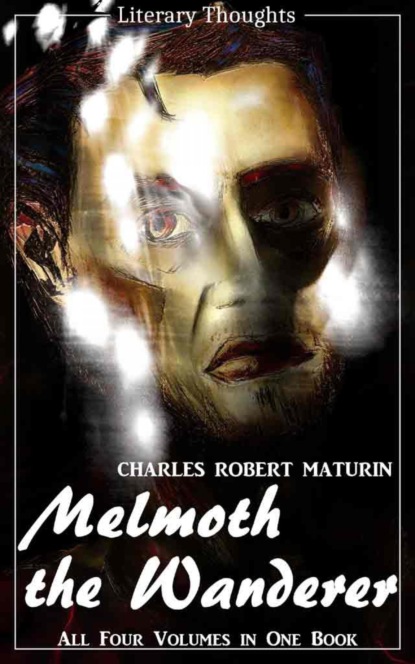- -
- 100%
- +
Чарльз знал, что Мортимер ни за что не одобрил бы его брачный проект, если бы узнал о потрясающей целеустремленности графини в вопросе о наследнике. Она не слишком интересовалась романтической стороной отношений с графом. Ей нужен был муж, который бы не мешал выполнению ее миссии – возмещению причиненного индейцам ущерба. Если же избранник готов был разделить убеждения и энтузиазм графини, как в свое время уверял ее Чарльз Гриффин, – что ж, тем лучше!
Чарльз был должником фирмы, в которой работал Мортимер, и потому не хотел подводить его. Он поставил бы друга в весьма неудобное положение, если бы рассказал ему, что и сам с трудом преодолел дурные предчувствия насчет предполагаемого брака, да и то после того только, как агенты Налоговой службы нагрянули в Ардун, чтобы составить график принудительной продажи имения.
До того дня Чарльз никогда не думал об Ардуне как о чем-то, чему может быть назначена цена, тем более как о чем-то, что может быть продано. Поля, леса, реки и озера Ардуна, его звери, птицы и рыбы, так же как и главный дом, и коттеджи рабочих, и приходская церковь, и прочие строения на территории поместья являлись для Чарльза отдельной вселенной. Чудесные виды, ветерки и ароматы Ардуна были источником, из которого граф черпал душевные силы. Каждое поколение Гриффинов обретало в Ардуне ощущение принадлежности к своему роду, неразрывной связи с предками, а вместе с тем – и с потомками, которые непременно должны были родиться на этой земле. Ардун был единственным святым местом в жизни Чарльза – святилищем, в котором бережно хранилась и почиталась коллективная память его семьи. «Ардун – это центр всего моего существа», – сказал он однажды, пытаясь объяснить первой жене из Бостона, что значит для него родовое имение.
Сказать, что поместье съедало остатки семейных денежных средств, означало бы сильно упростить картину. Культурная ценность поместья росла с каждым столетием, и оно по-прежнему представляло собой несократимый остаток семейного капитала. Уже по одной этой причине Ардун нельзя было рассматривать, как товар, который можно при случае купить, или продать, или использовать в качестве обеспечения по займу для уплаты налогов. К тому же, граф уже заложил Ардун, чтобы оплатить игорные долги и потери в бизнесе.
«Вы можете с таким же успехом предложить мне продать родителей или предать мою страну, – писал он в Налоговое управление. Письмо было сочинено под действием алкоголя и представляло собой последнюю попытку убедить чиновников повременить с уплатой налогов на наследство. – Немыслимо, чтобы хоть одно дерево, хоть один столб в Ардуне принадлежал кому-либо, кроме Гриффинов».
И все-таки они пришли.
«Смерды, – с ненавистью думал Чарльз, глядя исподлобья на угрюмых правительственных землемеров в коричневых комбинезонах и резиновых сапогах. – Они напоминают мне палачей, которые пришли взвесить приговоренного к казни, чтобы рассчитать прочность виселицы».
Граф медленно вез землемеров на своем автомобиле по полям и дорогам Ардуна, пока те писали и чертили что-то дешевыми шариковыми авторучками на казенной миллиметровой бумаге, методично разбивая святую для него землю на лоты для продажи, оскверняя ее избитыми клише в своих описаниях, и подсчитывая цену, которую можно будет выставить на аукционе.
«Кромвелевские бастарды», – процедил граф сквозь зубы, глядя вслед удаляющимся агентам. В этот момент ему отчаянно захотелось излить царившее в душе смятение в разговоре с кем-нибудь.
Его первая мысль была об Оливере – смотрителе Ардуна. Тот как раз приближался к нему, неспешно шагая среди пасущихся на лугу овец. В детстве Чарльз смотрел на Оливера как на старшего товарища, считая его молчаливость признаком мудрости. Он восхищался физической силой и сноровкой, с которой тот выполнял любую работу в имении. Самые теплые детские воспоминания Чарльза были связаны с тем временем, когда они с Оливером выкуривали кроликов из нор, рыбачили, ухаживали за новорожденными ягнятами, присматривали за небольшим стадом оленей, заготавливали дрова, ночевали в палатке, натаскивали собак и объезжали лошадей. Тогда Чарльзу казалось, что Оливер намного взрослее его самого, хотя на самом деле тот был старше всего на семь лет. Оливер родился в одном из коттеджей, которые стояли рядом с обнесенным стеной садом неподалеку от главного дома. В то время отец Оливера служил смотрителем имения, а его мать – старшим поваром. Хотя Оливер соблюдал в отношениях с юным джентльменом почтительную дистанцию, приличествующую прислуге, Чарльз всегда считал его чуть ли не кузеном.
Он осознал различие в их социальном положении только в последние годы войны, когда Оливер вернулся с ранением из Нормандии, одетый в униформу Оксфордширской и Букингемширской легкой пехоты со знаками различия капрала. Встречая его, Чарльз из уважения надел униформу Королевской конной гвардии. Когда он шагнул вперед, чтобы приветствовать старого товарища и наставника, Оливер немного неуклюже вытянулся по стойке смирно и отдал ему честь.
Сейчас, глядя на приближающегося Оливера, граф понял, что не сможет заставить себя рассказать старому слуге, делали сборщики налогов в имении в этот день. Чарльзу была невыносима мысль о том, что ему придется признаться в своих безрассудных финансовых авантюрах, в результате которых им обоим, возможно, придется покинуть родной дом – дом, которому, несмотря на разные пути, оба они хранили верность всю жизнь. что
Не сказав ни слова, Чарльз вернулся в апартаменты и перенесся на свой спасительный «остров» с помощью двух двойных шестнадцатилетних односолодовых виски «Lagavulin» с острова Айлей. Когда медленно растекающийся по жилам огонь растопил ледяной ком, засевший у него под ложечкой, граф вновь обрел способность хладнокровно и ясно размышлять об опасности, нависшей над семейным состоянием.
– Это злой рок, который погубит все, что нам дорого, если я не остановлю его! – заключил он.
Часом позже Чарльз вышел из дома и, пройдя через чудесные итальянские сады, разбитые с западной стороны, поднялся по ступенькам на небольшую смотровую площадку. Вид, открывшийся в западном направлении, напомнил ему, как высоко стоит Ардун над Котсуолдскими холмами. Не было видно ни дорог, ни зданий, ни оград, ни других следов человеческой деятельности. На склонах холмов раскинулся пасторальный парк с рассеянными по нему кучками деревьев, переходящими в низинах в густой лес. Солнце в огромном и торжественном небе над Ардуном медленно клонилось к горизонту.
Граф прислушался к прощальным песням пернатых обитателей имения; они действовали на него умиротворяюще. Внезапно он услышал пронзительный крик крупной птицы. На мгновение ему почудилось, что кричит орел, но оказалось, что это – всего лишь запоздалый грач, возвращающийся в гнездо после кормежки в полях.
Густой неподвижный воздух наполняли душистые запахи лаванды, чабреца и других трав. Сильнее всех был запах ночецветного жасмина, кусты которого окружали итальянский сад. Никогда еще Ардун не был так дорог Чарльзу, как в эти минуты.
Настало время принять решение. Если судьба дает ему шанс спасти Ардун ценой кабального брачного контракта со странной женщиной из чужой страны и чужой культуры, значит, так тому и быть. Долг – прежде удовольствия! Кроме того, граф понимал, что если он будет тянуть время, то графиня без труда найдет другого кандидата, который поможет исполнить ее мечту о наследнике. «Настало время решать свою судьбу, старина! – сказал он вслух, ища в сумеречном небе первую звезду. – Мортимер никогда не одобрил бы такое решение, но Охотник Джон – одобрил бы».
Графиня убедила архиепископа Севильи дать разрешение на церковный брак, хотя граф был дважды разведен и не являлся католиком. Однако архиепископ ни за что не соглашался проводить свадебную церемонию в Севильском Кафедральном соборе. Во избежание пересудов, которые могло породить в обществе венчание в менее престижном месте, графиня обратилась к кузену, кардиналу, с просьбой организовать скромную свадебную церемонию в стенах Ватикана. На церемонии присутствовало совсем немного гостей. Обе стороны одновременно объявили о браке в Англии и Испании.
В то время как неудачи первых двух браков весьма затуманили перспективы графа в банке «Браунз», союз с графиней, напротив, значительно укрепил его позиции. Чарльз испытывал огромное облегчение. Достигнутые финансовые соглашения полностью покрывали неуплаченные налоги и текущие потребности всех семейных владений Гриффинов. Они обеспечивали графу личный доход, который его вполне устраивал. Более того, графиня доверила банку «Браунз» распоряжаться значительной частью своих капиталовложений.
В результате банк создал новое Американское отделение и назначил Чарльза Гриффина заместителем председателя совета директоров банка. Американскому отделению, которое возглавил граф, было поручено возродить торговую деятельность банка в Канаде и в дальнейшем использовать ее в качестве платформы для проведения крупных финансовых операций в Соединенных Штатах и Карибском бассейне. Любой новый бизнес, который граф пожелал бы открыть в Латинской Америке, используя связи графини, приветствовался и мог послужить приятным бонусом.
Для выполнения этого плана летом 1962 года граф отправился в двенадцатимесячную деловую поездку. Идя навстречу пожеланиям графини, он выбрал местом проживания Монреаль. Аргументируя свой выбор в банке «Браунз», Чарльз сказал, что хотя Торонто быстро набирает силу, Монреаль по-прежнему остается главным финансовым центром Канады, в котором расположены многие крупнейшие корпорации и финансовые учреждения. Из Монреаля он мог быстро добраться поездом или самолетом до Торонто и Оттавы, а если на то пошло, то и до Нью-Йорка.
Кроме того, Чарльз давно хотел посетить фактории и магазины Компании Гудзонова залива на дальнем севере, а заодно посмотреть на белых медведей, которые проделывали сотни миль, чтобы совершать набеги на мусорные свалки в небольшом северном городке Черчилл.
В Монреале граф остановился в бывшей резиденции Охотника Джона на Пайн-авеню рядом с университетом Макгилла и госпиталем Роял Виктория. Дом стоял на южном склоне Мон-Руаяль – Королевской горы – достаточно низко, чтобы из него хорошо был виден огромный подсвеченный крест на вершине горы, но достаточно высоко, чтобы из окон можно было любоваться панорамой центральной части города, которая открывалась над крышами стоявших внизу зданий. Дом был возведен шотландским инженером, строившим железные дороги в Квебеке и Онтарио. Он был стилизован под средневековый феодальный особняк с серыми гранитными плитами, зеленой медной кровлей, декоративными башенками и разновеликими витражными окнами и вполне уместно смотрелся бы среди замков Абердина. Особняк напоминал графу семейный охотничий домик, стоявший неподалеку от города Инвернесс в Северо-Шотландском нагорье. 47
Многие общественные здания Монреаля строились в старые колониальные времена с таким расчетом, чтобы британские экспатрианты чувствовали себя здесь как дома. Так, обстановка клуба Сент-Джеймс, расположенного в деловом районе, являла собой попытку воссоздать атмосферу лондонского джентльменского клуба, а отель «Ритц» на Ру Шербрук выглядел скромным напоминанием о своем парижском тезке. Излюбленным местом горожан для празднования дней святого Георга, святого Андрея, святого Давида и святого Патрика был танцевальный зал в отеле «Виндзор», а офицерская столовая Гренадерского гвардейского полка и Черной Стражи славилась неизменным гостеприимством. Будучи английским лордом, Чарльз Гриффин мог пользоваться всеми мыслимыми привилегиями и жить в центре Монреаля припеваючи, обходясь без единого слова по-французски. 48
Осенью, когда летняя духота прошла, и воздух снова стал сухим и бодрящим, в Монреаль вслед за мужем прибыла графиня. Она была очарована красной, бурой и золотистой листвой, трепетавшей на ветках деревьев и устилавшей землю шуршащим одеялом.
В Лондоне графиня взяла за правило дважды в неделю совершать конные прогулки по аллее Роттен-Роу в Гайд-парке. Обычно ее сопровождал граф или – в его отсутствие – офицеры Королевской конной гвардии, которые выезжали в парке лошадей, содержавшихся в конюшнях Найтсбриджских казарм. По приезде в Монреаль, графиня договорилась с местными конюшнями, чтобы ей дважды в неделю доставляли лошадей на Бобровое озеро, расположенное на вершине горы Мон-Руаяль. Вместе со своим эскортом она целыми днями разъезжала верхом по лесам и горным тропам, останавливаясь, чтобы полюбоваться видами города и взглянуть через остров на реку Святого Лаврентия.
Синее небо Монреаля напоминало Марии об Андалусии. А затем зима мягко вступила в свои права. Первый снег укутал горы, деревья, улицы и дома бесшовным сияющим саваном, словно очистив шумный город от пороков. Но за ним безжалостно следовали новые и новые снегопады. Чередующиеся с ними оттепели превращали свежий слой хрустящих белых кристаллов в снежную кашу, перемешанную с просоленным гравием. Эта каша собиралась в уличных ливнестоках, достигая порой глубины в несколько дюймов. А когда свирепый зимний ветер кружил по Ру Шербрук и Бульвару Мезоннев, проникая сквозь меха и шерстяную одежду и пронизывая до самых костей, графиня тосковала по родной Севилье.
Мария не привыкла к северным зимам и не чувствовала большого желания сопровождать мужа в его деловых поездках. Однако она считала Монреаль благоприятным местом для рождения ребенка. Всего в десяти милях от города находилась деревня Кахнаваке индейского племени мохавков. Здесь стояла маленькая церковь, где в выстланной шелком гробнице, сооруженной иезуитскими священниками, хранились тонкие кости Катери Текаквиты – «Лилии мохавков».
Сочувствие к индейцам пробудилось в донне Марии Консепсьон так рано, что она не помнила точно, когда и почему это произошло. Возможно, все дело было в детских впечатлениях от большой – во всю стену – написанной масляными красками картины XVI века, висевшей в гостиной семейной гасиенды в Андалусии. На картине был изображен Христофор Колумб, вернувшийся после одной из экспедиций в Новый Свет и устроивший шествие индейцев по улицам Севильи к королевскому дворцу.
Когда Мария стала старше, она узнала, что индейцы, вероятнее всего, принадлежали к племени , проживавшему на Кубе или на острове Эспаньола, на котором впоследствии образовались Доминиканская Республика и Гаити. Колумб насильно привез индейцев в Испанию, чтобы продать их в рабство и таким образом окупить свои экспедиции. Попутно он использовал их в качестве диковинок для развлечения королевского двора. таино таино
Художник, получивший высочайшее разрешение на создание картины, изобразил индейцев с попугаями и туканами на плечах, игуанами и черепахами в деревянных клетках и связками заморских растений – табака, хлопчатника, картофеля и экзотических фруктов – в руках. Обнаженные бронзовые тела были причудливо раскрашены. Там, где того требовали приличия, художник снабдил их маленькими фартуками, сплетенными из семян, прошитых хлопковыми нитями. Пышные головные уборы индейцев были увенчаны перьями попугаев, которые торчали вокруг головы в виде короны. Яркие перья пучками свисали с повязок на руках, коленях и лодыжках.
Со временем, лучше узнав историю испанского завоевания Нового Света, Мария стала критически относиться к работе художника. Она заметила, что тот не показал на картине растерянность, страх, изнеможение и тоску по родине, которые несомненно испытывали пленники. Не показал он и горе индейцев, связанное с тем, что многие члены их семей и друзья умерли по пути в Испанию в переполненных трюмах маленьких кораблей Колумба, а их тела были бесцеремонно выброшены за борт на съедение акулам. Вероятно, художник полагал, что у индейцев не может быть ни мыслей, ни чувств, поскольку он придал им всем одинаковое, как у кукол, бесстрастное выражение лица.
Оставаясь одна в гостиной, Мария осторожно забиралась на стул рядом с картиной и подолгу всматривалась в глаза индейцев, как русская девочка могла бы разглядывать икону Христа или Девы Марии. Она читала у них на лицах то же блаженное спокойствие, которое привыкла видеть на картинах и статуях христианских мучеников, идущих на смерть, а в глазах – молитвенную сосредоточенность, как в глазах у Христа, несущего свой крест по улицам Иерусалима.
Мария по-детски горевала, оттого что вся Севилья и, в особенности, ее собственная семья обращалась с индейцами так же, как римляне обращались с Христом: они схватили его и заточили в темницу, глумились над его верой и заставили идти на казнь через весь город в назидание праздным зевакам. Это горестное чувство осталось с ней на всю жизнь. В день своего шестнадцатилетия Мария дала обет, что каждый год в Великую пятницу Страстной недели будет совершать крестный ход по улицам Севильи в память об индейцах, которые проделали здесь свой собственный . via dolorosa 49
В 1930-е годы, когда Мария Консепсьон училась в школе, испанская система образования относила к коренным жителям Нового Света, в основном, ацтеков, инков и майя, иногда признавая существование практически исчезнувших карибов и араваков. В учебниках мимоходом упоминались контакты конкистадоров с индейскими племенами Южной Калифорнии, Нью-Мексико и Флориды, а также с племенами, живущими по берегам Миссисипи. Андалусцы очень гордились тем, что арабские и андалусские скакуны и ослы, которых конкистадоры привезли в Америку, кардинально изменили образ жизни североамериканских индейцев. При этом очень мало сообщалось о племенах, живущих на севере Соединенных Штатов Америки, если не считать рассказов о «краснокожих дьяволах» с рогами на головах и копьями в руках. И совсем не упоминались индейцы Канады. 50
Живя в мире, где господствовали происпанские взгляды на Америку, Мария была крайне удивлена, когда в 1932 году Ватикан объявил о начале официального расследования, в результате которого – впервые в обеих Америках – индейская женщина могла быть причислена к лику святых. Речь шла об ирокезской девушке из племени мохавков, которая жила и умерла в Новой Франции – французской колонии, позднее превращенной в Канадскую провинцию Квебек.
Мария Консепсьон узнала эту новость от семейного священника, отца Молины – отставного профессора классических дисциплин Севильского университета и члена Общества Иисуса.
В тот день отец Молина собрал детей на веранде гасиенды на одно из ежемесячных занятий. В свои семь лет Мария была самой младшей в группе. Самым старшим был ее брат Карлос, которому уже исполнилось семнадцать лет. Второму брату Марии, Иньиго, было шестнадцать. Кроме них на уроке присутствовали два мальчика четырнадцати и шестнадцати лет – сыновья слуг, работавших в доме ее отца.
Отец Молина рассказал детям о Катери Текаквите – «кроткой индейской девушке, носившей одежду из оленьих шкур, мокасины и перо в волосах». Он говорил о том, как своей близостью к природе – подобно Франциску Ассизскому – и своим целомудрием она заслужила прозвище «Лилии мохавков».
До этого дня Мария ни разу не слышала, чтобы об индейце говорили как об отдельной личности, у которой могут быть семейные отношения и внутренняя духовная жизнь. Поначалу ее не очень занимали подробности обращения Катери Текаквиты в христианство – это было для нее как бы само собой разумеющимся. Марию больше увлекло устройство ирокезского Длинного дома, в котором семья Катери жила вместе с другими семьями. Дочь испанского гранда была очарована платьем индейской девушки из оленьей кожи, ее мокасинами на жесткой подошве и украшениями из бус. Она с удивлением узнала, что пища Катери состояла из рыбы, оленины, маиса и гороха. Ей хотелось побольше узнать об отношениях Катери с семьей и соплеменниками, а также о быте мохавков, живущих в лесах, по берегам рек и озер на востоке Америки и Канады. 51
Мальчиков больше интересовали отец и дядя Катери.
– А они ездили на мустангах, отец Молина? А у них были луки и стрелы? – наперебой сыпали вопросами Карлос, Иньиго и остальные юноши.
– Мустангов чаще разводили племена, которые обитали на западных равнинах и охотились на бизонов, – отвечал отец Молина. – Их образ жизни сильно отличался от образа жизни лесных племен. Ирокезы обычно передвигались в каноэ или пешком. Зимой они пользовались снегоступами и тобогганами – санями с собачьей упряжкой. Кроме луков и стрел они были вооружены топорами и ножами. Кроме того, у них были мушкеты, большую часть которых они выменяли на меха у голландцев, французов и англичан.
– А они снимали с людей скальпы? – спросил Иньиго с дьявольским любопытством.
– Мертвые не чувствуют боли, – отвечал отец Молина, – поэтому я бы не стал беспокоиться об этом слишком сильно. Но живые – чувствуют; и это правда, что ирокезы пытали своих врагов. В этом черные сутаны могли убедиться на собственном опыте.
– Черные сутаны? – переспросил Карлос.
– Да – иезуиты. Хотя это в равной мере относится и к другим христианским миссионерам, – объяснил священник.
– А это правда, что вы – иезуит, отец Молина?
– Да, это так, но в Нью-Йорк и Квебек ехали не испанские иезуиты, а наши французские братья.
– Ирокезы ели черных сутан? – продолжал допрос Иньиго.
– Нет нужды сгущать краски, Иньиго. Индейцы пытали и убили некоторых из нас, но, как правило, они оставляли людоедство для своих традиционных врагов.
– Но это ужасно! – воскликнул Иньиго с явным удовольствием.
– Да, в этом-то все и дело. Ирокезы сеяли страх в сердцах врагов. Они лишали их мужества прежде, чем те решались начать войну. А если война все же разгоралась, то ирокезы старались психологически подавить противника в рукопашной схватке. Вот почему они наносили на свои тела татуировки. Это было что-то вроде магической защиты, которая вселяла ужас во врага.
– Так вот для чего мохавки брили головы и оставляли на них гребешки волос? – растопырив пальцы, Иньиго изобразил вздыбленный гребень у себя на голове.
– Да, он так и называется – ирокезский гребеньили попросту «ирокез», – ответил отец Молина. – Я полагаю, что благодаря гребню воины казались выше ростом и выглядели более устрашающе. Но вспомните, ведь и наши испанские конкистадоры носили похожие головные уборы – металлические шлемы с высоким гребнем и оперением.
– Но ведь черные сутаны не были врагами ирокезов, – присоединился к допросу Карлос. – Почему же ирокезы мучили их?
– Они считали иезуитов своими врагами, Карлос. Они думали, что черные сутаны – колдуны, виновные во многих ужасных бедствиях – неурожаях, эпидемиях европейских болезней, – которые постигли индейцев. Они думали, что мы разрушаем их обычаи, их верования и семейный уклад или строим им какие-либо другие козни в этом роде.
– А когда иезуиты ехали в Америку, они знали, что их будут пытать, а может быть, и убьют? – не отступался Карлос.
– Первые из них понимали, что риск велик. Те, кто следовали за ними, знали, что произошло с их предшественниками. А некоторые из тех, кто выжил после пыток, возвращались туда снова, – отвечал отец Молина.
– Но почему!? – хором воскликнули Карлос и Иньиго.
– Почему Христос пошел в Гефсиманский сад после тайной вечери, хотя и знал, что один из учеников предаст его в тот вечер? Когда его охватила смертная скорбь, он взмолился, обращаясь к своему Небесному Отцу: . Но потом прибавил: . «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия» «Впрочем, не как Я хочу, но как Ты»
При звуках знакомых фраз из Нового Завета дети затихли. Поскольку никто из них не нашелся что сказать, отец Молина продолжал свою проповедь.
– – произнес он тоном, подразумевающим, что сказанное не требует доказательств. «Кровь мучеников есть семя христианства!»
Последовавшее за этим долгое молчание нарушила Мария.
– Иезуиты умереть? – спросила она. хотели
Отец Молина долго смотрел на девочку, словно его внезапно захватила некая мысль. Затем он соединил ладони и прижал кончики указательных пальцев к нижней губе.
– Устами младенца… – сказал он. – Какой любопытный вопрос!
Отец Молина подарил каждому из детей закладку для богослужебных книг, на которой была изображена Катери Текаквита. На обратной стороне закладки мелким шрифтом было напечатано краткое жизнеописание Катери, которое Мария выучила наизусть. Мать Катери принадлежала к племени алгонкинов, а отец – к племени мохавков. Оба родителя и брат умерли от оспы, занесенной в Америку европейцами. Катери выжила, хотя болезнь подорвала ее здоровье – у нее ухудшилось зрение, а на лице осталось множество рубцов. Через некоторое время она вступила в христианскую общину «молящихся мохавков» в новой деревне Кахнаваке. Деревню основали иезуиты в десяти милях к юго-западу от крупного, хорошо защищенного французского поселения Вилль-Мари, позже переименованного в Монреаль. Катери приняла крещение, когда ей исполнилось двадцать лет. Она хотела стать монахиней и дала обет целомудрия. Но епископ посчитал, что девушка не готова к монашеской жизни. Несмотря на это иезуиты позволили ей стать послушницей при их миссии. Катери умерла от пневмонии в 1680 году в возрасте двадцати четырех лет.