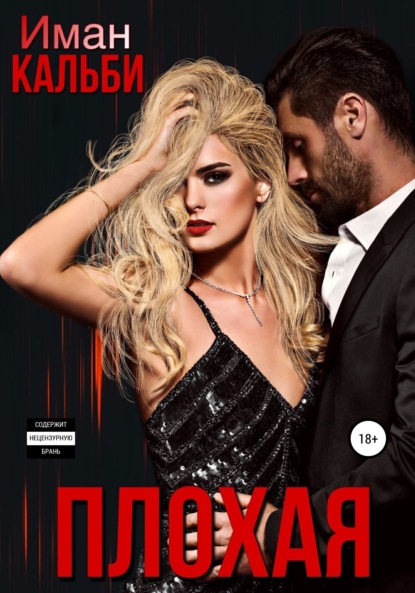Усадьба Сфинкса

- -
- 100%
- +
Катерина Ивановна протянула смартфон. Зоя встала, подошла посмотреть и вздохнула. Молодой человек был симпатичным, но вполне обыкновенным: рыжеватый, чуть лопоухий, мальчишески вытянувшийся, и оттого худощавый. А вот Александра Белопольская оказалась изумительно красива какой-то величественной северной красотой: мягкий овал лица, большие голубые глаза с томной поволокой, еще по-детски припухлые, нежные губы и длинные, густые, пшеничного цвета косы. На фото она стояла почти вровень по росту с долговязым Вадимом, и казалась более статной и совсем чуть-чуть полноватой, что бывает у девушек ее типажа, только вступающих в период зрелости, и что совсем ее не портило.
– Вот это мы все вместе ездили в Крым… а вот это с выпускного: вот мой муж, а вот Тихомировы рядом с Вадюшей…
В чертах юной красавицы Саши с трудом, но можно было увидеть что-то от интеллигентной внешности Катерины Ивановны, зато на своего отца, невысокого лысоватого человека с квадратным лицом и маленькими глазками, она не походила вовсе.
– Действительно, очень красивая пара, – сказала Алина. – Никак не могу понять, на кого Александра больше похожа: на вас или на вашего мужа?
Бледные губы Катерины Ивановны впервые дрогнули в подобии слабой улыбки.
– Вы тоже заметили? Да, Сашенька внешностью пошла совсем не в нас, зато удивительно схожа с моей бабушкой, своей прабабкой, почти одно лицо, насколько можно судить по старым фотокарточкам… Странные причуды генетики.
Катерина Ивановна помолчала, убрала телефон и продолжила.
– Ребята закончили в этом году школу и поступили в один университет и даже на один факультет, чтобы быть вместе, – продолжала Катерина Ивановна. – В Горный, знаете? Там еще форма такая, немного старомодная… Вадим, конечно, был увлечен геологией с подачи отца, ну а Сашенька подстроилась. У них ведь все было очень серьезно. И вот мы с Тихомировыми вместе решили, что не будет ничего дурного в том, что ребята станут жить вместе, тем более что Саше как раз в конце августа исполнилось восемнадцать. Средств на покупку квартиры у нас нет, брать в долг или разменивать жилье никто не хотел: это такая морока, да и зачем? Мы скинулись, и в июле через знакомых сняли ребятам очень симпатичную отдельную квартирку недалеко от Университета, чтобы можно было пешком ходить, на 16-й Линии… Они так радовались! Я вот думаю часто, что если бы они остались жить с нами, то кто знает…
Белый платок снова врезался в руку. Катерина Ивановна помолчала и продолжила.
– Они прожили там чуть больше месяца. В этой квартире их и нашли. Ребята каждый день с нами созванивались, и вполне естественно, что когда дети не позвонили сами, не отвечали на наши звонки и сообщения ни днем, ни вечером, ни ночью, то на следующее утро мы все четверо собрались и поехали…
– Катерина Ивановна, – сказала Алина. – Пожалуйста, вот с этого момента постарайтесь все вспомнить в мельчайших подробностях. Я знаю, это непросто, но вы попытайтесь.
Катерина Ивановна кивнула.
– Я уже рассказывала это и оперативному сотруднику, и следователю… Думаю, что смогу повторить.
Влажная тьма прильнула снаружи к окну, будто прислушиваясь. Чья-то тень появилась из провала арки двора, преломилась в свете единственного фонаря на стене, заскользила по стенам, словно вдруг превратившись из человека в какое-то жутковатое хищное существо, отразилась на миг в сотнях дождевых капель и снова исчезла. Алина внимательно слушала.
…Раннее осеннее утро, сквозь плотные тучи едва пробивается тусклое свечение нехотя просыпающегося солнца. На узкой улице пусто; еще только зажигаются первые окна, за которыми кое-как под назойливые призывы будильников выбираются из вязкого утреннего сна обитатели окрестных домов; покрытые каплями влаги автомобили не тронулись с места, и прохожие, зябко поеживаясь, еще не зашагали к метро; только какая-то фигура в бесформенном длинном плаще маячит во мгле, ведя на поводке большого понурого мокрого пса.
У четырех человек, вышедших из такси у парадной четырехэтажного дома красного кирпича, напряженные и немного растерянные лица, как у людей, нечасто сталкивающихся с бедой. Они поднимают головы и смотрят наверх: три окна на четвертом этаже безнадежно темны, рама одного чуть-чуть приоткрыта. За поблескивающими в свете фонарей стеклами застыла пугающая неизвестность.
– Ну, заходим, – неуверенно проговорил кто-то.
Стены полутемной парадной лестницы отзываются шепотом эха на шорох шагов. Мужчины тяжело дышат, женщины переговариваются негромко:
– Мы уже разное думали, может быть, ушли в гости к кому-то, а телефоны дома оставили, или не зарядили вовремя и не заметили, а может быть, их обокрали, и они сейчас в полиции заявление пишут…
За дверью квартиры непроницаемая ватная тишина. Тускло звякнула связка ключей. Лязгнул, отпираясь, замок, раз и другой. Дверь дернулась, но не открылась: ее держал засов, задвинутый изнутри.
– И вот тут нам стало ясно, что случилось какое-то страшное несчастье. Я немедленно позвонила хозяйке квартиры, она неподалеку живет и сразу пришла, и тогда уже вызвали специальную службу, чтобы вскрыть дверь…
Четверть часа, когда ждали хозяйку, и потом еще полчаса, пока через просыпающийся город спешили мастера взлома, они почти непрерывно звонили, раз за разом нажимая кнопку, откликающуюся пронзительным зуммером за запертой дверью, разрываясь между надеждой услышать шаги и звук отпираемого засова и ужасом осознания, что этого не произойдет. Нет ничего хуже ожидания тогда, когда беда уже очевидно стряслась и разбуженная тревогой фантазия рисует образы и ситуации, одни страшнее других, но, как бы ни были ужасны созданные воображением чудовищные картины, реальность очень часто их превосходит…
– Дверь наконец вскрыли, и я вошла первой. Знаете, я еще на лестнице чувствовала этот запах, а в квартире он был густой, как патока…
Недвижный сумрак квартиры был полон густым цветочным ароматом. Слева от входа светилось окно кухни, на вешалке в коридоре висела одежда, стояла на тумбочке женская сумочка. Дверь в комнату была закрыта. Из-под нее сочился холодный сквозняк и запах цветов. Катерина Ивановна, шедшая первой, толкнула дверь, открыла и остановилась на пороге, будто наткнувшись на стену. Через мгновение сзади пронзительно вскрикнула и упала, лишившись чувств, мама Вадима.
– Знаете, мертвое тело выглядит жутко неправдоподобно, как будто какой-то чудовищный манекен, чья-то злая пародия на человека, которого ты знал и любил…
В неверном сероватом свете, льющемся из двух высоких окон, труп на стене был похож на видение, явившееся из кошмарного сна. Вадим висел между окон на коротком, вбитом в стену крюке; лицо с искаженными смертью чертами казалось синюшной маской с искривленными черными губами. Веревочная петля, глубоко вонзившаяся в его шею, была короткой, и голова упиралась затылком в крюк, закрывая его, отчего казалось, что труп повис в воздухе, удерживаемый неведомой силой. У его ног стояла снятая со стены большая картина в тяжелой раме.
– Пейзаж какой-то… это картина хозяйки, полуизвестного автора начала прошлого века, она не захотела ее забирать…
Старинную широкую кровать с высокой резной спинкой справа от двери устилали увядающие белоснежные лилии, целое покрывало из длинных белых цветов, запах которых был таким тяжелым и приторным, что казался сладким убийственным ядом, затопившим пространство комнаты. Посередине кровати, среди рассыпанных лилий, лежала Александра: на спине, ноги выпрямлены, руки вытянуты вдоль тела, прикрытого тонкой тканью ночной рубашки от груди до лодыжек; голова покоилась на глубокой подушке; длинные светлые волосы распущены, но не растрепаны в беспорядке, а аккуратно расчесаны; глаза закрыты, черты бледного лица покойны, будто у спящей. Она походила бы на погруженную в заколдованный сон деву из старых сказок, но белую, как лилии, кожу на шее покрывали багрово-черные отпечатки, а на левом плече чернела страшная рана, кроваво-багровая дыра размером с яйцо, оставшаяся на месте отсутствующего куска плоти.
– Этот ужасный укус…
– Кто вам сказал, что это укус?
– Я как-то сразу сама поняла… Да и в заключении судебно-медицинской экспертизы так написано: травматическое удаление фрагментов кожи и мышц на левом предплечье, предположительно, в результате укуса… Я в тот момент почему-то все очень четко осознавала, как будто восприятие обострилось, но почти ничего не чувствовала, это все потом уже нахлынуло. А тогда Люба лежала без чувств, мужчины возились с ней и я вызвала полицию, медиков, а потом по какому-то наитию стала все фотографировать на телефон на всякий случай. Вот, извольте.
Алина молча листала длинную галерею кошмарных фотографических зарисовок и чувствовала знакомый колючий холод, какое-то необъяснимое, но отчетливое ощущение потусторонней жути, которой веяло от всего, что запечатлела камера: обезображенное удушьем лицо трупа в петле на стене и аккуратно прислонившаяся к стене под его босыми ногами тяжелая рама старинной картины; трогательные предметы быта молодой пары: ноутбук с наклейками на крышке, лежащий в глубоком кресле; несколько коллекционных фигурок персонажей комиксов на полке среди книг; приоткрытое окно, через которое в квартиру проникал осенний ночной холод, доска скейтборда под рабочим столом – и бледный лик юной красавицы, обрамленный раскрытыми лилиями, словно хищно распахнутыми жадными ртами, и со страшным ожерельем из темных отпечатков на шее.
– Катерина Ивановна, напомните, кем вы работаете?
– Я всю жизнь преподавала сольфеджио в музыкальной школе, – было ответом. – А что?
– Вы очень сильная женщина, если смогли сделать подробные и четкие снимки в такой страшный момент.
– Знаете, я и сама от себя подобного не ожидала. Но тогда действовала словно бы бессознательно.
Пришло время печальной и равнодушной рутины, следующей за насильственной смертью, как долгие титры после трагически-торжественного финала кинофильма: разговоры с розыском, потом со следователем. Тела забрали на экспертизу, и вот, по прошествии двенадцати дней, родителям Вадима и Саши сообщили, что следственные действия завершены, и предложили подписать согласие на прекращение дела в связи со смертью подозреваемого.
Предсказуемо, основной и единственной версией следствия стало убийство и последующее самоубийство. В материалах было изложено, что Тихомиров В. В. «по неустановленной причине» задушил Белопольскую А. Я., при этом «нанеся потерпевшей не менее одного укуса в область левого предплечья, что повлекло за собой отделение фрагмента кожного покрова и поверхностных мышц», после чего повесился сам. Двадцать пять лилий, которыми было убрано смертное ложе несчастной девушки, следствие проигнорировало, зато упомянуло задвинутый изнутри засов на двери, отсутствие следов борьбы, сохранившиеся в квартире ценные вещи и деньги.
– Следователь убеждает меня поверить в то, что наши дети занимались какими-то извращенными играми с удушением и укусами, – бледное лицо Катерины Ивановны зарделось. – Что Вадим, который не то что Сашу, а никого в жизни своей пальцем не тронул, задушил ее, потом впился в тело так, как не каждый зверь может укусить, после чего повесил себя на крюке от картины. От раскаяния. Я спросила про цветы: Саша лилии терпеть не могла и запаха их не выносила, как они вообще оказались в квартире, да еще в таком количестве? Но на это ответов нет, зато версия про сексуальные, простите меня за вульгарность, игрища – в наличии. Такого ни я, ни мой муж, ни родители Вадима принять не можем и никогда с этим не согласимся. Да и что можно расследовать чуть больше, чем за неделю: ребята погибли в ночь на 5 сентября, а в прошедшую пятницу, через десять дней, нам предложили согласиться с этой чудовищной гипотезой!
– Вы что-то уже предприняли?
Катерина Ивановна сверкнула глазами.
– Безусловно! В субботу я была у адвоката. У Володи на работе порекомендовали одного, сказали, что он неплох. По виду действительно вызывает доверие. Адвокат объяснил, что прекращение дела в связи со смертью подозреваемого – это нереабилитирующее основание, что означает фактическое признание Вадима убийцей. Для подобного требуется согласие родственников подозреваемого, которое Тихомировы от потрясения, от растерянности, под давлением – я не знаю, как и почему, но очень неосторожно – подписали, и теперь понадобится решение прокурора об отмене постановления о прекращении уголовного дела. Но для обращения в Прокуратуру потребуются какие-то доводы, и нам сказали, что можно поставить под сомнения результаты проведенных экспертиз, на основании которых было решено прекратить следствие. В данном случае это судебно-медицинское исследование… трупов, – Катерина Ивановна проглотила комок в горле, – и поэтому, собственно, я здесь. Я прошу вас провести рецензию патологоанатомической экспертизы, чтобы выявить там… не знаю… неполноту, нарушения, ну хоть что-нибудь.
Случаи, когда следствие прекращало с помощью экспертизы глухое дело, были Алине знакомы. Самым памятным было заключение о смерти от коронавирусной инфекции, сделанное в отношении найденного на улице трупа бездомного, на котором не было живого места от кровоподтеков и ссадин. Иногда на основании искусно поставленных вопросов для исследования создавались креативные полотна, достойные романа: например, история обезображенного, лишенного руки неопознанного трупа без штанов, найденного в лесу в двадцати метрах от железной дороги: по официальной версии, потерпевший повесился на собственных брюках в опасной близости от железнодорожного полотна, так что проходящий мимо состав сбил его с ветки дерева, оторвал руку, отбросил тело на несколько десятков метров в лес, а штаны унес в неведомую даль. Но сейчас было другое. Какой бы поспешной не выглядела версия следствия в отношении гибели Вадима и Александры, места для другой практически не оставалось.
– Наркологический анализ проводили?
– Да. Разумеется, там все чисто. Наши дети не были ни алкоголиками, ни наркоманами. Ни сумасшедшими, хотя следователь настойчиво и долго выспрашивал и у нас, и у несчастных Тихомировых, не было ли у Вадима странностей в поведении. Не было. Равно как и склонностей к половым перверсиям – поверьте, я бы об этом знала.
– Кто следователь?
– Мартовский Дмитрий Геннадьевич, следователь СК по Василеостровскому району.
Имя было как будто знакомое.
– А с кем из оперативных сотрудников общались, припомните?
– Да, такой представительный мужчина с необычной фамилией… Кажется, Чекан. Да, точно! Семен Чекан.
– Дежавю, – негромко проговорила Алина и усмехнулась. – А кто подписывал заключение судебно-медицинской экспертизы?
– Сейчас… у меня с собой копия есть.
Катерина Ивановна открыла сумку и достала папку.
– Вот, пожалуйста.
Алина взяла, полистала, увидела подпись и оскалилась. Фамилия подписавшего была ей хорошо известна. Просто знаки какие-то.
– Я первая, к кому вы обратились?
– Нет, – Катерина Ивановна смущенно замялась. – Вы последняя… простите. Вчера и сегодня я побывала в нескольких частных центрах экспертизы, начиная с самых крупных. Сначала по телефону все отвечали, что готовы взяться за рецензирование результатов судебно-медицинской экспертизы, а потом при встрече, когда я рассказывала подробности, все отказывались… почему-то.
«И я прекрасно понимаю, почему», – подумала Алина.
– Вы не могли бы подождать пару минут? Зоя, побудь с нашей гостьей.
Алина поднялась к себе в кабинет и закрыла дверь, с обратной стороны которой висело большое зеркало.
– Отсутствие следов борьбы, запертая изнутри квартира, внутри задушенная девушка и ее повесившийся молодой человек, – сообщила она своему отражению. – Если что-то выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то кто это?..
Но Алина по опыту знала, что внутри любой утки может оказаться яйцо с иглой, на конце которой – смерть древнего некроманта. А эта утка крякала так, что кровь стыла в жилах.
– Взяться за эту историю – это почти наверняка вступить в конфликт с Бюро и продемонстрировать желание испортить жизнь следствию. Это очень, очень много неприятных последствий, в том числе и для бизнеса, при совершенно неочевидном результате. Вот оно тебе надо, Назарова? Надо?
Отражение улыбнулось в ответ и его глаза засветились изумрудно-зеленым огнем.
Глава 3
Я проснулся от голосов в голове.
Ничего удивительного в этом не было, такое случалось нередко, но только эти голоса, вопреки обыкновению, ничего не требовали от меня, не кричали от страха и боли, не рычали от ярости, но только словно бы тихо, очень тихо плакали, жалобно и безнадежно, как заточенные во мраке ледяного ада потерянные души.
У меня болела шея, затекли плечи, а правая сторона головы, лежавшая на каменной кладке холодного пола, застыла, как после наркоза в кресле дантиста. Я пошевелился, с хрустом и треском расправляя суставы и мышцы, и с трудом открыл глаза. Впору было звать гномов, чтобы помогли мне поднять налитые тяжестью веки; голова кружилась, и вязкий сон затягивал обратно, в бессветную глубину забытья.
Мне повезло: Граф, хоть и был похож на реконструктора – любителя белогвардейской романтики, – бить умел и послал меня в глубокий нокаут, не сломав рукояткой «нагана» челюсть и не проломив черепа. Но отключение сознания от реальности на несколько минут после удара в голову – это всегда следствие тяжелого сотрясения мозга, а с таким не шутят. Как бы тренирован ты ни был и как бы ни привык к подобным приключениям, никогда нельзя быть уверенным, каким вернешься из тьмы бессознательного, и вернешься ли вообще, так что последние несколько часов вспоминались, как череда полусонных видений, когда я то приходил в себя, то снова проваливался в небытие.
Первый раз я очнулся от нежного, будто лед, прикосновения ко лбу. Я вздрогнул; это было стекло задней дверцы машины, к которому я прислонился гудящей от боли, горячей головой, когда автомобиль качнуло на повороте. За окном на фоне безжизненно серого ночного неба мелькали черные зазубренные очертания темных елей. Внутри пахло дорогой кожей салона и разгоряченными после драки людьми. Справа, притиснув меня мощным бедром, скалился Петька. Большие зубы в сумраке отсвечивали темной охрой, глаза были похожи на белки вареных яиц. За ним виднелся профиль острого личика Василия Ивановича, словно вырезанный из черной бумаги. В зеркале заднего вида я поймал взгляд задумчивых глаз Графа, сидящего за рулем. Парень с длинными волосами сидел рядом с ним и, повернувшись, смотрел на меня. Все было неподвижно, как будто я вдруг оказался в какой-то фантасмагорической кунсткамере или музее восковых фигур. Я пошевелил руками: они были связаны у запястий жестким пластиком строительных стяжек. Петька заметил мое движение и ожил:
– Что, очухался, землячок? Не скучай, недолго осталось. Сейчас доедем до места, там и закопаем тебя. Весной подснежниками взойдешь.
Он угрюмо расхохотался. Я знал, что это вранье: если бы меня хотели убить, то пристрелили бы прямо в «О’Рурке» без лишней канители, – но ничего не ответил. Мне было холодно и клонило в сон.
Второй раз я пришел в себя от того, что меня выволакивают из машины. От порыва промозглого ветра стала бить крупная дрожь. Перед глазами кружились размытые пятна. Я упал на колени; мне рывком помогли встать. Под ногами был мелкий гравий. Подобные голубым звездам, светили беспощадно яркие автомобильные фары, острые неровные тени чернели, как дыры в ткани мироздания, ведущие на его потустороннюю изнанку, так что было неясно, где стена непроницаемой ночной тьмы, а где стены каменной кладки. Я успел различить блеск стекол в высоких окнах, обширный двор и неправдоподобно огромную громаду, похожую на исполинский замок, закрывающую полнеба. Потом Петька схватил меня за воротник и потащил к черному провалу открытой двери, рядом с которой уже стоял Граф. В темноте мелькали желтые лучи ручных фонарей, мы долго брели через мрак, а затем поднимались по широким, неровным и гладким ступеням; Граф шел впереди, а позади кряхтел Петька, помогавший мне жесткими тумаками. Потом во тьме что-то лязгнуло и загрохотало, как будто по камню протащили длинную железную цепь, и дальнейшее снова скрылось в сумраке забытья…
Голова болела, но не слишком. Руки были свободны, хотя на запястьях болезненно краснели следы от пластмассовых стяжек. Я кое-как сел, размял руки и плечи, проверил карманы измятого, покрытого сероватой пылью пальто: они были пусты – ни бумажника, ни телефона, ни ключей от квартиры. Все шло по плану.
Я находился в обширном помещении с неровными серыми стенами и полом, вымощенным каменными плитами, разделенном на две части железной решеткой. Из узких, похожих на бойницы окон под потолком сочился тусклый дневной свет. Я мог бы дотянуться до них, но выбраться бы все равно не удалось: нижний край проема был скошен, а из кирпичной кладки внушительных стен поверх покрытых грязными разводами стекол торчали заостренные стальные штыри. На моей половине было совершенно пусто, отсутствовал даже деревянный настил, только стояло неопрятного вида жестяное ведро, из чего я сделал вывод, что это место вряд ли постоянно используется как тюрьма, а если тут и держат кого-то взаперти, то по случаю и очень недолго. В дальнем углу, метрах в десяти от решетки, под полупрозрачным пластиком различимы были сваленные в кучу доски и слежавшиеся бумажные мешки с окаменевшим от времени содержимым. Слева в стене виднелся широкий проход.
Наручные часы показывали четверть девятого. Значит, в бессознательном состоянии я пробыл примерно восемь часов; похоже, досталось мне сильнее, чем я рассчитывал. Впрочем, ноги держали, и головокружения уже не было; я размялся и прошелся несколько раз от стены до решетки. Было прохладно, но вполне терпимо. Рядом с дальним окном от пола до потолка тянулся широкий выступ, стенки которого были чуть теплыми: вероятно, там проходила труба расположенной ниже работающей печи или большого камина. Ниоткуда не доносилось ни звука; я походил еще немного, воспользовался ведром, сел у теплой стены и стал ждать.
Время приближалось к десяти, когда издалека эхом зазвучали шаги: два человека поднимались по каменной лестнице. Я встал. Из дверей вышли Граф и второй, с мелкими чертами лица и широкими густыми бровями, одна из которых была заклеена в нескольких местах тонкими полосками белого пластыря поверх наложенных швов. Арафатку он снял, а на поясе висела только дубинка. Зато Граф остался при оружии: подобие темно-серого кителя с той же эмблемой, похожей на соединенные алые буквы АЭ, перетягивала знакомая кожаная портупея, кобура с «наганом» была предусмотрительно расстегнута.
– Доброе утро, – сказал он. – Выспался?
– Как убитый, – ответил я.
Граф усмехнулся. Я посмотрел на его спутника и осведомился:
– Как бровь?
Он кивнул и ответил:
– Норм.
– С тобой хотят говорить, – сообщил Граф. – Если дашь мне слово, как профессионал профессионалу, что не будешь пытаться напасть или убежать, пойдешь без наручников.
Я не знал, в какой сфере Граф считал себя профессионалом и почему возомнил вдруг, что мы с ним кто-то вроде коллег, но уж точно не в моей. Профессионалы моего круга никогда не скажут правду, особенно другому такому же профессионалу, и уж точно не поверят ни одному слову, если на кону возможность оставить свободными руки. Но я прищурился, покачал головой, посмотрел по углам – вниз-влево, вниз-вправо – и наконец, словно решившись, заявил:
– Даю слово.
Граф важно кивнул. «Как же ты на свете живешь», – подумал я.
– Резеда, отпирай решетку! – скомандовал он, но на несколько шагов все-таки отошел и ладонь положил на кобуру.
Бровастый Резеда, настороженно поглядывая на меня, загремел ключом в замке. Решетчатая дверь со скрипом открылась. Я вышел, приветливо улыбаясь и растирая запястья. Резеда запер решетку и молча пошел к выходу. Я отправился следом, Граф шел за мной на расстоянии пары шагов, все так же держа руку рядом с оружием. За следующим проходом в стене была широкая пологая лестница, видимо, та самая, по которой меня ночью тычками гнал наверх Петька. Она спускалась в сумрак обширного зала, похожего на заброшенный склад строительных материалов: высокие окна заложены кирпичами, вдоль стен и по углам громоздилось нечто, укрытое плотным пыльным брезентом. Пахло засохшей краской и мокрым деревом. Я наступил на мягкое, потом споткнулся, из-под ноги с дребезжанием что-то улетело во тьму. Резеда включил карманный фонарь, желтоватый широкий луч которого через пару десятков шагов выхватил из темноты невысокую дверь. Снова лязгнул ключ, и мы вышли наружу.
Утро было хмурым, как женщина, пожалевшая, что провела с тобой ночь. Дождь кончился, но воздух был таким влажным, что им могла бы дышать петербургская корюшка. В бледно-сером небе растворилось белесым пятном холодное солнце. Мы оказались во внутреннем дворе какого-то старого замка или дворца, громадность которого так впечатлила меня среди ночи: с двух сторон тянулись высокие двухэтажные корпуса, через двери в одном из которых мы вышли, а с третьей надвигался огромный и сумрачно-серый, как грозовая туча, центральный корпус из трех этажей под вытянутой остроконечной крышей, один только чердак которой мог, казалось, вместить пятиэтажку с окраины Анненбаума. Мощные колонны поддерживали нависающий полукруглый эркер второго этажа с пестрыми разноцветными витражами; под ним блестели стеклами огромные темные окна и широкие двери. По грязно-белым колоннам вверх и вниз расползлись зеленоватые пятна; на ветхой решетке из тонких реек на десяток метров вверх тянулись иссохшие, перепутанные заросли дикого винограда; серые стены покрывали трещины, кое-где обнажавшие кроваво-коричневую старинную кирпичную кладку. Рамы дверей и окон покрывала белая чешуя облупившейся краски. Мы поднялись по невысоким пологим ступеням террасы; Резеда открыл одну из створок застекленной двери, и мы вошли внутрь.