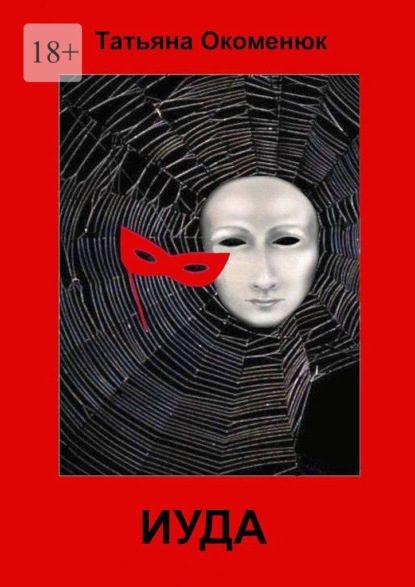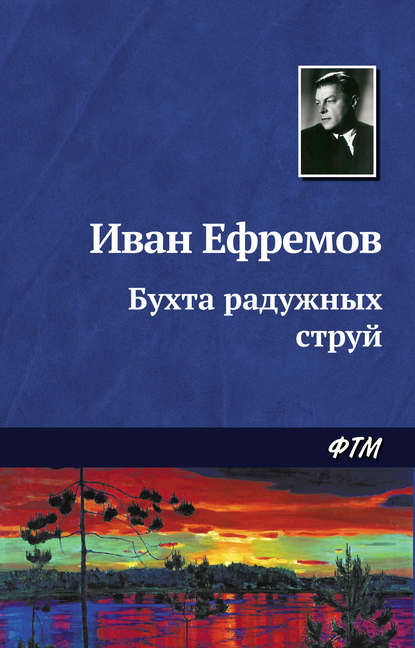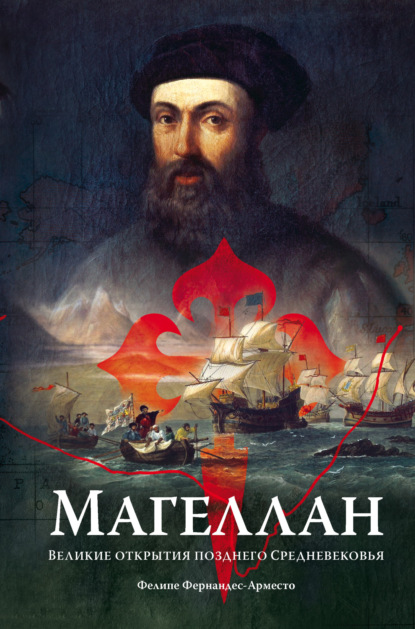- -
- 100%
- +
Когда же вернулся в Москву, у павильона «Стеклотары» столкнулся с совершенно пьяной Сонькой. Она была в черной газовой косынке с дырявой авоськой в руках. Кешка хотел прошмыгнуть мимо нее, но не успел. Та узнала его и, погрозив пальцем, пьяно протянула:
– Пооодь сюдыыы!
Он нерешительно подошел к соседке и, вымученно улыбнувшись, выдавил:
– Здрась, теть Сонь! Как там Валька поживает?
– Уже никак, – оскалилась она беззубым ртом. – Приказал тебе Валик долго жить.
От неожиданности Иннокентий прикусил язык. Его глаза забегали, как у сломанной куклы.
– Зарезали моего касатика уркаганы проклятые, – завыла женщина. – Отрядник евойный грит, что сынка сам виноват был. Вроде как, первый в драку эту полез. А там кто его знает… Вот, Кешенька, осталась я сиротой, одна, как перст… А он тебе завсегда приветы… А я, голова моя садовая, все забывала их передать. Ты уж помяни его по-соседски… Он тебя шибко уважал…
У Юдина задергалось веко, на шее вздулась вена толщиной с палец. На ватных ногах парень побрел домой. Не разуваясь, прошел в свою комнату и рухнул на тахту. Так и лежал до прихода матери. На ее приветствие ответить не смог – пропал голос. И снова были кошмарные сны. Опять перед ним стояло его «кладбище», увеличившееся на один «крест». Стояло и укоризненно на него смотрело.
Где-то он вычитал, что души убитых преследуют своих убийц, и те, испытыв ужас, сходят с ума, совершают самоубийства, попадают в ситуации, провоцирующие гибель по неосторожности. Неужели его ожидает та же участь? Иначе зачем они приходят? А, может, это и не они вовсе, а его собственная совесть, принимающая столь причудливый облик?
Иннокентий очень хотел получить ответы на эти вопросы, но не знал, кому их задать. Не рассказывать же матери, какая он дрянь, на самом деле. Она уважает его, любит, боготворит и, как большинство родителей, понятия не имеет об истинной сущности своего чада.
– Ма, может мне к психиатру сходить? – спросил он Марину Юрьевну, когда вернулся голос.
– От этого, сыночка не лечат, – погладила она Кешку по голове. – Ты у меня добрый и очень впечатлительный. Чужое горе всегда переживаешь, как свое собственное. Я рада, что из тебя получился настоящий человек.
Настоящий… Дух Дятла вон считает, что дерьмо на палочке из него получилось, а не человек. Где-то он, конечно, прав: Валька из-за него загремел за решетку. А впрочем, почему из-за него? Из-за собственной глупости. Мало ли кто кого к чему подстрекает? Если ему, Иннокентию, завтра посоветуют прыгнуть с Бородинского моста в реку, разве он прыгнет? А Валька на спор прыгнул бы откуда угодно, потому что – идиот. За это и пострадал. Ну, еще и за сущность свою криминальную.
Прошлым летом Кешка прочел в одной книге о забавном эксперименте. Группу людей заставили выпить энное количество воды, заперли их в подвале, объяснив, что они не выйдут оттуда, пока… не наделают в штаны. И вдруг выяснилось, что это бесхитростное действие совершенно невозможно выполнить. Люди корчились, мучились, но терпели, ибо с младенческих лет усвоили: ходить под себя нельзя. Даже конченный алкоголик, желая облегчиться, вытаскивает свое хозяйство из ширинки. И если кто-то по пьяни или по чужому наущению совершает преступление, то дело вовсе не в количестве выпитой водки или страхе неподчинения, а в том, что у данного человека нет психологического табу на совершение преступного деяния…
Вон и соседка их, Эльфрида Карловна, говорит: «Без ведома господа и волос не упадет с головы человека». Значит, была на то божья воля, чтоб Вальки Балбеса не стало. Видно, заслужил он свою судьбу.
В выпускном классе Иннокентий стал самой яркой «звездой» школы. Комсомольский активист, будущий медалист, юный писатель, чьи работы неоднократно появлялись на страницах самого популярного молодежного журнала страны, он наконец привлек внимание девчонок. Не замечавшие его ранее, они стали писать Кешке записки, кокетничать с ним, приглашать на «белый» танец, названивать ему домой.
Несмотря на чрезвычайно трепетное отношение к собственной персоне, он прекрасно понимал, что ни кожей, ни рожей не вышел. Что прекрасный пол «ведется» на интеллект и материальные возможности. И с первым, и со вторым у него все было в полном ажуре. Взять хотя бы его «упаковку». В то время, когда парни сплошь и рядом носили пудовую обувь фабрики «Скороход», Кешка щеголял в чехословацком импорте фирмы «Батя» из мягкой замши и шевро. В школу ходил не с дерматиновым портфелем, а с кожаной папкой на «молнии». Занятия по физкультуре посещал не в черных хэбэшных шароварах, а в синем шерстяном «олимпийском» костюме с молнией.
У него были польские и индийские джинсы, модные выходные костюмы, замшевый пиджак, толстые венгерские свитера, тонкие сирийские рубашки, которые он носил с узкими галстуками-«шнурками» или с пестрыми шелковыми кашне. Юный модник вызывал зависть всех школьных «слепондр» своими шикарными дымчатыми очками, купленными матерью у спекулянтов за совершенно безумные деньги.
У Кешки в шкафу стояли недоступные простому обывателю книги, включая четырехтомник Хемингуэя и пятитомник Ильфа и Петрова. В кармане у него всегда была сумма, достаточная для того, чтобы пригласить девушку в кафе, кинотеатр или филармонию.
Конечно, все это было заслугой Марины Юрьевны, вкалывавшей с утра до ночи и раз в месяц ездившей за дефицитом в Прибалтику. Сама она к тряпкам была равнодушна и редко покупала что-то для себя. Главное, чтоб сынок ни в чем не нуждался и выглядел лучше всех. По этой же причине Марина Юрьевна не устраивала свою личную жизнь, отвергая любые попытки мужчин сократить дистанцию. «Зачем напрягать мальчика? – рассуждала она. – Вот выучится, женится, тогда видно будет».
Понимал ли Иннокентий, что мать живет исключительно его интересами, был ли ей за это благодарен? Вовсе нет. Он настолько привык к положению «центропупа», что иного себе даже не представлял. Парень двигался по жизни, как скутер по воде: быстро и не углубляясь.
Друзей у него не было, одни знакомые. И это юношу вполне устраивало. Он разделял мнение Вольтера: «Избави меня, Боже, от друзей, а с врагами я и сам справлюсь». Поэтому лучшим приятелем всегда считал книгу: не нудит, жрать не просит и с советами не лезет.
С девушками у Юдина тоже все было очень непросто. Когда-то он был влюблен в Анжелку, грезил ею во сне и наяву. Но до тех пор, пока та его не замечала и всячески уклонялась от совместного времяпровождения. Как только первая красавица класса сама предложила ему сходить на «Кавказскую пленницу» и в темном кинозале положила голову на его плечо, интерес к девушке сразу же испарился. В мгновение ока она превратилась для него в навязчивую девицу, обломавшуюся когда-то ответом покойного Мухи: «Будет видно».
Теперь наступил его, Кешкин, звездный час. Когда прощались на пороге ее дома, Анжелка, нервно полируя круглые носы своих лакированных туфелек о задники модных брючек-сигарет, спросила скороговоркой: «Ну так что, будем с тобой ходить или как?». Выдержав театральную паузу, он произнес: «Или как».
– Чиииво? – скривила губки Анжелка.
– Перегорела моя симпатия к тебе. Раньше надо было чесаться, маркиза ангелов…
– Придурок! – процедила она, переварив услышанное, и тут же рванула в подъезд.
Благодаря умело распущенным слухам, вскоре вся школа судачила о том, что Юда «прокатил» красотку. Что, навязываясь к нему в подружки, она получила жесткий отлуп. После этого девичий интерес к Иннокентию подскочил, как курс акций на бирже, да и в глазах парней он поднялся на пару ступеней.
Как и положено начинающему гению, школу Иннокентий закончил с медалью. На выпускном мысленно порадовался грамотно проведенной операции по устранению Дятла. Это был единственный случай за весь истекший учебный год, когда он вспомнил о бывшем математике. Вспомнил отстраненно, безэмоционально, как о прошлогоднем снеге: ну был, кажись, и что? По ассоциации, в мозгу возник и образ Балбеса. Но лишь на мгновение. Скользнул по сознанию, как вода по стеклу, и тут же исчез.
В своем синем клеенчатом талмуде с афоризмами, Кешка когда-то записал высказывание Гете: «Все было бы очень хорошо, если бы все наши поступки можно было совершать дважды». Тогда он был согласен с классиком. А сейчас… Сейчас он смотрел на мать, счастливую, одетую в модное кримпленовое платье, благоухающую дефицитными духами «Вецрига», распираемую гордостью за сына-медалиста, и со всей очевидностью понимал: вернись он назад, ничего бы менять не стал. Продублировал бы все под копирку, «списав в расход» и личного врага Кушнарева, и опасного свидетеля Балбеса.
Костя Багров
Еще весной, до начала вступительных экзаменов, Кешка отправил на рассмотрение комиссии тридцать машинописных страниц со своими рассказами. Все они уже были опубликованы в газетах и журналах. Так что, сомнений в поступлении у него практически не было. Собеседование уже было чистой формальностью, и Юдин стал студентом вожделенного ЛИТа. Звучит-то как! Специальность: литературное творчество, специализация: проза. Не поэзия какая-нибудь, не художественный перевод, не литературная критика, а ПРОЗА. С ума сойти!
Иннокентия распирала гордость за сопричастность к особой атмосфере кузницы литературной элиты, ведь в этом здании родился Герцен. Бывали Гоголь, Белинский, Баратынский. В этих залах выступали Блок, Маяковский, Есенин… В общежитии жили Платонов, Мандельштам, Пастернак, Андреев. Здесь преподавали Паустовский, Светлов, Реформатский… В этих стенах учились Астафьев, Айтматов, Рождественский, Приставкин и… он, Иннокентий Юдин. Пройдет пара десятилетий, и его портрет обязательно будет висеть в ряду классиков на стене длинного узкого коридора овеянного легендами старинного особняка…
Кешка попал на Вас-Васовский семинар. Разумеется, не случайно – их с Котькой Багровым Протасевич отобрал лично вместе с десятком других юных дарований. Остальных семинаристов ему навязал ректорат – «чтобы жизнь не казалась медом».
Обучение писательскому мастерству началось для будущих классиков со… сбора моркови. К своему ужасу, Иннокентий попал в колхоз. Для кого-то сельхозработы – это романтика, дым костра, песни под гитару, совместное распитие самогона местного производства, потасовки с аборигенами и первые студенческие романы. Для Кешки же – бессмысленный рабский труд, антисанитария, жуткое питание, боли в спине, бессонные ночи под аккомпанемент разнокалиберного храпа, стычки с «немосквичами», привыкшими в своих тырловках к коммунальному пользованию чужой собственностью…
В этих, «нечеловеческих», условиях он сблизился с Котькой Багровым, хоть и, по-прежнему, недолюбливал того за свободомыслие, ироничное отношение к авторитетам, несомненный писательский талант и наплевательское отношение к результатам собственного творчества. Косте было абсолютно все равно, опубликуют ли его свежий рассказ в журнале, похвалят ли его работу критики и даже закончит ли он институт. Флегматичный Багров был настоящим «пофигистом», из тех, кто «хвалу и клевету приемлет равнодушно и не оспаривает глупца». Полное отсутствие у парня честолюбия невероятно бесило рвавшегося в авангард Кешку. По его мнению, Котьке все доставалось на халяву, в то время, когда ему подобные результаты давались «потом и кровью». Через много лет Иннокентий Юрьевич прочтет у Игоря Губермана: «Талант сочиняет, потея, а гений ворует у Бога» и поймет разницу между упорством «ремесленника» и легкостью пера «стенографиста», поцелованного Всевышним в темечко. Но это будет потом, а сейчас Кешка невероятно злился на «вселенскую несправедливость».
Но, как бы там ни было, а Котька Багров был «своим среди чужих» и как нельзя лучше подходил на роль союзника. Вдвоем было проще противостоять «провинциалам».
Как ни странно, «провинциалы» с Котькой не конфронтировали. Они демонстрировали ему симпатию и уважение. Даже бригадиром выбрали, несмотря на отнекивания последнего. По вечерам они плотным кружком собирались вокруг Багрова, сидевшего с гитарой на деревянных ступеньках избы-общежития, и слушали в его исполнении «блатные» песни.
Котька знал всего несколько простейших аккордов, но голос у него был красивый, бархатный, с легкой хрипотцой. Его баритон приманивал измотанных работой девчонок, и те, раскрыв рот, внимали совершенно тупым песенным текстам.
Кешка недоумевал: как можно будущим поэтам и писателям, двигателям грядущего литературного процесса, всерьез проникаться примитивизмом типа:
Нас было шестеро фартовых ребятишек,Все были шулеры, все были шулера.И пятерых из нас прибило пулей к стенке,Меня ж отправили надолго в лагеря.Сам Иннокентий не причислял себя к любителям блатняка. Он, как и предписано распорядком, в двадцать три ноль-ноль уже лежал в постели, пытаясь уснуть еще до того, как раздастся храп провинциалов. Кешка хронически не высыпался. Да и как тут выспишься: в семь утра – подъем, в восемь уже раком в поле стоишь, вечером – гудеж, ночью – галдеж. Однокашники обычно колобродили до утра. Даже через ватные тампоны, вложенные Юдиным в уши, просачивался их хохот, визг и голос Багрова, выводящий:
Я помню – носил восьмиклинку,Пил водку, покуривал план,Влюблен был в соседскую ЗинкуИ с нею ходил в ресторан.«Как этим жеребцам спать не хочется? И почему надзирающие за ними аспиранты не загоняют в стойло это визжащее стадо? – злился Юдин. – Небось, сами уже никакие». Он видел, как в обеденный перерыв один из них соскакивал с кузова грузовика с полной сеткой «Фетяски». Какая уж тут дисциплина! Скорей бы свалить отсюда. Председатель колхоза обещал раньше срока отпустить домой ту бригаду, которая соберет две тонны моркови. Надо собрать…
Это была последняя мысль, посетившая голову засыпающего Кешки. Ему снились бескрайние поля, похожие на африканскую пустыню, а в них на каждом шагу – гигантская морковь размером со средний баобаб. Кешка первым сообразил, что, выкорчевав один такой корнеплод, они сразу же выполнят план заготовок. В этом баобабе как раз тонны две и будет. Он свистнул своей бригаде, и та, навалившись на морковь, стала раскачивать ее в разные стороны: раз-два, раз-два, э-э-эх ухнем! Так и выворачивали «свою норму» под звуки там-тама: бах-бах бах, бах-бах-бах…
На третьем бабахе Юдин проснулся. Барабанили не тамтамы, а его пьяные однокашники: Котька лупил по деке гитары, остальные – по деревянным ступенькам их избы. Мать честная, на часах уже полчетвертого! Интересно, где они в это время спиртное раздобыли? Неужели «надзиратели» «Фетяской» поделились?
То, что ребята уже назюзюкались, слышно было и по «вокалу», сопровождаемому «ударными», и по репертуару. Пели они частушки, но весьма специфические:
Пойдем, милка, погуляем,на дворе така жара!Пусть морковку убираютиз Москвы инженера!А страна моя роднаярасцветает каждый год,расцветает, расцветаети никак не расцветет.Кешка вздрогнул всем телом, а пьяный хор тем временем продолжал вопить:
Прощай, скука, прощай, грусть,я на Фурцевой женюсь,буду тискать сиськи ясамые марксистския!Юдин вскочил на ноги, натянул спортивки, вышел на крыльцо:
– У вас с головой все в порядке? – постучал он пальцем по виску. – Четыре утра, а они на всю округу хрень всякую орут.
В ответ раздался нетрезвый хохот и новая порция частушек:
Новую машину изобрел колхоз,можно убирать ею сено и навоз.Деканат печать поставил на патент,Та машина называется – студент.Больше не волнуют их планы и проценты,Что колхоз не сделает, сделают студенты. Га-га-га!Кешка обреченно махнул рукой и вернулся в постель. Что можно втолковать пьяному? Прав был Ремарк: алкоголь сближает людей гораздо быстрее, чем интеллект. Вот и произошла смычка столицы с периферией.
А частушки таки забавные. Надо бы их зафиксировать. Может, пригодятся еще при написании какого- нибудь шедевра. Хотя… вряд ли…
Тем не менее, он достал из рюкзака свой гроссбух, надел очки, включил фонарик и быстро настрочил все услышанное. Память у него была не просто хорошей – блестящей.
Судя по смене репертуара, наиболее голосистая часть хора угомонилась. Оставшиеся же дошли до «фазы обезьяны». Начались двусмысленные речи, байки и анекдоты.
Кешка протянул руку к круглой жестянке с леденцами, положил в рот три штуки, прислушался:
– Фиделю Кастро устроили горячую встречу в Москве, – прохрипел Котька. – Оставшись с Хрущевым наедине, он срывает с себя парик, отклеивает бороду и, обессиленный, опускается на стул:
– Не могу больше, Никита Сергеич…
– Надо, Федя, надо!
За окном раздались раскаты хохота.
– Что такое вобла? – прозвучал голос толстяка Толяна с драматургического семинара. – Это кит, доплывший до коммунизма.
Предрассветную тишь деревни разорвало новое «бу-га-га!». Заржал и Кешка, едва успевший спрятать под подушку фонарь с тетрадью, – соседи по бараку появились довольно неожиданно. Котька изрядно клонился на «левое крыло», но автопилот его не подводил.
– Хорош гусь, – умилился Юдин состоянием приятеля.
– Лучше уж от водки умереть, чем от скуки! – процитировал Константин пролетарского поэта, стягивая через голову ковбойку.
– Ну да, – раздраженно согласился Иннокентий, которому спать осталось часа три. – Водка, конечно, – враг, а врага надо уничтожать любыми способами.
– Умничка! – поцеловал его в лоб Багор. – Ты еще не потерян для общества.
Утром со вчерашних гуляк впору было писать картину: «А все ты, водка, виновата!». С коек поднялись с неимоверным трудом. Едва переставляя ноги, с полузакрытыми глазами ребята ползли к умывальникам. Наблюдая за ними, аспиранты покатывались со смеху:
– Пьянству – бой! – заявили первокурсники. – Сегодня победило пьянство. Завтра соперники встречаются вновь.
– Да-а-а, хорошо погуляли, – согласился Котька. – Опохмелиться бы.
– Ага, – заржал ассистент кафедры физкультуры Ленчик Макогон. – Вместо чаю утром рано выпил водки два стакана. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной.
– Что пили-то? – поинтересовался у Багрова Кешка, оказавшийся за скобками всеобщего веселья.
– Самый гонимый в стране напиток, – хмыкнул тот. – Самогон называется.
Работа в этот день шла из рук вон плохо. Часть моркови зарыли еще глубже, часть затоптали. Колхозный бригадир, как раненый медведь, ревел на Котьку, бригадира студенческого:
– Что за работа, я тебя спрашиваю? Это не работа, а саботаж. Пьют, понимаешь ли, как взрослые, а работают, как дети…
Сонный, как осенняя муха, Котька прогундосил:
– Простите, барин, не доглядел.
Все притихли. Несколько секунд Харитоныч растерянно хлопал ресницами, оглядываясь окрест – все не мог поверить, что, действительно, слышит ерничанье юного наглеца.
– Я доложу вашему руководству о полном моральном разложении комсомольцев, – заорал он. – Пьянство, б… ство, песни похабные на все село, понимаешь ли…
– А я доложу вашему, – зевнул Багров, – что Гавриловна, ваша драгоценная теща, гонит самогон и спаивает молодое поколение. Причем, самогон у нее некачественный. Дерьмо, а не самогон. У половины, откушавших ее продукт, – рвота и расстройство желудка. В результате, масса народу выбыла из трудового процесса… А это – ничто иное, как экономическая диверсия, понимаешь ли…
Бригадир с минуту хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Затем, махнув на Котьку грязной пятерней, заорал: «Чтоб завтра мне две нормы дали!» и удалился с глаз.
– Накрылось наше досрочное возвращение медным тазом, – расстроился Кешка. – Теперь и две тонны не помогут.
Он оказался прав. Вернулись без обещанных правлением премий и ценных подарков. Роль последних исполнила толстая книга «Древнерусское искусство». Одна на всех.
***
Учебный процесс захватил Иннокентия сразу. Во многих преподавателей он просто влюбился. Вас-Вас, конечно, был вне конкуренции: красавец, модник, интеллектуал, острослов, эрудит, одним своим появлением он будоражил воображение студенток. Его остроты давно вошли в вузовский фольклор, годами циркулируя по коридорам и аудиториям. «Не верьте в загробную жизнь и в заочное обучение», «Студент – это ангел, не запятнанный знаниями», «Eсли вас приняли в институт без экзаменов, значит, это – институт Склифосовского». «Гни извилину, иначе будешь гнуть спину!» – лишь некоторые из великого множества Вас-Васовских афоризмов, добросовестно внесенных Иннокентием в его клеенчатый «кладезь мудрости».
Но были в вузе и такие «преподы», которых он невзлюбил с первого взгляда. Антипатии, как правило, бывают взаимными. Так получилось и с Заблоцким, их русистом, на каждом занятии провозглашавшим: «Господа будущие Лауреаты государственных премий, не надейтесь на корректоров. Творец должен в совершенстве владеть родным языком, и я заставлю вас, допрежь вы возьметесь за свое стило, освежить в памяти все правила русской грамматики».
Кешка, сидевший за первым столом скривился, как от зубной боли. Его невероятно раздражал этот суетливый гном с авторитетным животиком, постоянно поправлявший на переносице круглые пенснеобразные очочки.
Марк Абрамович засек эту гримасу и подкатился к Кешке.
– Фамилия?
– Юдин.
– Угу… Я так понимаю, молодой человек, вы у нас – грамотей, каких поискать, – сверкнул он золотыми коронками.
– Вообще-то я школу с медалью закончил… В Москве.
– Москвич, значит? – улыбнулся Гном ехидно. – Ну, пожалуйте, мил-человек, на «лобное место». Напишем с вами мини-диктантик. Если сделаете меньше трех ошибок, ближайший зачет получите автоматом.
Кешка, хмыкнув, направился к доске – ошибок в диктантах он никогда не делал.
– А вы, господа прозаики, вместо созерцания чужого фиаско, откройте тетради и вместе с Юдиным проверьте уровень своей грамотности.
Заблоцкий выкатился из-за кафедры, с трудом протиснулся за Кешкин стол, уселся на его место и, пригладив прилипшие к бледной лысине прядки, стал медленно диктовать: «На колоссальной дощатой террасе, близ асимметричных кустов малинника и конопляника,.. – тут Иннокентий в первый раз споткнулся, – … под какофонический аккомпанемент аккордеона, виолончели и беспричинный плач росомахи.., – здесь он задумался во второй раз, – …сидя на оттоманке, под искусственным абажуром, закамуфлированным под марокканский минарет, небезызвестная вдова протоиерея, веснушчатая…, – на этом месте он всерьез застопорился, – …Агриппина Саввична Филиппова, исподтишка потчевала можжевеловым вареньем, калифорнийским винегретом с моллюсками и прочими яствами коллежского асессора…, – тут Кешка почувствовал, что здорово вспотел, и его рубашка полностью прилипла к спине, – … и индифферентного ловеласа Фаддея Аполлинарьевича, сидевшего, расстегнув иссиня-черный сюртук и засунув руки подмышки».
Все, господин хороший, садитесь. Единица! Восемь ошибок в одном предложении – явный перебор для медалиста. Если вам дали хорошее образование, это вовсе не значит, что вы его получили. Будем повторять правила. Итак, как пишется слово «дощатый»?
Настроение у Иннокентия упало в точку замерзания. Недавно его выбрали комсоргом курса, он стал вожаком, уважаемым человеком, и тут – такая оплеуха. И от кого? От пузатого Гнома! Слухи в студенческой среде распространяются быстрее инфекции. Теперь, хоть на край света беги.
– Ты в «тошниловку» идешь? – поинтересовался у него Котька на перемене.
– Не успеваю. Надо в комитет комсомола заскочить. Возьми мне один пирожок с мясом, один с капустой и два с повидлом.
Со скоростью метеорита Багров понесся в харчевню занимать очередь. Кешка с завистью посмотрел ему вслед: не нервы у пацана, а стальные канаты. Сейчас, на семинаре, будут разбирать новое Котькино творение, а он озабочен лишь тем, как брюхо набить. Хорошо б и ему поучиться у однокашника подобной реакции на текущие события, но увы: разные темпераменты, разные психотипы. Что бы ни случилось, Константин спокоен, как индейский вождь, а его, Кешку, при малейшем потрясении дико колотит.
После ЦУ, полученных у комсорга вуза, Юдин поплелся в шестую аудиторию, где Вас-Вас проводил семинары. У «стены объявлений» стоял гомон. Одни обсуждали вчерашний поход на поэтический вечер в Центральный дом литератора, другие делились впечатлениями от МХАТовской премьеры «Дон Кихота», третьи возмущались километровой очередью за гэдээровскими махровыми халатами в ГУМе.
«Мне бы ваши заботы, – подумал Кешка завистливо. – А то у меня на горбу висят: „Комсомольский прожектор“, выездная агитбригада, отряд охраны правопорядка, встреча с писателями-ветеранами, дежурство у синагоги, будь оно неладно вместе со всеми имеющимися у евреев праздниками»…
В аудитории уже собрался десяток семинаристов. Ребята переписывали друг у друга конспекты пропущенных лекций, хрустели яблоками, чавкали бутербродами, ссорились из-за пропавшего учебника, обсуждали последний концерт Аркадия Райкина.
Ляля Грош, чей рассказ предстояло разбирать вместе с Котькиной повестью, дрожала у окна, репетируя защитную речь. Багров же восседал на подоконнике, лениво терзая гитару битловскими мелодиями.