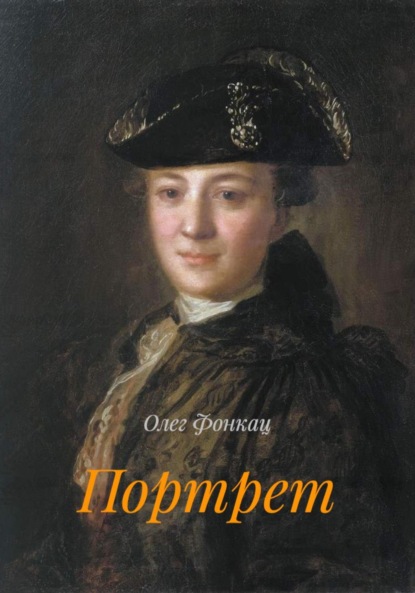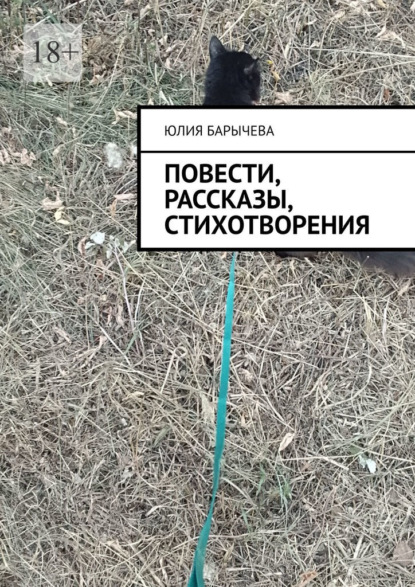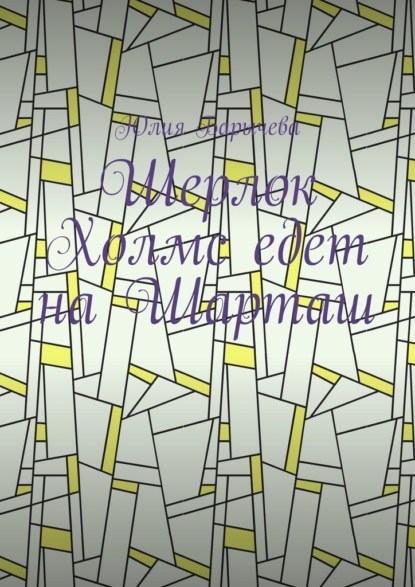- -
- 100%
- +
– Какой вы, однако, наблюдательный, товарищ Кокошный!
– Мариночка, мы же договорились на ты и без отчества, современные же люди.
– Ну, я с вами на брудершафт не пила.
– Так за чем же дело стало.
– Боже упаси! Достаточно уже, что вы меня «Мариночкой» величаете.
– Обидеть хотите.
– Ни в коем случае! Только из уважения к вам. Вы – известный журналист, а я – простая домохозяйка.
– Ой, лукавишь, Мариночка! Простая. Три иностранных языка, на рояле как играешь, Диккенса всего перечитала в оригинале, Руссо. Давай я буду брать у тебя уроки французского!
– Никифор, угомонись.
– Ну, Пётр Алексеич, я же от чистого сердца.
– Никифор, ещё одно слово и пойдёшь вон!
– А всё же, что было с портретом.
– Я отдавала его на реставрацию.
– Кого это он мне напоминает. Батюшки мои, так это же Владимир Иваныч. Пётр Алексеич, я, конечно, могу пойти, как вы изволили сказать – вон, но согласитесь – одно лицо.
– Не без того, действительно похож. А? Что скажешь, Мариночка?
– На любого из вас надень парик, треуголку и кафтан, будете похожи.
– Ну, так кто же это?
– Хозяин усадьбы. Соседи поговаривают – иногда он здесь появляется.
– Зачем?
– В этом доме он должен встретить своего убийцу, который отравил его двести лет назад.
– Ох и выдумщица вы, Марина Пална!
Как же они заразительно смеются. Если не знать их мыслей, они вполне себе симпатичные призраки. Их давно уже нет. Иногда они сталкиваются со мной в темноте и шарахаются, будто я призрак, а не они. Им не дано чувствовать опасность. Запахло палёным и болотными испарениями, порохом и дымом, тайгой и морозным ветром. А им хоть бы что. Мариночка села за фортепиано и заиграла божественную музыку. А какую музыку она ещё может играть – богиня, неземное существо… Но, и музыку, похоже, они тоже не слышат. Столько тоски, лирики, успокоения, полёта, а они ухмыляются, будто им предлагают ещё кусочек отбивной. Не все конечно. Вон услужливый замер и присел на краешек дивана. И писатель застыл, выдавая себя с ног до головы. И Пётр Алексеич косится глазом на Владимир Иваныча. И Александр весь испереживался… Нет лучше вернуться к картёжникам. Там всё проиграли в пух и прах: загородное имение, фамильные драгоценности, московскую усадьбу. Кто-то застрелился! Выставили на продажу. Дорого не покупают, дёшево жалко отдать. Нежилой дом быстро приходит в упадок. Пыль, плесень, паутина. Хорошо революция случилась, а то бы всё пропало…
Глава 8
Если бы рыба обладала фантазией
Ну что ж, если хотите, давайте поговорим. Только я совсем не уверен, что мы будем говорить с вами на одном языке. Да, он только называется «русский», а на самом деле у каждого он свой. О, как же он, язык, влияет на взгляд, как меняет окружающий мир! Придаёт ему блеск, заманчивость, перспективу; или наоборот – сужает, делает серым и безликим. Если вам всё равно каким переулком идти, пойдёмте этим. Здесь, в архитектуре, как и в языке, наворотили, кто во что горазд; но всё же кое-что, от века девятнадцатого осталось, начало двадцатого: городские усадьбы, доходные дома, церквушки и сочные названия. Здесь город заканчивался и начинались поля, и стояла церковь Георгия Победоносца. Пойдёмте, пойдёмте! По этим улицам наверняка хаживали Пастернак, сёстры Цветаевы, Мандельштам и много кто ещё, если вам интересно, конечно. Быть может, через тысячу лет этот город окажется на дне океана, и вездесущие водоросли разрастутся на ступенях, на колонах, на ионических ордерах и двускатных крышах, тогда немые морские чудовища будут проплывать тёмными переулками, куда с превеликим трудом пробивается мутное солнце. Обитатели морских глубин, смотря на рыхлые остатки строений, как на скопление диковинных раковин, будут искать убежища и приюта. Язык их, скудный и невыразительный, взгляд сонный и подслеповатый, не дадут возможности насладиться былой красотой и прежним величием самого прекрасного города в мире! Там, на разноцветных фасадах: лимонных, голубых, зелёных – останутся невзрачные проплешины облупившейся краски, но слизь и тина затянут неприглядные места, словно фрески, сюжет которых можно было бы понять, если бы рыбы обладали фантазией. Но всё это может случиться через тысячу лет, или не случится, так тоже бывает; а пока яркий мартовский денёк и мы прогулочным шагом идём с вами неспеша и время от времени я замечаю героев книг, которые я читал с упоением, и которые действительно произвели на меня впечатление; и самое главное язык которых я прекрасно понимаю.
И вот этот дом, предназначение его – внушать людям самые разнообразные настроения: задумчивость, лиричность, романтизм, веселие и слёзы. Этому изобретению несколько тысяч лет. Оно притягивает как магнит, восхищает, будоражит, вселяет надежду или отвращение. Странный дом! Такие возможности для русского языка и такие промахи! Хотя это естественно… Здесь пара сотен преданных служителей. Задайте им вопрос, что вы сейчас читаете? И на него мало кто ответит, в лучшем случае вас не поймут. Конечно, вы застали меня врасплох, товарищ майор, когда показали ваше удостоверение. Не каждый день приходится общаться с людьми из вашего ведомства. Я знаете ли маленький человек и должность моя более, чем скромная. Да, мне нечего скрывать. Если мне не нравятся Фет и Тютчев, я так прямо и говорю – не нравятся. Нет они не работают у нас. А вы шутник! А, вы не шутите? Ну, знаете ли, они давно уже умерли. Нет, нет – никакого криминала. Естественной смертью, от старости. Поверьте мне, я об этом прекрасно осведомлён. В свою очередь, могу ли я задать вам вопрос? Имеет ли ваша контора отношение к тому, что происходит в нашем так сказать Храме Искусств? Имеет?! Я удивлён! Тогда почему вы не повлияете на… я не знаю, на выбор материала, на эстетику, на сохранение традиций, в конце концов. И кто расставил приоритеты, ведь это же чёрт знает что! Публике нравится, вы полагаете? Публика, как стая рыб, держится друг дружку. И если бы рыба обладала фантазией, она бы вряд ли к нам заплывала. Хотите показать мне фотографию? Это же старинный портрет. Нет, не видел раньше. Хотя… похож на какого-то актёра. Понял, понял – о нашем разговоре никому. Если что-то узнаю, как я вам сообщу? А, вы меня сами найдёте…
Вот же привязался чёрт…
Глава 9
Дача
Этот дачный участок на окраине посёлка, возле самого леса, был притчей во языцех.
Посмотрите на этот глухой забор с кирпичными столбами в виде миниатюрных башенок. Огромные ворота такие же глухие, как и ограда. Если кому посчастливилось или наоборот, кто имел ужас услышать торжественный момент отпирания ворот, то дух перехватывало от скрежета несмазанных петель, словно открывали древний каземат и стоны неведомых существ, казалось, возопили из глубины запущенного сада, внутри которого возвышался, не просто дом, а псевдоготический замок. Тускло светилось веерное окно над дверью главного входа и мерцали никогда негаснущие огни на третьем этаже нависающего эркера, что низводило изначальные потуги грозной готики к немецкому средневековому быту. Высокая фигура коротко стриженного услужливого лакея, в гимнастёрке тридцатых годов, в галифе и в хромовых сапогах маячила мрачной тенью, скрежеща засовами. Между собой соседи называли этот участок «генеральская дача». С хозяином не то, что дружбы, даже знакомства никто не водил. Поговаривали, что там живёт крупный чин из бывших чекистов на пенсии. Но почему он выбрал себе участок, в таком, прямо скажем, небогатом посёлке, для всех было загадкой. А может он никакой и не генерал, так, наворовал денег и строит себе крепость непреступную. Несколько раз на «генеральскую дачу» подъезжали грузовики со стройматериалами, и ворота отворялись, как пасть ненасытного великана и весь груз заглатывался без долгих пережёвываний. Загорелые солдатики молча суетились, таскали, стучали, сверлили и к вечеру убирались восвояси. Но это было давно. Жизнь в замке, казалось, замерла и только эркер на третьем этаже нависал, как старческая челюсть и некая тень сомнамбулой проплывала за бордовыми занавесками. Но нам то ни что не помешает заглянуть внутрь этого странного терема, приоткрыть занавеску, будто это и не мы вовсе, а лёгкий летний ветерок, сквозняк: задул, зашевелил, потрогал красивую ткань. И тут нам открылась то ли гостиная, то ли кабинет, то ли чёрт знает что на самом деле, столько разнообразных предметов мебели здесь было нагромождено. Сам хозяин сидел в высоком вольтеровском кресле перед камином, слева от которого на одной толстой резной ноге стоял стол с круглой столешницей коричневого цвета. Бутылка красного вина на ней отражала или скорее привлекала золотистые частички пламени. Лакированные поверхности буфета, секретера, резной рамы старинного зеркала и паркета, всё участвовало в этом блеске и мерцании странной комнаты. Толстая потрёпанная книга лежала у Петра Алексеича на коленях, укрытых клетчатым пледом, и линза увеличительного стекла нависла над ней, подрагивая в старческой, но ещё крепкой руке. Но подкравшись поближе, мы замечаем, что это никакая ни книга, а фотоальбом. Чёрно-белые фотографии, выцветшие, пожелтевшие и с фигурными краями завладели всецело вниманием хозяина дома. Он вздохнул, положил лупу на альбом, потянулся к бокалу, но по дороге передумал, подхватил пальцами ручку бронзового колокольчика, аккуратно позвонил два раза, как будто боялся кого-то разбудить. Звук получился сладкоголосым, почти приторным и Серов довольно ухмыльнулся про себя, – «Мариночке бы понравилось!» Внизу всё заскрипело сухо, отдаваясь эхом затравленным и неожиданным. Дверь отворилась и вошёл услужливый человек, в гимнастёрке.
– Филимон, ты ещё не спишь… – то ли спросил, то ли констатировал старый чекист.
– Нет, Пётр Алексеич, не сплю-с.
– Что так?
– Разбираю архив-с.
– Зачем?
– Вы же приказали найти всю переписку Марины Палны с Владимир Иванычем!
– Ну и как успехи?
– Ищу-с. Кое-что интересное нашёл, но сперва надо систематизировать.
Глава 10
Письма и донесения
Письмо к Марине
Милая, Марина Павловна! Нет лучше, Марина! Это не имя, это – морская волна, это – утренняя дымка в чудесной лагуне, это – лодка, что качается на волнах, это – покой!
Если бы я имел право, то мне надо было бы Вас хорошенько отругать за Ваше вчерашнее неосмотрительное поведение. Ваши глаза выдают Вас с головой своим блеском, сиянием, внимательным взглядом и полным пренебрежением ко всем остальным присутствующим. Вы не представляете с каким облегчением я выдохнул, когда Вы сели за фортепьяно и я оказался вне поля Вашего зрения. Идиот Никифор Кокошный пытался с Вами флиртовать в присутствии Петра Алексеича! В какой-то момент я подумал, что товарищ Серов его просто пристрелит. Впрочем, это всё не о том. Любовь моя, нам надо расстаться. Больше всего на свете я боюсь стать причиной Ваших несчастий. Профессор Цветков уверяет меня, что Ваш супруг обо всём догадывается. Что за мной установлена слежка и лучше бы мне покинуть Россию, иначе меня арестуют. Вчера я пришёл к Вам с единственной целью – посмотреть на Вас перед тем, как мы расстанемся. И конечно же посмотреть на портрет. В этом доме должен быть настоящий хозяин, пока я отсутствую, даже если он неузнаваем. Он будет Вам напоминать обо мне, он будет Вашим ангелом хранителем. Никогда больше не выносите его из дома и силы зла не потревожат Вашего покоя. Как только я буду в относительной безопасности (в относительной, потому что ведомство Вашего мужа имеет длинные руки) я дам о себе знать. Я всё хорошо обдумал, доверьтесь мне, у нас всё получится. Но ради Бога, умоляю Вас сожгите это письмо! Не порвите, а спалите его, чтобы оно распалось в прах и в золу. Пётр Алексеич – страшный человек! Если он обнаружит это письмо – всё пропало! Но я должен был Вам написать, чтобы Вы ждали от меня известий, если Вы всё ещё любите меня. Вижу, как Вы вспыхнули от возмущения. Ну что ж, мне надо было Вас немного привести в чувство, потому что вчера Вы вели себя более, чем неосмотрительно. И только деревенщина Филимон ничего не заметил. Чтобы Вас утешить, дарю Вам, как обычно – стихи, которые лишь бледное подобие того, что я чувствую. Но вспомните нашу давнюю стихотворную забаву, чтобы не упустить главного…
Марина, не плачьте, не надо,
А если, роняя слезу,
Раскроете тайного ада
И явного рая грозу
Нависшую в небе, похоже
Аркада готова упасть,
Спросите всевышнего: «Боже
Откуда такая напасть?
Такая нелепая пропасть
Разинула чёрную пасть.
И кто даровал эту кротость
Терпеть эту жуткую власть?»
Едва ли счастливому мигу
Теперь осветить эту мглу.
Раскройте заветную книгу,
Её оставляю в углу
Укромном, где в солнце закатном
Горит горизонт за окном
Оттенком сначала мускатным,
Лишь после кровавым вином.
Как только цветущая липа
Утратит и горечь, и мёд,
Терпенье закончится, либо
Арктический холод придёт
Московскому лету на смену
Колымский лелея покой,
Любовно взбивающий пену
Юродивой снежной рукой
Чтоб смысл утаить за строкой…
Письмо к Владимиру Ивановичу
Мой дорогой! Земля уходит из-под ног. Да, в тот вечер был сущий карнавал. Все взоры (вернее маски) были обращены на нас. Казалось, я слышала их злорадство. Тот критик в пенсне, помните, сидел прямо напротив Вас. От него исходила явная агрессия и, Вам может показаться это странным, я бы сказала зависть. Когда Вы стали читать (о, это пошлое «что-нибудь новенькое») он вытянул шею в Вашу сторону, невольно потянулся за блокнотом и карандашом, но слава Богу вовремя опомнился. Уморительно смотрелся услужливый Филимон. Вот уж кто для меня загадка! Это громадное чудовище, которому впору идти за плугом, бывает иногда чрезвычайно любезен и заботлив. Никифор играет с огнём! Если Пётр Алексеич вспылит, то Кокошному не поздоровится. Цветков очень милый молодой человек (хотя уже профессор университета) и я ума не приложу, что он делает в этой компании советских литераторов. Среди них есть Ваши истинные поклонники и, может быть, даже настоящие ценители изящной словесности, но в нашем доме это всё окрашено оттенком подозрительности и, в последнее время, погружено в зловещую дымку непредсказуемости. С тех пор, как Пётр, всемогущий, как мне казалось, с его то связями не смог спасти моего бедного брата, я потеряла уверенность в завтрашнем дне. Лишь мысли о Вас дают мне ещё силы находиться в этом мире. Поэтому, чтобы Вы там не задумали, меня ни что не пугает.
В тот вечер я свалилась в полуобморочном состоянии, как только вошла в спальню. Что Вы думаете, следом за мной зашёл Филимон и принёс мне тёплое питьё, какое-то снадобье, которое я почему-то послушно выпила и провалилась в глубокий сон. Когда я проснулась, первая мысль моя была о Вашем письме. Оно оказалось на прикроватном столике и было вскрыто. Холодный пот выступил у меня на лбу. Ах, да! Я же вчера успела его прочесть. Но не успела его уничтожить. Пётр уже уехал на службу и ничто не помешает мне выполнить в точности, то, о чём Вы меня просили. Мне только жаль стихов. Я не успела их выучить. Но зато я получила ключ, воспользоваться которым не получится сразу. Дайте время! Наш верный «почтальон» последний раз послужит нам верой и правдой, и я никогда не раскрою Вам его имени. Он и так подвергает себя смертельной опасности. Берегите себя. Жду весточку. Ваша Марина.
Донесение агента под псевдонимом «Дотошный»
Объект «Писатель» был под присмотром с 11:00 до 14:30, то есть до того времени, когда прибыл в «Особняк». Поведение беззаботное. С одной стороны хорошо ориентируется в городе, с другой, казалось, часто путал направление, спрашивал дорогу или делал вид, что спрашивает. Хорошая спортивная подготовка, без преувеличения, за ним было трудно поспеть. Несколько раз скрывался в толпе или терялся из виду, но каждый раз невероятным образом, опять оказывался в поле зрения. Своим внешним видом выделяется среди окружающих его людей и привлекает внимание. Это поведение человека, которому нечего скрывать. Возле «Особняка» объект «Писатель» был встречен объектом «Профессор». Между ними произошёл короткий разговор и оба зашли в дом. Далее следуя инструкциям, ровно один час я наблюдал за подъездом. В дом зашло ещё трое известных нам гостей, находящихся в разработке по данному делу: объекты «Критик», «Журналист» и «Поклонник». Далее в 15:30 наблюдение было передано агенту под псевдонимом «Незаметный»
Донесение агента под псевдонимом «Незаметный»
Ровно в 15:30 заступил на пост. Никакого движения до разъезда гостей, которое началось в 22:30, не происходило. Объект «Писатель» вышел из дома последним. На крыльце, между ним и хозяином дома произошёл разговор, который длился около десяти минут. Было похоже, что объект «Писатель» был чем-то обеспокоен, в то время как хозяин дома проявлял показное дружелюбие и громко смеялся. В 22:40 за объектом «Писатель» подъехал автомобиль чёрного цвета. На этом встреча закончилась.
Глава 11
Разговор на крыльце, которого никто не слышал или почти никто
– Прекрасный вечер, Владимир Иваныч! И всё благодаря вам.
– Ну что вы Пётр Алексеич! Среди ваших гостей были очень интересные собеседники.
– Нет, нет и ещё раз нет! Не скромничайте! Все пришли ради вас, послушать, насладиться, так сказать, истинной поэзией! Этот критик, в пенсне, я специально его позвал, что вы думаете – проглотил язык. Вы его очаровали. Теперь ждите восторженный панегирик в ближайшем номере. А Мариночка! Так мне прямо и призналась!
– В чём призналась?
– Ну только это секрет, обещайте мне, что это останется между нами.
– Ну, конечно же, никому…
– Что она в вас влюблена.
– Пётр Алексеич!
– Да, да, так и сказала, что раньше она любила стихи Пастернака, слыхали про такого, говорят талант, подаёт большие надежды. А теперь влюблена в вас, как в поэта, разумеется. А у Мариночки безукоризненный вкус, поверьте мне.
– Несомненно.
– Дорогой Владимир Иваныч, знаете-ли что? А давайте закатимся в Ялту, я отложу все дела! Всё равно всех дел не переделаешь. Разгар сезона, сливки литературного общества. Я вас познакомлю с нужными людьми
– С нужными… позвольте, в каком смысле?
– Ну, что вы так насупились? Вы должны быть открыты для общения. Вы, поэты, нуждаетесь порой в помощи, в дружеской руке. Иначе иногда, наверное, такова природа творческих людей, вы сбиваетесь с пути истинного. Вот у нас сейчас один очень способный литератор, пытаемся ему помочь, очень способный!
– Способный?
– Да, представьте себе, невероятно интересный, образованный! Беседуем, каждый день. Хотелось бы выяснить, как интеллигентный человек, ваш коллега, скатился до пошлого пасквиля. Ему бы вовремя дать путёвку, в Ялту, например, чтобы он пообщался с людьми своего круга.
– И кто же это, если не секрет?
– А знаете, что? Вы приходите к нам, и я вас с ним познакомлю. Побеседуете и может повлияете на него. Иначе никакого с ним сладу.
– Нет уж, увольте!
– Ну, как знаете. А ведь там наверху приказали сохранить его для советской литературы. Так мало на самом деле больших талантов. Вот и Мариночка за вас тоже очень переживает. Так и сказала мне, Пётр, повлияй на Владимира Ивановича, много не благонадёжных личностей вокруг него вьётся.
– Так и сказала?
– Да, она за вас очень волнуется. А сколько ваших стихов знает наизусть. Скоро и я начну вас цитировать. Особенно эти:
«Немного красного вина,
Немного солнечного мая
И тоненький…»
– Это не мои стихи, знаете ли…
– А чьи же?
– Первый раз слышу.
– Хорошо, спрошу Мариночку, она точно знает. Кладезь! Любое стихотворение запоминает с первого прочтения. Так как мне приходится общаться с вашим братом, то она мне часто помогает.
– Помогает? Чем же?
– Консультирует. У Марины Палны, как я уже говорил, безукоризненный вкус и я бы сказал чутьё на настоящий талант. Вот вы например! Благодаря вашему таланту, Вам многое позволено, ваш талант – ваша индульгенция, но только конечно же не надо переходить границу…
– Какую границу?
– Границу дозволенного, так сказать, хе-хе! Ну так вы подумайте о моём предложении!
– О каком из?
– О сотрудничестве, если вы меня правильно понимаете. Мариночка просто бредит вашими литературными успехами. Столько впечатлений от сегодняшнего вечера у неё. К сожалению, не может вас проводить, утомилась, прилегла, плохо себя почувствовала. Заходите к нам в любое время, даже, когда меня нет дома. Марина Пална всегда будет рада вас принять. Не огорчайте её, дорогой мой Владимир Иванович!
– Спасибо, непременно.
– А вот и автомобиль! Я распорядился, чтобы вас отвезли в гостиницу или куда прикажете!
– Что вы право, Пётр Алексеич, неудобно!
– Оставьте, свои же люди. И я хочу, чтобы все об этом знали, что лучший советский поэт, нашего времени, мой близкий друг!
– Эээ, вы вгоняете меня в краску
– Или я ошибаюсь, Владимир Иваныч
– Марине Палне скорейшего выздоровления…
Глава 12
Слуга
Филимон вошёл в кабинет, с ловкостью фокусника одной рукой придерживая дверь, а другой, вывернув ладонь и сухощавое предплечье вверх, явил подслеповатому взору полусонного отставного чекиста серебряный поднос. Чайная баба на нём скрывала в своих хлопково-синтепоновых недрах огненный сосуд и весело пялилась на кабинетный полумрак. В позолоченном кольчугинском подстаканнике с затейливым растительным орнаментом, монотонно позвякивала мельхиоровая ложечка о стекло, испещрённое алмазной гранью. Хрустальная розетка с малиновым вареньем соблазнительно переливалась ягодным рельефом. Хрустящие хлебцы аккуратным веером ожидали своей участи на фарфоровой тарелочке с гжельским узором. Титанических усилий стоило Петру Алексеичу приоткрывать тяжёлое припухшее веко, да и то, всё виделось, как на дне: мутном и непроницаемом. Но поднос был поставлен на столик, рядом с креслом и, чуть слышный щелчок выключателя зажёг торшер над головой немощного повелителя и образовался уютный уголок в холодном от одиночества доме. Мысли его путались, как водоросли, но одна, всегда вызывала в нём удивление и восторг, которые он тщательно скрывал: неутомимый, аккуратный, предупредительный и безропотный Филимон – всегда с ним! Казалось, умри Пётр Алексеич, и услужливый человек ляжет рядом, и будет покорно ожидать отправления в лучший мир, как слуга в древнем Египте, умерщвлённый, чтобы сопровождать своего господина на полях Осириса, где нет ни давней ревности хозяина к своей красивой жене, ни жгучего чувства мести к её тайному любовнику, исчезнувшему, словно призрак, но всегда подававшему некие знаки мимолётные и болезненные. То этот странный сборник стихов и рассказов никому неизвестного автора Андрея Кафтанова, случайно найденный им на книжной полке, а потом на прикроватном столике у Мариночки (издательство “Госзнак”, где, как выяснил дотошный Филимон, никогда не издавался этот сборник), но каждая строчка в нём была узнаваема своей вычурностью и притягательностью; то портрет якобы бывшего хозяина дома, который, как утверждал глупый и потому бесстрашный Никифор Кокошный, удивительно похож на Владимира Иваныча; или это сгоревшее письмо в печи, где на уцелевшем клочке можно было прочесть обрывок фразы: таить за строкой…
Филимон кружил по кабинету, задёргивая шторы, проверяя балконную дверь, так как лето в этом году выдалось душное и дождливое, и раскаты грома обещали накрыть посёлок в ближайшее время самым безжалостным образом. Такая же зловещая непогода разыгралась пол века назад, там, в московской усадьбе. Хозяйка дома сидела за роялем и пальцы её касались клавиш так, словно в последний момент она могла передумать, казалось Филимону. Из всех присутствующих, по-настоящему, слушал её только он, все остальные были заняты чем угодно, только не музыкой. Знаменитый, но, впадающий, день за днём, в опалу писатель, смотрел на Марину Палну; Пётр Алексеич, сгорая от смертельной ревности, смотрел на писателя; модный критик смотрел на них обоих; Никифор Кокошный смотрел на бутылку бордо Шато Лафит Ротшильд, которое попробовал ещё в прошлый раз, но, впрочем, и от водки не отказывался, поэтому вряд ли пролетарский литератор мог оценить ноты чёрной смородины, кедра, табака и специй; бархатистую текстуру и долгое многослойное послевкусие, и уж тем более винтаж, в зависимости от которого проявляются оттенки вишни, малины, сливы, неожиданные ноты карандашной стружки и даже земли. “Бррр!!!” – сказал бы Никифор, прочитав описание изысканного баснословно-дорогого алкоголя в винной энциклопедии. Но, к счастью, ничего кроме собственных виршей и объявлений московского ипподрома (куда и относилась часть немалых гонораров), он не читал. Были ещё несколько гостей, которых не назовёшь случайными. Пётр Алексеич продумывал всё досконально, чтобы сделать последнюю попытку и привлечь на “правильную” сторону, уже впавшего в смертельно-опасную немилость писателя. Несколько искренних поклонников были приглашены профессором Цветковым, по просьбе (или скорее по приказанию) Серова, на эту литературную вечеринку, но были ослеплены красотой хозяйки дома, великолепием усадьбы и, совершенно оробев, потеряли дар речи. С одной стороны, хитроумный чекист испытывал жуткое желание пристрелить чересчур болтливого Никифора Кокошного, с другой же, как это не парадоксально, именно он, глуповатый и непринуждённый графоман, создавал впечатление живой беседы. Все остальные, на кого надеялся хозяин дома, превратились в сущих истуканов. И в тот момент, когда в очередной раз мёртвый свет молнии полыхнул в грозовом небе и трескучие раскаты грома не заставили себя долго ждать, хрусталь под белоснежной лепниной потолка померк; из окна пахнуло ливневой влагой и драгоценные стекляшки заблямкали жалобно и мелодично. Дом погрузился во тьму и тогда уж все превратились в еле заметных призраков, и пространство заколыхалось от повторного разряда молнии, но вездесущий Филимон, не прошло и пары минут, вошёл в гостиную, с пылающим канделябром и застал всех врасплох: Владимир Иваныч придерживал Марину Палну за локоть, критик уронил-таки пенсне в тарелку, Пётр Алексеич замер на пол пути к роялю, а Никифор Кокошный тянулся к бутылке бордо и растеряно улыбался. Услужливый человек поставил свечи на середину стола и со словами: “Марина Пална, вам не хорошо, давайте я помогу” – повёл её, как ребёнка через бесконечную анфиладу комнат, куда-то в нескончаемую глубь…