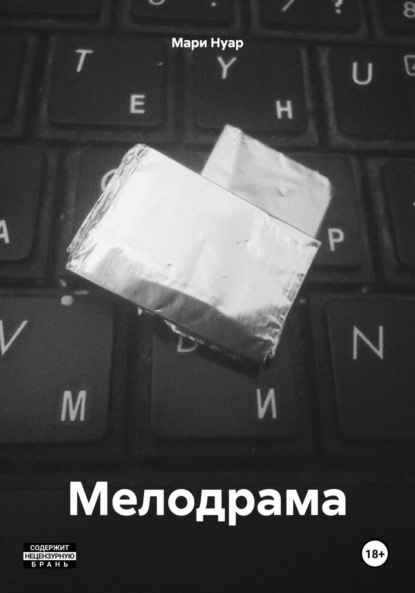Все грани безумия
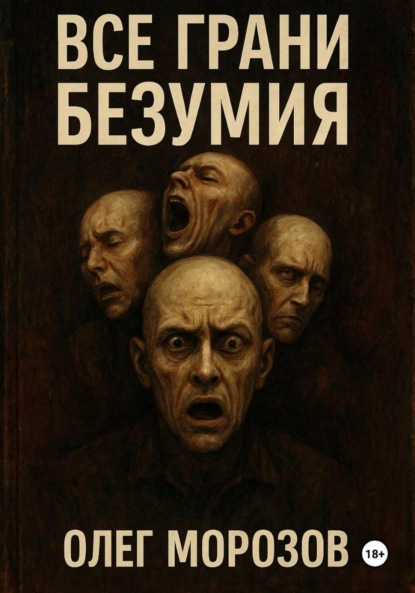
- -
- 100%
- +
"Спасибо, Николай Петрович, вы очень старались, – наконец сказала доктор, откладывая ручку. Ее лицо было непроницаемым. – Теперь, пожалуйста, подождите в коридоре. Мне нужно обсудить результаты с вашей дочерью."
Он встал, еле чувствуя ноги. Вышел в белый, гулкий коридор. Звук закрывающейся за ним двери прозвучал как щелчок замка. Он опустился на стул, уставившись в пол. Тишина вокруг давила, но в ушах стоял гул – гул его собственного страха. Что она скажет? Что они нашли? Опухоль? Инсульт? Лучше что-то конкретное, осязаемое, что можно вырезать или вылечить таблеткой. Лучше это, чем…
В кармане пальто его пальцы нащупали гладкую поверхность фотографии. Он вытащил ее. Строгое лицо матери, детская надпись на обороте: "А мама будет рядом когда все закончится." Он сжал фотокарточку так, что картон прогнулся. В голове, поверх гула, зазвучали слова, ставшие мантрой, единственной опорой в этом рушащемся мире: "А мама будет рядом… А мама будет рядом… А мама будет рядом…" Он повторял их мысленно, ритмично, пытаясь заглушить страх, унять дрожь в руках. Что должно "кончиться"? Этот ужас ожидания?
Дверь открылась. Ольга вышла. Она была очень бледной. Глаза – огромные, темные, с красными прожилками у век. Она не смотрела на него сразу, словно не могла найти сил. Потом медленно подошла и села рядом. Ее рука нашла его руку и сжала с такой силой, что кости хрустнули.
"Пап…" – ее голос сорвался на шепот. Она сглотнула, пытаясь взять себя в руки. "Доктор… она говорит… что результаты тестов… и то, что я рассказала…" Она замолчала, борясь с комом в горле. Николай Петрович почувствовал, как ледяная волна накатывает от пяток к затылку. Он знал. По ее лицу, по дрожи в руке, по этому невыносимому молчанию. Он знал еще до того, как она выдавила из себя черное, страшное слово:
"Она… она считает, что это… болезнь Альцгеймера, папа."
Слово повисло в воздухе. Тяжелое. Окончательное. Альцгеймер. Не инсульт. Не опухоль. То самое, самое страшное. Вор памяти. Убийца личности. Неизлечимое. Прогрессирующее.
Николай Петрович выдернул руку из ее захвата, как от огня. Он вскочил, отпрянув назад. Его лицо исказилось гримасой неверия и ярости.
"Что?! – его голос грохнул в тишине коридора. – Какая чушь?! Какая еще болезнь Альцгеймера?! Я не сумасшедший старик! Я просто… устал! Нервы! Возраст! У всех в моем возрасте память не та! Ваш врач ничего не понимает!" Отрицание нахлынуло с новой силой, смывая страх, заменяя его знакомым, спасительным гневом. Это был его щит. Его последняя крепость.
"Папа, пожалуйста… – Ольга встала, протягивая к нему руки, ее лицо было искажено болью. – Это пока только клинический диагноз… Нужны дополнительные обследования, МРТ, анализы, чтобы исключить…"
"Никаких обследований! – перебил он ее, почти крича. Глаза его бешено метались. – Я здоров! Понимаешь? Здоров! Я инженер! У меня умственная работа была! Я не дебил! Это все ты! Ты сговорилась с этой… этой шарлатанкой! Чтобы упечь меня в дурдом! Чтобы забрать квартиру!" Бредовые обвинения лились сами собой, питаемые паникой и яростью.
Он развернулся и зашагал к выходу, спотыкаясь, не видя ничего перед собой. Его спина была прямой, но плечи предательски тряслись. Он слышал, как Ольга зовет его, как ее голос дрожит от слез, но он не оборачивался. Он должен был бежать. Бежать от этого черного слова. От этого приговора. От этой ужасной правды.
Он выскочил на улицу, в холодный осенний дождь. Не глядя, поймал первую же свободную машину такси. Сел на заднее сиденье, тяжело дыша. Город за окном плыл в серой дождевой пелене. В ушах все еще стоял его собственный крик и тихий всхлип Ольги. И это черное, непроизносимое слово: Альцгеймер.
Оно било по сознанию, как молот. Не я. Не может быть. Ошибаются. Он судорожно сжал в кулаке фотографию матери, чувствуя, как картон рвется. В голове, сквозь гул отрицания и гнева, пробивался тонкий, потерянный голосок, цепляющийся за единственные знакомые слова в этом рушащемся мире, за последнюю соломинку:
"А мама будет рядом когда все закончится… А мама будет рядом когда все закончится…"
Но теперь эти слова звучали не как утешение, а как страшная насмешка. "Все" обрело имя. И имя это было – Альцгеймер. И конца этому "всему" не будет видно. Будет только долгое, мучительное погружение во тьму. А мама… мама давно умерла. Кто же будет рядом? Дочь, которую он только что назвал предательницей и шарлатанкой? Дочь, стоявшая сейчас под дождем у клиники, одна, с разбитым сердцем и страшным знанием?
Николай Петрович закрыл глаза, прижав разорванную фотографию к груди. Дождь стучал по крыше такси, сливаясь со стуком его сердца – старого, испуганного, одинокого сердца, которое только что получило смертный приговор. Приговор под названием Забвение.
Глава 4
Совещание состоялось на следующий день после визита Марка. Не в больнице, не в казенной палате, а за кухонным столом в квартире Ольги. Запах свежесваренного кофе и домашней выпечки смешивался с гнетущей атмосферой неизбежности. За столом сидели Ольга, ее муж Сергей (молчаливый, практичный автомеханик), сын Марк и его младшая сестра Саша (20 лет, студентка-психолог, приехавшая на выходные из другого города). Николай Петрович сидел во главе, стараясь держать спину прямо, как на важном совещании в былые времена. Но его пальцы нервно перебирали край скатерти, а взгляд то задерживался на лицах родных, то убегал в окно, где хмурый октябрьский день гасил последние краски осени.
"Итак, – начала Ольга, ставя перед отцом чашку кофе с нужным количеством молока (он забыл сказать, но она помнила). – Результаты МРТ и анализов… Они исключили опухоль, инсульт, тяжелую сосудистую недостаточность. Других причин… для таких симптомов не нашли." Она сделала паузу, глотнув воздуха. "Диагноз… основной диагноз доктора Ирины Викторовны остается в силе. Ранняя стадия… болезни Альцгеймера."
Слово прозвучало тише, чем в клинике, но от этого не менее тяжело. Саша тихо ахнула, прикрыв рот рукой. Сергей мрачно уставился в свою чашку. Марк сжал кулаки на коленях. Николай Петрович не дрогнул, только губы его плотно сжались. Он смотрел на пар, поднимающийся от кофе. Альцгеймер. Теперь это был не призрак, а официальный штамп. Его личный ярлык.
"Что… что это значит, Оля? Конкретно?" – спросил Сергей, его голос был глуховатым. Он редко говорил много, обычно всегда по делу.
"Это значит, что состояние будет… ухудшаться, – Ольга говорила медленно, подбирая слова, глядя больше на стол, чем на отца. "Забывчивость, дезориентация, проблемы с речью, с простыми действиями… Это будет прогрессировать. Скорость… индивидуальна. Лекарства… есть препараты, которые могут немного замедлить процесс, улучшить качество жизни, но… не остановить. Не вылечить." Ее голос сорвался на последних словах.
"Значит, нужен постоянный уход?" – четко спросила Саша. Ее глаза, обычно веселые, были серьезны.
"Да, – Ольга кивнула. – Сначала помощь с организацией: таблетки, финансы, походы в магазин, безопасность дома… Потом… с гигиеной, одеванием, питанием… В конце концов… круглосуточный уход."
Тишина повисла густая, как смоль. Николай Петрович чувствовал, как их взгляды – жалость, страх, горечь – скользят по нему. Он был не пациентом, не дедом, а проблемой. Объектом обсуждения. Его крепость из порядка и отрицания трещала по швам под тяжестью этого разговора.
"Варианты?" – спросил Сергей, ломая паузу.
Ольга вздохнула, выкладывая на стол мысленные карты, которые прорабатывала ночами:
"Первый: Он остается один в своей квартире. Нанимаем сиделку на несколько часов в день. Плюсы: он в знакомой среде. Минусы: Огромный риск. Он может забыть выключить газ, воду, открыть дверь незнакомцам, потеряться. Сиделка не 24/7. Стоимость. И… изоляция."
"Второй: Пансионат. Специализированный, для таких… случаев. Плюсы: Профессиональный уход, безопасность, общение… такого же уровня. Минусы: Чуждая среда. Риск тоски, агрессии. Очень дорого. И… – она посмотрела на отца, – это как признать, что мы сдаемся. Отдаем."
"Третий: Папа переезжает к нам." Ольга произнесла это твердо, но в глазах читалась паника. "Плюсы: Он с семьей. Постоянный присмотр. Знакомые лица, пусть и не его стены. Мы можем водить его к врачам, заниматься с ним. Минусы: Наша квартира мала. Саше скоро съезжать в общагу, но пока… Марк в своей комнате, мы с Сергеем… Тесно. Наш ритм жизни… Шум, суета, это может раздражать. Нагрузка на всех… И ему… ему будет тяжело покинуть свой дом."
"Я не перееду!" – резко, как выстрел, прозвучал голос Николая Петровича. Все вздрогнули. Он сидел, откинувшись на спинку стула, лицо его было бледным, но глаза горели знакомым огнем отрицания и ярости. " Я прожил там сорок лет! Там все мое! Мои книги, мои фото, мои… воспоминания! Я не поеду в вашу клетку! И не поеду в этот… этот склад для стариков!" Он почти выкрикнул последние слова, указывая пальцем в сторону, где мысленно располагался ненавистный пансионат.
"Деда, – осторожно начала Саша, – подумай. Один ты уже не справляешься. Мы просто поможем, мы же семья."
"Я справляюсь! – рявкнул он, ударив кулаком по столу. Чашки звякнули. – У меня есть система! Тетрадь! Будильники! Я инженер, черт возьми! Я проектировал мосты! Я разберусь!" Его дыхание стало прерывистым. Страх быть вырванным из последнего оплота самостоятельности был сильнее страха перед болезнью.
"Пап, никто не сомневается в твоих прошлых заслугах, – мягко, но настойчиво сказала Ольга. – Речь о твоей нынешней безопасности. О твоем будущем. Дом – это не только стены. Это люди, которые о тебе заботятся."
"Заботятся? – он фыркнул, и в его смехе слышалась горечь. – Запереть меня здесь? Отобрать ключи? Следить за каждым моим шагом? Нет, спасибо! Я не инвалид! Я не… не сумасшедший!" Он встал, отодвигая стул с грохотом. "Обсуждение окончено. Я еду домой."
"Пап, подожди!" – вскочила Ольга.
"Деда, пожалуйста!" – Марк шагнул к нему.
Но Николай Петрович уже шел к прихожей, хватаясь за спинку кресла для равновесия. Его движения были резкими, неуклюжими. В глазах – паническая решимость беглеца. Он натянул пальто, не попадая в рукав с первого раза, схватил шапку.
"Я вызову такси," – пробормотал он, роясь в карманах в поисках телефона, которого там не было (он оставил его в гостиной на столе).
"Я отвезу тебя, Деда," – сказал Марк тихо, беря свои ключи. Он понял, что спорить сейчас бесполезно.
Поездка прошла в гнетущем молчании. Николай Петрович смотрел в окно, его профиль был каменным. Марк несколько раз пытался заговорить, но получал в ответ лишь мычание или односложный ответ. Подъехав к дому, Николай Петрович выскочил из машины, даже не попрощавшись, и почти побежал к подъезду, торопясь запереться в своей крепости.
Войдя в квартиру, он сделал то, чего не делал никогда – запер дверь на цепочку. Изнутри. Как будто защищался не от внешнего мира, а от мира, который хотел его "спасти", отняв последнее – его дом. Он прошел по комнатам, касаясь знакомых предметов: спинки кресла Анны, корешка любимой книги на полке, рамки с той самой детской фотографией матери. "А мама будет рядом…" – прошептал он, и в этом шепоте была не надежда, а отчаянная попытка удержаться за то, что еще оставалось его. Его стены. Его пыль. Его забытые вещи.
Он подошел к окну. Внизу, у подъезда, все еще стояла машина Марка. Внук смотрел на окно его квартиры, потерянным взглядом.
Николай Петрович отшатнулся от окна, как от раскаленного железа. Боль, острая и жгучая, пронзила его грудь. Он причинял боль. Своим упрямством. Своим страхом. Своей болезнью. Он видел это – в глазах внука, в слезах дочери, в мрачном молчании зятя. Его крепость стала тюрьмой не только для него, но и для них. Он стоял посреди гостиной, вдруг осознавая всю глубину своего одиночества и разрушительной силы болезни, которая отнимала не только память, но и право быть главой семьи, опорой, просто… нормальным человеком.
Он медленно подошел к телефону (лежавшему там, где он его оставил). Рука дрожала. Он набрал номер Ольги. Она ответила сразу, голос был хриплым от слез.
"Пап?"
"Оля… – его голос звучал чужим, сдавленным. – Этот… пансионат… Забудь. Я… я не туда." Он сделал глубокий, прерывистый вдох. Слова давались с невероятным трудом. "Приезжай… завтра. Поможешь… собрать вещи. Самые… нужные. И… книги. Фотографии." Пауза. В трубке было слышно ее затаившееся дыхание. "Только… кресло мое не забудь. И… мамину фотографию."
Сказав это, он положил трубку, не дожидаясь ответа. Силы оставили его. Он опустился на пол возле дивана, спиной к холодной стенке. По щекам текли горячие, беспомощные слезы. Он проиграл. Болезнь победила. Он сдавал свою крепость. В голове, сквозь шум отчаяния, крутилась фраза, но теперь она звучала как эпитафия его прежней жизни: "А мама будет рядом когда все закончится…" "Все" – его самостоятельность, его дом – заканчивалось сейчас. А мама… мама была лишь на пожелтевшей фотокарточке. Рядом же будут они. Дочь, которая плакала за этим столом. Внук с потерянным взглядом. Цена их близости была его свободой. И он только что согласился заплатить ее.
Он сидел на полу и плакал тихо, по-стариковски, всхлипывая и вытирая лицо рукавом рубашки. За окном окончательно стемнело. В его опустевшей крепости воцарилась тишина, нарушаемая только тиканьем часов и его прерывистым дыханием. Начиналась новая глава. Глава зависимости. Глава жизни на милости тех, кого он когда-то опекал сам. И он боялся этой главы больше, чем самого забвения.
Глава 5
Квартира Ольги и Сергея казалась Николаю Петровичу слишком маленькой, слишком шумной, слишком чужой. Его кресло, водруженное у окна в гостиной, рядом с книжным шкафом Саши, выглядело как инородное тело. Знакомые книги, фотографии в рамках (особенно та, с матерью и детской надписью), старая лампа под абажуром – эти островки его прошлого тонули в море чужих вещей, чужих запахов, чужих звуков. Телевизор, который постоянно что-то бубнил, гулкая стиральная машина, смех внуков, телефонные разговоры Ольги на повышенных тонах – все это оглушало, раздражало, выматывало.
Первые дни прошли в тягостной неловкости. Николай Петрович старался быть незаметным: сидел в своем кресле, листая старые журналы (часто одну и ту же страницу подолгу), ковырял еду за общим столом, старался не быть обузой для домочадцев. Но стал путал дверь в ванную с дверью в кладовку, не мог найти выключатель в коридоре, забывал, куда положил зубную щетку. Каждая такая мелочь заставляла его внутренне сжиматься от стыда. Он чувствовал себя гостем, непрошеным и обременительным.
Ольга старалась изо всех сил. Она составила расписание приема таблеток (витаминов и препарата, который, как обещал врач, "может немного замедлить прогресс"), купила ему новый блокнот, в который они вместе записывали важное, то с чем он мог столкнуться каждый день. Она водила его на короткие прогулки, терпеливо объясняя маршрут, показывая ориентиры. Она включала ему старую музыку, которую он любил, пыталась разговорить о прошлом.
Но прошлое становилось зыбким. Он мог ярко, с деталями рассказать Марку о том, как в 60-х строили мост через Волгу, но путал имена коллег, забывал название города. Он помнил, как познакомился с Анной на танцах, как она уронила веер, но не мог вспомнить, в каком году они поженились. А иногда память выдавала совсем странные вещи: он мог назвать Сашу именем своей давно умершей сестры или спросить Сергея, когда Отец вернется с фронта.
Однажды утром случился первый крупный инцидент. Ольга, спеша на работу (она взяла сокращенный день, но уроки отменять не могла), попросила отца разогреть себе завтрак – кашу в микроволновке. Показала кнопку, таймер. Казалось бы, просто.
Через полчаса Марк, зашедший на кухню выпить воды, застыл в ужасе. Микроволновка дымилась. Внутри, на догорающей бумажной тарелке, лежал… металлический термос Николая Петровича. Сам Николай сидел за столом, рассеянно смотря в окно, явно забыв про кашу.
"Деда! Что ты делаешь?! – закричал Марк, выдергивая вилку из розетки и распахивая дверцу микроволновки. Едкий запах гари заполнил кухню. – Ты же знаешь, металл нельзя!"
Николай Петрович вздрогнул, обернулся. Увидел дым, Марка с термосом в руках, его испуганное лицо. На его собственном лице отразилось сначала недоумение, потом – леденящий душу страх и полная растерянность.
"Я… Я не… – забормотал он, вскакивая. – Она сказала… разогреть… Я думал… термос… холодный чай…" Его глаза бегали по кухне, словно искали ответы на стенах. Он не помнил ни просьбы Ольги, ни своих действий. Видел только последствия и страх во взгляде внука. "Я не хотел… Я не знаю…" – его голос сорвался на шепот. Он съежился, как пойманный в шалости ребенок, ожидая наказания.
Марк, видя его панику, взял себя в руки. "Ничего, Деда… – сказал он, стараясь успокоить, открывая окно. – Просто запомни: только еду в тарелках. Никакого металла. Ладно?" Он подошел, положил руку на его худое плечо. "Все в порядке. Просто авария."
Но "все в порядке" не было. Ольга, узнав, была в ужасе: "Он мог спалить дом!". Сергей мрачно предложил убрать микроволновку подальше. Саша говорила о необходимости постоянного присмотра. Николай Петрович слышал их шепот за дверью своей маленькой комнаты (бывшей Сашиной). Он сидел на кровати, сжимая в руках фотографию матери, и шептал: "А мама будет рядом когда все закончится…" Но "все" теперь включало только его способность к самым простым вещам, а "рядом" были люди, которых он пугал и обременял.
Стены квартиры начали давить сильнее. Он стал замкнутым, раздражительным. Его мог вывести из себя громкий звук телевизора, вопрос Саши о его самочувствии, даже слишком яркий свет. Он часто спрашивал: "Когда я поеду домой?" – и не понимал объяснений, что теперь это его дом. Он искал свои вещи – старую рубашку, альбом с чертежами – и злился, не находя их. Мир сузился до его кресла, окна и мучительного чувства, что он не на своем месте.
И вот наступило то утро. Обычное, серое, дождливое. Ольга встала рано, чтобы приготовить завтрак и помочь отцу умыться, если понадобится. Она зашла в его комнату. Николай Петрович уже сидел на кровати, одетый, но выглядел растерянным, будто не понимал, где он и что делать дальше. Он смотрел на свои руки.
"Пап, доброе утро, – ласково сказала Ольга, подходя. – Пойдем, я тебе кашу сварила. Твою любимую, овсяную."
Он поднял голову. Взгляд его скользнул по ней – мимо, сквозь. Без узнавания. Пустой, отстраненный, как будто рассматривал предмет мебели. Потом его брови сдвинулись в легкой, искренней недоумевающей гримасе.
"Вы… кто?" – спросил он. Голос был ровным, чуть хрипловатым, без тени агрессии или страха. Просто вопрос. Искреннее, полное непонимание. "Вы здесь… зачем?"
Ольга замерла на пороге. Словно ледяная рука сжала ее сердце. Весь воздух вырвался из легких. Мир на мгновение потерял звук и цвет. Она знала, что это может случиться. Читала об этом. Готовилась морально. Но когда это произошло – здесь, в ее доме, с ее отцом, который минуту назад был просто растерянным, а теперь стал абсолютно чужим – реальность ударила с чудовищной, нечеловеческой силой.
"Пап… – прошептала она, делая шаг вперед, голос предательски дрогнул. – Это я… Оля. Твоя дочь."
Он смотрел на нее, его взгляд стал внимательнее, анализирующим. Он изучал ее лицо, прическу, халат. Искал что-то знакомое. Но в его глазах не вспыхнуло ни проблеска узнавания. Только нарастающая тревога и смущение.
"Оля? – он произнес имя неуверенно, как будто пробуя на вкус незнакомое слово. Потом покачал головой. – Нет… я… не помню. Вы… вы похожа на одну женщину… Анну? Но Анна… она молодая была." Он замолчал, снова уставившись на свои руки, явно сбитый с толку, потерянный. "Где я? Что я здесь делаю?"
Ольга прислонилась к косяку двери, чтобы не упасть. В глазах стояли слезы, но она не позволяла им упасть. Глотнула. Собрала всю волю в кулак. Стратегия была проработана: не спорить, не настаивать, не плакать. Успокоить. Перенаправить.
"Вы… вы в гостях, – сказала она максимально спокойно, подбирая слова. – У… у меня. Я приготовила завтрак. Пойдемте на кухню? Каша овсяная, горячая." Она не назвала себя. Не сказала "папа". Просто предложила действие.
Он колебался, оглядывая комнату с тем же непониманием. Потом медленно кивнул. "Каша… да. Голодный." Он встал, неуверенно, и пошел за ней в коридор, осторожно ступая, как будто боялся провалиться сквозь незнакомый пол.
Ольга шла впереди, чувствуя, как спина ее горит под его растерянным, чужим взглядом. Каждый шаг давался с невероятным трудом. На кухне она посадила его за стол, поставила тарелку с кашей. Он ел молча, не поднимая глаз, сосредоточенно, как ребенок. Она села напротив, делая вид, что пьет кофе. Руки у нее тряслись так, что ложка звякала о блюдце.
В голове гудело: Он не узнал. Он не узнал меня. Папа не узнал меня. Это был не просто провал памяти. Это был разрыв связи. Разрушение самой основы их отношений. Он был здесь, физически, дышал, жевал кашу, но ее отца – того, кто знал ее, любил, звал Олюшкой – в этом теле больше не было. Его заменил растерянный, испуганный незнакомец с пустым взглядом.
Марк, заспанный, зашел на кухню. "Привет всем! – бодро бросил он, направляясь к чайнику. – Деда, как спалось?"
Николай Петрович вздрогнул от неожиданного голоса, поднял голову. Увидел Марка. И вдруг… лицо его озарилось слабой, но узнающей улыбкой!
"Маркуша! – хрипловато, но тепло произнес он. – Здравствуй, сынок! Ты… на работу идешь?" Он явно путал Марка с кем-то из прошлого, но в этом обращении было тепло, узнавание, связь.
Марк замер, глядя то на деда, то на мать. Он увидел ее мертвенно-бледное лицо, трясущиеся руки, немой вопрос и боль в глазах. Он понял. Понял сразу. Его собственное лицо исказилось от шока и сочувствия. Он быстро подошел к столу, сел рядом с дедом.
"Да, Деда, скоро пойду, – сказал он, стараясь говорить естественно, кладя руку на его костлявую ладонь. – Каша хорошая? Мам… – он чуть не сорвался, – …Оля хорошо готовит, правда?" Он бросил быстрый, поддерживающий взгляд матери.
Ольга встала. Она не могла больше сидеть. Не могла видеть, как ее отец узнает ее сына, но не узнает ее. Как он называет Марка "сынок", а ее… не называет никак. Как будто она – прислуга, накормившая его кашей.
"Мне… на работу, – выдавила она, отвернувшись к раковине, делая вид, что моет чашку. Голос звучал хрипло и неестественно. – Марк, ты… поможешь дедушке? Если что…"
"Конечно, мам," – быстро откликнулся Марк, его взгляд говорил: "Иди. Я справлюсь. Я здесь."
Ольга вышла из кухни. Она прошла в ванную, заперлась, включила воду. И только тогда, под шум воды, заглушавший все, она опустилась на пол, прижав кулак ко рту, и зарыдала беззвучно, отчаянно, всем телом сотрясаясь от невыносимой, сокрушительной боли. Он не узнал. Ее папа. Ее герой. Он смотрел на нее как на чужую. Это было хуже смерти. Смерть оставляет память, любовь. Это… это оставляло пустоту и леденящий вопрос: Кто же он теперь? И кто я для него?
На кухне Марк осторожно разговаривал с дедом, который, казалось, уже забыл минутную растерянность и с удовольствием кушал кашу, поглядывая на внука с теплотой. Марк ловил каждое его слово, каждую интонацию, пытаясь понять, в каком времени, в каком воспоминании сейчас живет его дед. Сердце его сжималось от жалости к матери, от ужаса перед болезнью, от осознания, что это – только начало самого страшного.
А Николай Петрович, доев кашу, отодвинул тарелку, встал из-за стола и ушел в зал. Он подошел к окну посмотрел на улицу, потом на фотографию матери, стоявшую теперь на тумбочке в гостиной, рядом с его креслом. Лицо его было спокойным, почти безмятежным, лишенным тревоги последних недель. Он уже не помнил произошедшего. Не помнил слез дочери. В его спутанном сознании осталось только смутное ощущение сытости и присутствие рядом… молодого человека, который почему-то казался знакомым и приятным. И строгий, но добрый взгляд женщины на старой фотографии. Он тронул рамку пальцем.
"А мама будет рядом когда все закончится…" – подумал он беззвучно, и в этом не было ни страха, ни иронии. Была лишь детская, наивная уверенность в это обещание. Он не знал, что "все" для его дочери только что закончилось. И что рядом, за стенкой, рыдая на полу в ванной, она оплакивала его, еще живого, но уже потерянного навсегда.
Глава 6
Время после утра, когда он не узнал Ольгу, слилось для Николая Петровича в мутный, лишенный четких границ поток. Дни перестали иметь названия. Утро отличалось от вечера только светом за окном и тем, что утром его кормили кашей, а вечером – чем-то другим, теплым и мягким, что он мог жевать без усилий. Его мир сузился до комнаты, кресла у окна и туалета, куда его водили под руку.
Речь уходила, как вода в песок. Сначала исчезли сложные слова, абстрактные понятия. Потом – имена. Он перестал называть Марка "сынок" или как-то еще. Потом пропали глаголы, предлоги. Его попытки что-то сказать превращались в бормотание, набор гласных звуков, бессвязных слогов, прерываемых паузами растерянности. Он открывал рот, лицо напрягалось от усилий, глаза метались, ищущие ускользающую мысль, но на выходе получалось лишь: "М-м-ма… ааа… та-та… э?" Он хмурился, злился на себя, мог стукнуть кулаком по подлокотнику кресла, издавая нечленораздельный звук.