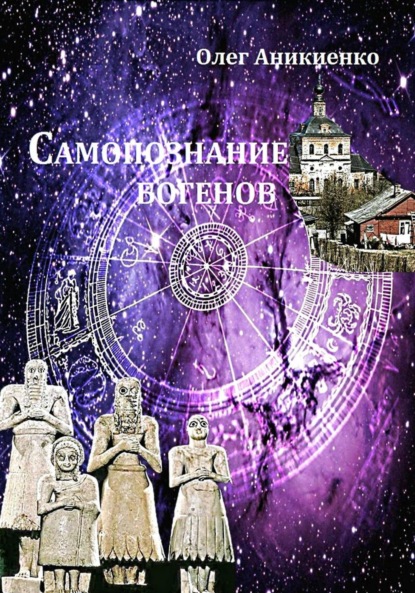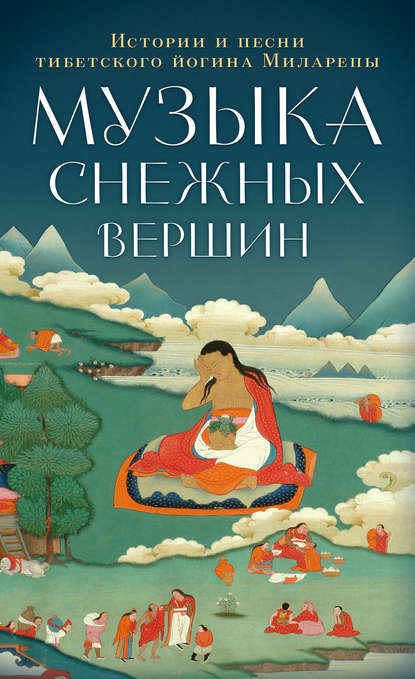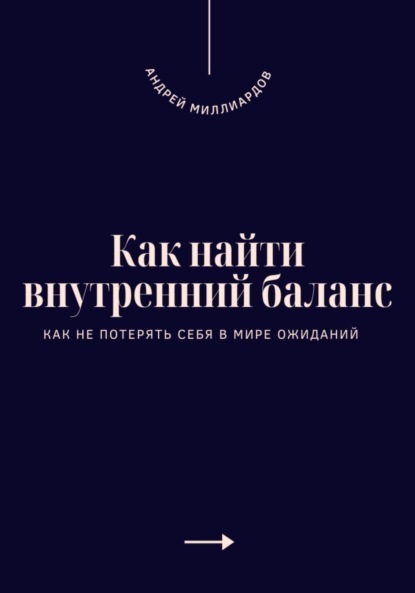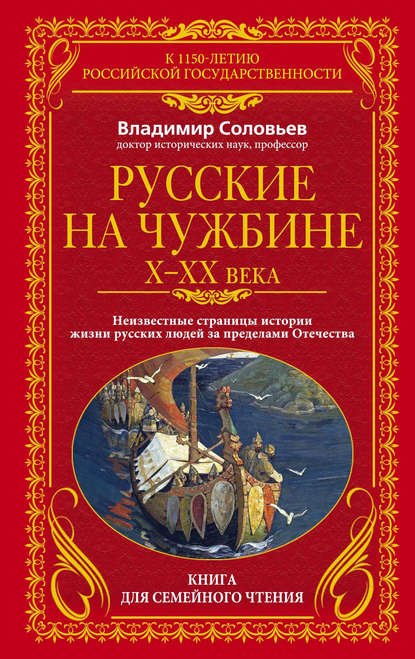- -
- 100%
- +
– Я всегда нырял, помнишь? И глубоко. Но там… дело другое. Не развлечение… Работа. И каждый день не знаешь, – удачно или…
Грек включил свой ноутбук и отыскал ролик о промысловых водолазах. Проблемы начались со времен перестройки. Многим пришлось выживать.
Курильские водолазы работали на свой страх и риск. Да, не платили налоги, сами торговали с японцами. Но и работодатель не нес за них ответственность. При встрече с погранцами, капитан шхуны мог сбросить груз в море и уйти, оставив водолаза тонуть.
… – Не все вернулись домой. То одного потеряли, то другого подняли …тело. Кто заболел «кисой»… Водолазы – народ особый. Встречались и сорвиголовы, наркоманы. Я держался внимательно. Да и то…
Как то ушел глубоко и попал в донное течение. Унесло от лодки, но это полбеды. Запутался фал, прижало баллон на спине. Чувствую, мало воздуха, задыхаюсь… Запаниковал. Вокруг – зеленая смерть, помощи нет. Мысленно Бога кричал… (Теперь я – верующий). И – надо же! Плывет надо мной Никита, напарник. Машу руками, – отцепи, мол! Как он заметил меня, не знаю…
Да, спас он меня… Но и я его, позже, выручил. Устроили драку на палубе, был там урка один… Помог я другу. Бывали и акулы. Рыбаки сбросили недобитую в море. Так она и порвала нашего…
Тут, ведь, проблема схоронить. Доставить гроб домой. Особенно, если парень высокий, крупный. Не берут длинный гроб в самолет, не помещается в грузовой отсек. А по воде, пароходом, нужно сопровождение… Кто поедет?
– А японцы как? Встречались? Язык учил? – Энлиля не очень интересовали эти истории. Он спрашивал, скорей, из вежливости.
– Язык – нет. Хотя… был случай. Поехал продавать ежа, добытого нашими. Захотелось потоптаться с японцами. Высадились на Хоккайдо, я торгашом у ящиков. Подходит покупатель, видный такой японец… – Плохой, говорит, ваш еж, – маленький. – Я ему – Ты что? Лучше не бывает! И давай втюхивать, и так, и этак… Японец сначала злился, потом подобрел. Понравился я ему. Улыбнулся и заплатил сполна. Так что, я справился, парни остались довольны. Лишь потом узнал, от переводчика, с кем торговался. Оказывается, мужик был паханом местной мафии, якудза, в общем. Мог и грохнуть меня.
Чача Грека, действительно, оказалась крепка.
– Да мы не пьем, – общаемся! – весело шутил гость, заметив тревожный взгляд хозяйки. Энлиль захотел покурить, Грек вызвался с ним проветриться.
– Помнишь, берег, прогулки? – спросил Энлиль.
– Еще бы! Самое памятное в юности! Ты говорил о композиторе, который хотел изменить мир, людей. Сочинял мистерию, великое действо, что на большом острове соединило бы виды искусства, – ну, там музыка, танец, стихи… И люди – зрители и участники, уже не смогли бы стать прежними – злыми и жадными…
– Да, я бывал в его музее. Видел и цветомузыку тех лет, – лампочки крашеные, провода…
– А ты сам? Написал?
– Что написал? – насторожился Энлиль.
– Ну, ты обещал, – напишу книгу, которая перевернет мир! Я все жду, жду. Думаю, когда же напишет…
Слова бывшего друга поразили Энлиля в самое сердце. Его точно парализовало. Затем окатило жаром, холодом, опять жаром… Он не успел понять, была ли в словах Грека издевка, или фраза прозвучала теплой шуткой. Как бы то ни было, гость, того не желая, попал в больное место приятеля. В ту рану, которую Энлиль боялся бередить.
За эту паузу в беседе, жизнь Энлиля пронеслась, как ролик кинофильма. Вот он прибыл в глухую северную деревню со своими правами шофера и несколькими книгами русских классиков. Надеялся, что все изучит и сам начнет писать. Но этап выживания на новом месте затянулся. Нужно было копать огороды, строить теплицу, баню…
Работы не было, пришлось идти сучкорубом. Потом родился сын, – и силы пошли на стирку пеленок, поиски лекарств. Он держался, хотя от усталости вечером приходилось поддерживать себя алкоголем. А потом, когда переехали в небольшой город, пришлось обустраивать жилье и работать дворником в детсаде, чтобы устроить к тому времени уже двоих детей.
– Кажется, я говорил – «хорошо бы написать», – словно переворачивая камни, выговорил Энлиль.
– Да? А я думал…
Зачем родили третьего? Жена хотела девочку, помощницу… А мои интересы отодвигались. Он честно воспитывал сыновей, играл с ними в игры, учил читать-считать, строгал сабли, водил в кружки. Иногда из глубин подсознания всплывала жалость к себе, но он гнал ее. Он выполнил долг отца, не предал… Мог этим гордиться. Но, слишком глубоко нырнул. И к его самоотверженности привыкли.
Почитывая биографии знаменитостей, Энлиль понял, что творческие люди из-за своего творчества могли и маму продать. Детей бросали. Или вовсе не женились. Лишь бы было время творить. Ну, ладно, можно бросить работу. А жить на что? Лишь выйдя на пенсию, смог написать рукопись рассказов. Но, как издать? Опять нужны деньги…
Чтобы как-то выкрутиться из положения, Энлиль перевел стрелки на друга. Спросил о жене, о которой Грек умалчивал. И тут случилось неожиданное. Друг вспыхнул, его охватил гнев.
– Сволочь! – заорал. – Изменила, сука, пока я тонул на Курилах! И с кем? С «черножопым»!
Выходило, что жена, устав от разлуки, согрешила с руководителем турфирмы, где работала. Об этом сообщили соседи. Любила ли она мужа? Или терпела его доказательства мужественности, которую Грек так культивировал?
– Может, ей не хватало в тебе мягкости, духовности? – осторожно, чтобы не обидеть, предположил Энлиль. Хотя, хотел сказать, – «душевности»…
– Что? Это тебе не хватает духовности! Глядишь и сочинил бы книжку…
«Вот так покурили!» – думал Энлиль, возвращаясь в квартиру.
Пить больше не стали. Легли спать.
Энлиль плохо спал, ворочался. В глубине души сознавал, – ему самому не хватило воли для исполнения планов. Физический труд утомлял, но разве только водкой снимают усталость? Есть другие методики… Облиться водой, отдохнуть часок и – писать… И воспитывать детей можно жестче, научить уважать свободное время отца.
Из комнаты, где спал Грек, послышался звук упавшего тела с дивана. Грохнулся? Приснилась подводная драма? Не такой он здоровый, каким хочет казаться. Дерганный. И – несчастливый? Нет пенсии, сын-инвалид, жена предала. Каков итог его сорокалетних приключений?
…Утром Грек решил ехать к своей бывшей подружке в Челябинск. Приглашала посетить Аркаим, пожить в палатке. С этой дамой он познакомился, когда ездил в институт на сессию. Энлиль не стал его отговаривать. Давящий и покровительственный тон друга его тяготил. Они обменялись номерами телефонов и поехали в аэропорт.
Легче Энлилю стало часа через три после отъезда Грека. И когда тот позвонил вечером, Энлиль, поколебавшись, не взял телефон. Не смог. Ему нечего было сказать человеку, которого он сорок лет считал своим другом.
Звонил Грек и на следующий день, и на третий… Энлиль не отвечал. Он признавал свое малодушие и срывал раздражение на близких.
А потом ему подарили на день рождения новый телефон. И жизнь потекла своим чередом. Крошечным тиражом Энлиль издал свою первую книжку рассказов. Которую, впрочем, стыдился распространять. Туда он добавил только один рассказ. Историю о друзьях, которые встретились через сорок лет и расстались после небольшой беседы уже навсегда.
Голос самоизолированных

Мы и раньше встречались в гостиной обсудить переплетения нашего общего бытия. Дружного хора не получалось, скорей – ариозо индивидуальностей. С трудом выслушивали другого, стремясь обнажить свои позиции… Ну, а карантин лишь обострил винегрет личных мнений
Костяк спорщиков составляли две пары: мама, социальный чиновник, – папа, труженик науки; бабушка, педагог, – и дед, бывший военный. Это наши первые скрипки. Приходила и тетя Ванда со вторым мужем, заглядывал брат, спортсмен-предприниматель. Также, кто-то из общих знакомых…
Зачинал, обычно, бунтарь-папа.
– Карантин? Верхам нужен! Воровской власти… Себе оклады миллионами, людям – недоплаты… Как при царизме, – развращенный двор и – нищая Россия. Теперь на митинг – ни-ни! Дома ропщите… Ведь что творят? На дачные колодцы – налог! Скоро и воздух присвоят…
– Не ерунди! – одергивает мама. – Колодцы – общего пользования и налог на большой литраж… А за жизнь эту народ 30 лет голосует. Значит, устраивает?
Папа умолкает и уходит на кухню. Мамин аргумент о народе его убивает. Он считает толпу незрелой для выбора нужного Правителя. И депутатов выбирают не за ум и честь. А за деньги и смазливую внешность! У людей нет опыта демократии…
– Стыдно торговать масками в эпидемию! – вздыхает бабушка. – Это как в войну продавать билеты в бомбоубежище. Спекуляция, позор…
– Время торгашей! – включается дед. – Гнилье!
Деда возмущают быстрые присвоения воинских званий. Руководители армии – без военного образования. А смазливые секретарши – уже генералы. За какие заслуги? Сам он полковник в отставке, имеет ранение, ветеран…
– То «табуреткин», менеджер, командовал. Теперь – прораб.. Министр обороны – в армии не служил! Зато дворцов себе понастроили, виллы, острова…
– А меня заботит, как преподают историю в школах, – продолжает бабушка. – На каких примерах воспитывать патриотизм?
– Болтовня одна! Картонные герои… – кипятится дед. – Сима, ты патриот?
– Да, дедушка! Но учителям не рекомендуют «советские» примеры. Рассказывать можно о первой мировой…
– Списали! Вычеркнули! Дожил… – корежится дед. – А кто войну выиграл, кто города строил? От обиды он уходит к папе на кухню.
– Вы! – кричу ему вслед… Строили! Воздвигли!
Комната наша просторная, – места спорщикам хватает. Можно и пошагать, оттачивая реплики…
– Не понимаю, зачем спорт закрыли? Залы, клубы… – Это холодно режет слова брат, предприниматель. – В моем зале свободнее, чем в магазинах. Занимайся в двух метрах от другого. Зато алкомаркеты "трудятся", дают прибыль. Народ спивается. Это – нормально?
Все с ним согласны, но думают о своем.
– Какой он, к черту, пехотинец! – Дед возвратился пошуметь. Сейчас он обрушился на губернатора, называющего себя солдатом Президента. Это который с бородой и получил, не воюя, звание генерала. – В пехоте – копейки получают! А этот – царствует… И преданно юлит.
Дедушка скучает на пенсии. И еще у него хронический гайморит. Потому в карманах у него всегда сопливые носовые платки. А ночью храпит. У бабушки от этого расстройство сна…
– Кру-гом! – командует, по-военному, бабушка. И продолжает: – Нужно ли говорить ученикам о нашем времени? И – как? От реалий не уйти. Государство крепнет, социалка – стонет… И нужно ли учителю выражать свое мнение?
Бабушка пишет книгу «Записки библиотекаря». В молодости она выдавала книги солдатам, учила их думать. Теперь любит соединять два слова в одно, плодя, по ее мнению, филологические находки.
– Можно найти формулировки… – Это уже папа вернулся. – Думаю, школьникам нужно мнение учителя. На чьей он стороне? В лагере богатых начальников или – с народом. Умалчивать о текущей эпохе – нельзя. И новый патриотизм на советских достижениях не склеить. Бумажный он получается… Сидят политтехнологи в виллах, пьют коктейли, патриотизм сочиняют. Сосут из пальца… А ветераны – без крыш в деревнях, бутылки собирают! Скорей бы кончился этот сон…
Иногда думаю, у папы с мамой брак – кармический. Оба призваны друг друга дополнять, воспитывать. Папа – идеалист, мятежник. Его знамя, как он говорит, – честность, гуманизм. Он не терпит карьеристов…
Мама – смотрит на мир практичней. Она – «государственник» и считает, что каждому деньги давать нельзя. Пропьют. Их непохожесть для меня открылась в детстве. Папа читал мне про героев, а мама – познавательные книжки о правилах на дороге. Пожалуй, я унаследовала от обеих предков… Но что государственная жизнь не согласована с людьми – очевидно.
– Не смотри телевизор, дочь! Там ложь… зомбирование. Это страшно. Толпа и Христа распяла, и Гитлера вознесла. Они и сейчас у руля… На выборах нет подтасовок! Так голосует попса. За Стаса Михайлова, Киркорова, Правителя… Сколько их?
Я вспоминаю советского поэта:
«Из тех людей, что населяют землю,
пять человек не могут без меня…
Я среди них – как сыр катаюсь в масле.
Они живут друг с другом в несогласье,
свою любовь от ревности храня…»
– Вирус дан в наказание! – говорит тетя Ванда, сестра мамы. – Заслужили! Грехи искупайте! Пришел час расплаты…
– Да ведь гибнут не только грешники… Простые люди. Если бы только негодяи…
– Мы не знаем подлинно, – не сдается тетя. – Надо переболеть! Жить в справедливости, в Боге…
– Ох! – выдохнул папа. – Христианский паниковирус! Вы знаете, патриарх призвал воздержаться от визитов в храмы… Сам объехал Кремль на мерседесе. А икону свою даже в руки не взял. Так и простояла Богородица на заднем сидении, рядом с напитками… Вы видели дворец патриарха у моря? Рядом с дворцом президента…
– Мы – Евангельские… У нас нет икон. И Бога славим песней…
– Да в бункере он сидит, под тройной защитой! – поддержал папу дедушка.
– А белорусы – молодцы. Провели парад. Горжусь! Их президент – лидер! А у нас в народе – уныние…
– Ты, что-ли, приуныл? – не верит бабуля. – Водочку с огурчиком хрумкаешь…
– Пуфф! – стреляет в нее пальцем дед.
Немного помолчали. Карантин, все же, не шутка, люди умирают.
– Интересно, какой у нас индекс самоизоляции? – спрашивает мама. – Не зря ходят проверяющие, считают по улицам… Да ведь всех не опросишь, – в магазин собрался или как?
– Я бы хотела знать, – говорит бабушка. – Смертность, вообще, увеличилась?
– В том и дело, что нет! – папа сегодня в ударе. – Люди рождаются, умирают… Обычная жизнь. А СМИ, моськи режима, повторяют за деньги, что им указали. О митингах в регионах молчат. А про вирус – взахлеб, со зрачками на лбу…
– От вируса нет лекарств, – поучает бабуля. – В толстом кишечнике, с бактериями, их до десяти тысяч. Микробиом весом до килограмма. Отклонение от нормы приводит к сбою иммунной системы…
– У-у-у! – тянут папа и дедушка и уходят на кухню…
Я продолжаю учиться на удаленке. Карантин переношу спокойно, хотя и понимаю людей, терпящих дискомфорт. Привычные связи нарушены и особенно тяжело общительным…
Мои родные, к счастью, – люди самодостаточные. Папе хорошо размышлять и в домашних условиях. Да и мама кабинетный работник. Они больше страдают за других «самоизолированных». Не привыкли еще жить для себя.
Я люблю своих предков и желаю им здравствия. И поэтов иногда почитываю. У меня много советских стихов:
«Как я богат! – как нищие богаты
пятью золотниками, как солдаты
побывкой пятидневною домой…
Пять человек, друг с другом несогласных,
пять жизней родственных,
пять душ прекрасных –
как облачко парящих надо мной…»
Пойду отдохну от спорщиков… В свой личный, временный карантин.
Птицы кружат над нашим двором. Птицы. Галдят, суетятся, усаживаясь на высокие ветвистые тополя. Стаи лесных птиц над провинциальным городом. Глубинка… Рисует ли поведение птиц характер городка? Не знаю. Наверно их нет в мегаполисах, ведь это птицы из окрестных лесов. Носятся туда-сюда, описывая круги…
Двор наш запущенный, без песочниц и столиков. Нет у людей желания общаться, да и запрещают собираться вместе. Но когда идет дождь, я открываю окно и чувствую на душе благость. Кажется, что на другой стороне городка тоже кто-то сидит у окна. И дождь сшивает нас нитями. Потому что в малых городах дождь один на всех.
Мне по душе небольшие города, скромные человечьи дома, неровные улицы усыпанные павшей листвой. Конечно, если в них – жизнь, а не тоскливая безысходность, не жлобская преступность. Закрыты рестораны, местный театр. В магазинах на полу наклеены полосы через каждые два метра. Без людей моя улица совсем другая…
По улице Советской
уж столько то годов -
мне мерить интересно
три тысячи шагов…
Городок пишет свою историю домами. Здесь сохранились особняки бывших купцов. Живы еще двухэтажные бараки тридцатых годов, сталинские толстостенные дома, хрущевские панельные короба. И, конечно, современные высотки рыночной эпохи, в которых жильцы отгорожены от других железными решетками. Разделили людей, озлобили…
Конечно, городу не хватает оригинальности, каких-то изюминок. Например, нет малой городской скульптуры. Что-то нетрадиционное приживается с трудом. Как будто правильный он, а – пресный. Но, все же, – не пошлый.
"Здесь все знакомо с детства,
лишь ядерный коллапс
на улице Советской
изменит что-то в нас…"
Еще размышляю о положении на границе с бывшей братской республикой. Там скапливаются военные. Будет война?
Иду по городу дворами, старясь не встретить полицейский наряд. Иногда поглядываю в окна людей. Как они переживают изоляцию? Я, хоть и художник начинающий, устроила для наших горожан выставку своих фотографий в интернете. Может, снимки городских пейзажей поддержат городчинцев?
Что еще я могу? Поживем, увидим…
Не навсегда же этот карантин.
Подземный ход Скрубайсов

В последние дни октября, когда опавшая листва покрылась инеем, Энлиль решил, наконец, заняться давней мечтой. Начать исследования городских тайн. Откладывать дальше – некуда. Не бродить же пенсионеру с биорамкой зимой, по снегу, – чудно будет, да и пальцы стынут. Время он выбрал до обеда, когда горожане заняты своими делами.
Он уложил свою согнутую буквой «Г» спицу во внутренний карман, проверил другие замки куртки, протер старые зимние ботинки. Захватил, на всякий случай, перчатки, согревать ладони – инструмент оператора биолокации. Выходя, посмотрелся в зеркало, резко выдохнул.
Усть-Сыровск город скромный, без особых пиратских историй. Обычный городок среди лесов и болот… Но, ведь, в каждом поселении что-то сочиняют. Одна из местных историй рассказывала о, якобы, сохранившемся подземном ходе купцов Скрубайсов. Чтобы можно было пробраться вниз к реке. Лаз, по легенде, шел, на случай нападения, от старого двухэтажного особняка, выстроенного в начале 19 века, к речному берегу.
Энлиль – не историк. Как мог, проследил откуда растут ноги у мифа. Что-то прочел в библиотеке, сходил в архив. История запутанная… Оказалось, Скрубайсы – богатые купцы округи с 17 века. Братья, пришли с центральной России, построили усадьбу у реки. Привозили северянам сахар, дробь, порох, увозили рыбу, пушнину… Торговля шла жадно, купцы дело знали. Их не раз жгли, доходило и до смертоубийства.
История повествует, как в 18 столетии усадьба подверглась набегу разбойников, приплывших по реке. Факт, отраженный в челобитной российскому царю. В документе перечислены и жертвы нападения, и прочие убытки. После этого Скрубайсы вновь отроились, огородив дом высокими стенами из бревен. А на случай отхода прорыли лаз к воде.
Где стояла усадьба, точно не установлено. Позже, их потомки, стали строить первые каменные дома. Особняк, к которому направлялся Энлиль, построен уже в 19 веке и никаких горшков с монетами там не нашли. Хотя обстучали стены не раз. На этом месте и забыть бы историю.
Ан нет, легенда воскресла после революции, когда возле бывшего дома купца, занятого партшколой, землекопы рыли канаву. Тогда-то и обнаружили старые доски, подпиравшие, якобы, свод подземелья. Скрубайсы к тому времени умыкнули в большие города. Возможно, сменили фамилию. Так или иначе, ход, предположительно, вел к реке, и сейчас этот участок был доступен для исследования.
Энлиль – лозоходец начинающий. Кроме водяной жилы на своей даче, ничего не искал. Но биорамка ему подчинялась, и он уже измерял биополе родственников. Сейчас он шел к дому купца, размышляя о том, как задать вопрос подсознанию. Вполне вероятно, под домом шел поток, так называемый «плывун», который практичные купцы могли использовать и как природную канализацию.
Одна стена дома смотрела в сторону парка, сквозь который виднелась река. От дома до парка было метров двадцать. Именно здесь мог пролегать ход. Энлиль полагал, водяная жила давно иссохла, и земля внутри обвалилась, засыпав подземное русло. Потому решил задавать вопрос: «Есть ли неоднородность земли (бывший подземный ход?» Рамка, при удачной локации, должна отклоняться в сторону.
Отойдя на метр от стены, Энлиль медленно двинулся вдоль окон. Рамку он держал правой рукой на уровне солнечного сплетения. О, это волшебное чувство измененного сознания! Дыхание становится реже, глубже. Волнение соединяется с покоем, расслабленность с концентрацией, отрешенность с сосредоточенностью. С одной стороны – отсутствие мыслей, пустота, с другой – рабочая цель, мобилизация. Угадывать нельзя. Сознательно отдаешься потоку и уверенно ждешь…
Уже между первым и вторым окном – рамка повернулась. Есть! Мысленно отметил место. Отошел от дома чуть дальше в сторону парка. Спица опять повернулась…
Энлиль уже не обращал внимания на свидетелей его работы. За ним наблюдали из окон домов, а также прохожий в темном пальто. Отходя от стены, Энлиль отмерял короткие параллельные маршруты. Рамка срабатывала по прямой, ведущей к парку и дальше, к реке…
В парке, на небольшом пригорке, рамка замерла. Здесь ход кончался. Энлиль рассматривал холм под ногами. Похоже, отсюда вода шла уже по канаве.
– Подземный ход? – прозвучал за спиной голос. – Нашли выход?
Мужчина, наблюдавший все время за Энлилем, ждал.
– Кажется, был ручей. Можно найти доски…
– А – глубина? И разрешение надо.
– Д-да…
– А я думаю – не плывун это. Пойдемте, проверим…
Мужчины повернулись к дому купца, в котором сейчас находился музей. Дверь в здание была не заперта, и внутри слышался рабочий стук. Энлиль полагал, их не пустят. Но незнакомец без сомнений направился в угол, откуда, по его мнению, начинался ход.
В большой комнате первого этажа полы были вскрыты до основания. Огромные половые плахи, изготовленные вручную, торчали вкривь и вкось, открывая землю и строительный мусор.
– Мы из Охраны памятников… – сказал незнакомец рабочим. Затем указал вниз, в самый угол комнаты. Дыхание Энлиля сбилось. В том месте, откуда начинался путь хода, он увидел бетонное сооружение, вроде короба, размером полтора на полтора и глубиной в метр. Похоже на фундамент туалета или погреба…
– Приямок, – сказал незнакомец. – Собиратель грунтовых вод. Необходимый элемент купеческих подвалов.
Он спустился к сооружению, пнул его носком ботинка. – Между прочим, дело серьезное. Земля под городом глинистая, сырая. Уровень грунтовых вод высокий…
Пока новый знакомый рассказывал, к ним подошли двое рабочих и работавшая на втором этаже женщина, сотрудница музея. Выражение лица ее было неодобрительным.
…Город опускается к реке с возвышенности – продолжал лектор, – посреди которой находилось болото. Подземные воды стекали от болота к реке по подземным каналам. В советское время лес вырубили, болото осушили.
Но в прошлом, на такой сырой земле, купцы строили дома на высоченном фундаменте. И обязательно с просторным подвалом. Грунтовые воды сочились по наклонной и скапливались в специальном приямке, затем – в канал отвода…
– Зачем вы разрушаете легенду? – сказала с неудовольствием женщина. – И вы не из охраны… Я там всех знаю.
– Я из альтернативного, общественного… – отозвался незнакомец. – А насчет легенды… Ничего с ней не будет.
Они вышли на улицу и пошли вдоль парка, где еще сохранились и другие здания купцов. У одного особняка замедлили ход.
– Вот вам еще легенда… Слышали о купце, который повесился? Это дом среднего Скрубайса. После революции в доме устроили общественную столовую. А хозяина заставили работать. Не выдержал… Прокрался в дом ночью, залез в петлю на крюке, что в главном зале. Крюк я тот видел, видать люстра висела. Позже здание забрали себе чекисты. Сейчас там ФСБ, не зайдешь…
– Откуда вы знаете о приямке? Строитель?
– Слесарь. Но бывал в подвалах купчин. Там по сей день выкачивают из приямка насосом. Дом ведь осел, канал отвода утерян… Покажу вам сюрприз!
Они подошли к еще одному зданию, принадлежавшему раньше младшему Скрубайсу. В нем тоже располагался музей, только – истории и природы края. Из главных экспонатов там стоял трактор первых пятилеток и чучела зверей – медведя и двух старых волков. Отдельный зал посвящался жертвам репрессий – колючая проволока, алюминиевые ложки…
– Вот здесь я работал, – незнакомец кивнул на старинные двери. – И в подвал заходил… У вас хорошее зрение? Взгляните туда, под крышу…
Энлиль присмотрелся к верхней части фасада. Наверху слабо виднелся контур барельефа. Слишком малый, чтобы бросаться в глаза. Но достаточный для рассмотрения. В нем угадывался облик мужчины, вероятно, хозяина здания – большой нос, одутловатые щеки… На кого-то похож, из современных…