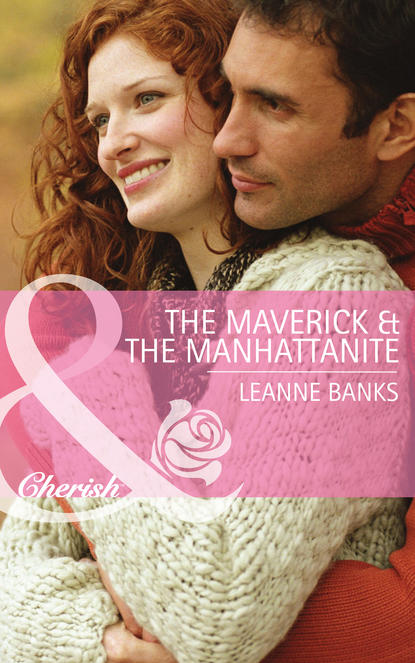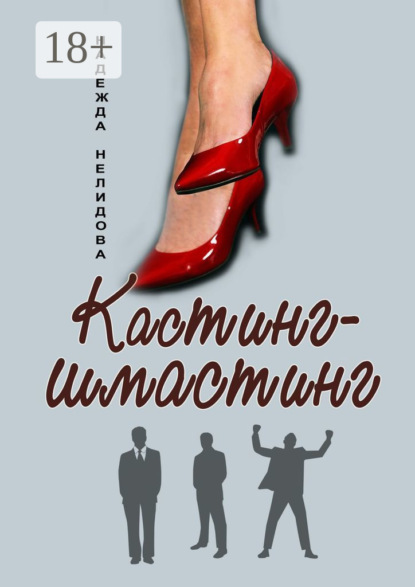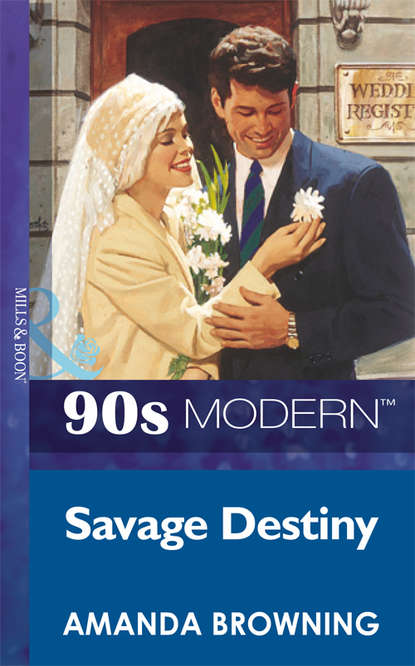- -
- 100%
- +
– Потому что, – говорит Алексей Петрович, – полез туда, куда нормальный человек не лезет. В себя. А это, как известно, дело мутное. Вот и результат.
Говорит, что психологи наживаются на чужой слабости, придумывают людям проблемы, чтобы потом им же продавать решения.
Что если человеку плохо – он должен, по канонам предков, либо выпить, либо потерпеть, либо, в крайнем случае, пойти забить гвоздь, но уж точно не плакать на сессии.
А все эти ваши «поговорить о чувствах» – это, как он выразился, «излишества праздной жизни и продукт переедания свободного времени».
Я слушаю его спокойно, без спешки, и задаю единственный вопрос, который обычно срезает всю эту интеллектуальную риторику до живого уровня:
– А вам кто-то сказал, что с вами что-то не так?
– Никто! – немедленно возмущается Алексей Петрович. – Я сам вижу, что всё в порядке. Просто вот жена говорит, что я закрытый и с ней не разговариваю. И дети какие-то странные стали. И на работе всё бесит. Но это же не из-за меня! Это мир с ума сошёл.
– Конечно, – киваю я, слегка подыгрывая. – А вы – последняя опора на этом безумном шаре.
– Вот именно! – обрадовано соглашается он, и впервые за весь разговор в его голосе проскальзывает не снисходительное превосходство, а лёгкая, еле уловимая усталость.
И вот ради этой паузы я и работаю.
Потому что именно в ней – правда.
Та самая правда, которую люди вроде Алексея Петровича прячут даже от себя.
Потому что признать, что страшно, – больнее, чем сто раз назвать психологов шарлатанами.
Потому что проще защищаться агрессией и скепсисом, чем сказать честно: «мне плохо, а я не знаю, что с этим делать».
Так что с Алексеем Петровичем мы начали с простого. С безопасного. С разговоров о мире, о других, о том, как «все сошли с ума».
И только потом, медленно, шаг за шагом, начали подходить к вопросам посложнее: что в этом мире он боится увидеть? Что ему легче не чувствовать? И что будет, если он допустит мысль, что его «нормальность» – не броня, а клетка?
И что в этой клетке – очень даже живой, очень даже ранимый человек, которому, возможно, просто никогда не разрешали плакать, бояться, уставать.
Потому что когда-то кто-то сказал: «Ты мужик. Терпи».
Знаете, иногда мне кажется, что самые громкие борцы с психологией – это те, у кого внутри сидит самый перепуганный внутренний ребёнок.
Тот самый, которого когда-то одели в костюм начальника и объяснили: «Будешь сильным – выживешь. Заплачешь – затопчут».
И вот он вырос. И стал крепким, серьёзным, логичным мужиком с аллергией на слово «эмоция».
И ему, как ни странно, психолог нужен даже больше, чем тем, кто уже в процессе.
Только он об этом узнает чуть позже.
А пока – он проверяет, что ж я умею.
Поэтому улыбаюсь и спокойно говорю:
– Знаете, Алексей Петрович… В психологии есть одна прекрасная новость. Никто вас не заставляет. Это всё про свободу. Даже если ваш выбор – оставаться в своём окопе и дальше воевать с «псевдонаукой».
– Ну, ладно, – впервые улыбается он, и в этом «ладно» звучит уже не вызов, а интерес. – Посмотрим, что у вас тут ещё за ерунда такая.
И мы начинаем. Не с душевных глубин, не с тонкой настройки «внутреннего ребёнка», а с самого простого – с того, что ощущается прямо сейчас.
– Вы говорите, что вас возмущают шарлатаны, – спокойно говорю я. – И непонимание супруги. И странности коллег. А можете показать это возмущение?
– Что, простите?
– Не рассказывать, не объяснять, а именно показать.
Он смотрит на меня, как будто я предложила ему станцевать «Лебединое озеро» в комбинезоне.
– В смысле – показать?
– Ну, представьте, что вот он – предмет вашего возмущения. Стоит прямо перед вами. А слов у вас нет. Только тело. Что делает ваше тело? Как бы вы выразили всё это – без слов?
Сначала, как и ожидалось, срабатывает защита.
Он хмыкает, скептически улыбается.
– Ага, ну понятно. Чего только не придумают, чтобы денег содрать…
Он делает отстранённое лицо, на грани театрального, будто мы не в кабинете, а на сцене, где ему выпала роль рассудительного мужика, пришедшего проверить «всю эту фигню». Я не спорю. Я просто жду. Без давления. Без объяснений. Потому что знаю: пауза иногда лечит лучше, чем самые изысканные интервенции.
И вот в этой тишине вдруг что-то внутри него сдвигается. Совсем чуть-чуть. Он делает пробное движение – короткое, отрывистое, как будто стряхивает с рук невидимую пыль или, может быть, раздражение, которое не хочет больше сидеть внутри. Потом – ещё. Уже шире. Уже резче. И вот он начинает жестикулировать. Его руки будто сами вспоминают, как это – говорить, когда рот молчит. Жесты становятся мощнее, напряжённее, в них появляется экспрессия – злая, уставшая, накопленная годами. Он представляет по очереди всех, кто «выводит» его: жену, начальника, соседа, меня, всех психологов и, кажется, даже самого себя. В ход идут ноги. Появляются порывистые шаги, почти выпады, как будто он отвоёвывает у жизни хотя бы полметра личного пространства, которое у него когда-то отняли.
И в какой-то момент в движение врывается звук – сдержанное рычание, негромкое, не театральное, скорее, вырывающееся сквозь зубы, как крик, которому не дали родиться. Всё это длится минуту, может, две, но в этой минуте столько подлинности, сколько не скажешь и за десяток логичных, рациональных сессий. И вдруг – стоп. Он замирает. Прямо посреди движения. Как будто кто-то нажал «паузу» в момент самого напряжения. А потом – просто начинает плакать, без «простите, я не хотел», – просто слёзы, как вода, прорвавшая плотину. Плачет тихо, с каким-то неожиданным облегчением, будто отпустило то, что жало, давило, но не имело выхода. Я молчу. Мы оба молчим. Потому что в этот момент любое слово было бы лишним, а любое объяснение – оскорбительным.
Позже мы будем говорить про «безопасность слёз», про то, что тело знает больше, чем ум, и про то, что чувствовать – не стыдно, даже если ты всю жизнь был «нормальным мужчиной» и молча терпел. Но это будет потом. А сейчас – просто факт: он разрешил себе быть. Разрешил проявиться. Разрешил выйти из роли крепкого, закрытого и слегка язвительного «наблюдателя», которому всё давно ясно.
И в этот момент мне хочется слегка усмехнуться – не в лицо, не в сарказме, а просто внутренне: ну что, Алексей Петрович… вот тебе и «лженаука». Вот так, оказывается, работают «шарлатаны». Без гипноза. Без пилюль. Без обещаний, что «после пятой сессии вы станете лучше всех». Просто движение. Просто позволение. Просто человек, который рядом и не боится того, что вылезло наружу.
И если это – обман, то пусть в мире будет побольше таких обманов. Потому что, возможно, именно с них начинается свобода. Или, по крайней мере, первый вдох без напряжения.
Скорее всего, самостоятельно он бы до этого не дошёл. Не потому, что не умён или не способен, – вовсе нет. А потому что такие, как Алексей Петрович, в целом не склонны искать помощи. Им не нужны практики, не нужны сессии, не нужны эти «ваши методы» – они же в порядке, это у других проблемы.
Психика в таких случаях действует, как хорошо обученный пресс-секретарь, – фильтрует всё лишнее, выставляет жёсткие рамки и цепляется за любые опорные конструкции: убеждения, привычки, стереотипы, «жизненный опыт», истории о знакомом, который «сходил – и с ума сошёл». Всё, что подтверждает: «мне туда не надо», аккуратно сохраняется в фоновом доступе. Всё, что намекает на возможность перемен, – отсекается, откладывается, высмеивается. Это – способ выживания.
Но иногда в этой конструкции появляется трещина.
Сначала незаметная. Где-то на уровне «что-то не так», смутного раздражения, тихого неудобства. Кажется, будто вы просто устали, или вас снова кто-то бесит, или всё стало каким-то не тем, – и вроде бы вы всё ещё в порядке, но в порядке ли ваш порядок?
Иногда это ощущается как клетка. Не драматично. Не как «жизнь – тюрьма». Просто как будто стало тесно. Как будто раньше вам хватало этого пространства, этих взглядов на мир, этих фраз «да ладно, прорвёмся», а теперь – нет. Что-то внутри начинает упираться. Расширяться. Хотеть выйти.
И если вы это чувствуете – даже в виде лёгкой, неоформленной мысли, – это может означать одно: ваша личность растёт. А клетка, в которой она находилась всё это время, уже маловата. И тут у вас, как ни странно, есть выбор: можно попробовать обустроиться в клетке побольше – сменить формулировки, переформатировать скепсис, добавить пару умных книг и ещё немного аргументов «почему не надо», – а можно по-настоящему выйти наружу.
На свободу. С риском. С уязвимостью. С жизнью.
Иногда это желание обратиться к психологу уже зреет, почти оформилось, но не даёт шагнуть вперёд всё тот же внутренний блок – стереотип о «лженауке», недоверие к «психологам-шарлатанам», опасение быть слабым, смешным, уязвимым.
Что делать? Искать новые опорные точки. Не в себе – там пока тревожно, а снаружи. Прочитать про то, как появилась психология как наука, кто её создавал, какие направления существуют, и как они работают.
На сегодняшний день известно более четырёхсот модальностей психотерапии. Да, шерстить их все – дело бесполезное. Но сменить фокус с «да всё это чушь» на «а что, если не всё?» – уже сдвиг.
Можно просто почитать, как работает тот или иной специалист. Посмотреть интервью. Послушать подкаст. Не для того, чтобы верить, а чтобы позволить себе не отрицать.
А потом – выбрать.
Потому что сразу доверять невозможно. И не нужно.
Доверие – это не предоплата, а процесс. Оно выстраивается. Медленно, с опаской, с оглядкой.
Наша заботливая психика не пустит в свои глубины первого встречного, пусть он даже трижды с дипломом. И это хорошо. Потому что только через эту осторожность, через последовательное приближение – возникает настоящее.
Настоящий контакт. Настоящее доверие. И, в конечном счёте, опора. Но уже не на специалиста, а на себя.
Парадокс в том, что за каждым «я не верю в психологов» почти всегда прячется не агрессия, а страх впустить другого, посмотреть внутрь или осознать, что «всё под контролем» – это не всегда правда. Но когда мы всё-таки решаемся – через сопротивление, через смех, через недоверие, – именно там, в этой точке встречи, и начинается самое ценное. Отношения.
Отношения с психологом – как проекция отношений с другими: с мужчиной или женщиной, с мамой, с ребёнком, с начальником, с телом, с мечтой. А главное – с собой. Потому что любой запрос, как бы он ни звучал, всегда сводится к одному: «А как мне быть с собой, чтобы это было не в напряг, не в боль и не в бегство?»
И здесь важно помнить: если ваша психика хочет остаться в прежней конструкции, она найдёт для этого любые доказательства.
Мозг с радостью отфильтрует всё неудобное, выставит психологов в роли фокусников, а разговоры об эмоциях – как слабость. Даже если перед вами будет сидеть профессор, нейробиолог, телесник с дипломом, лицензионной печатью и тёплым взглядом, – он всё равно будет восприниматься как шарлатан. Просто потому, что так безопаснее.
И, наверное, один из самых первых шагов в эту самую внутреннюю свободу – это позволить другому быть другим. Позволить психологу быть психологом, а не «торговцем воздухом», позволить гуру-самоучке вещать свои трансцендентные озарения и при этом не ощущать острого желания схватить табуретку. Позволить подруге носить кристаллы в лифчике, если ей от этого легче, и не тянуться при этом к диагнозу, потому что, как ни странно, вот это самое «неразрешение» – молчаливое, внутреннее, безобидное с виду, – и есть нарушение чужих границ.
Когда мы решаем, что кто-то не имеет права быть собой, что кто-то делает «не так», «слишком странно», «слишком не по науке», – мы в этот момент переступаем, захватываем территорию, на которую нас никто не звал. И, чаще всего, делаем это даже не потому, что хотим контролировать, а потому, что внутри нас самих что-то дрожит от непонятного.
Ведь «норма» – понятие зыбкое, как перчатки из полиэтилена: надеть легко, а чувствовать – невозможно. У каждого общества, у каждой культуры, у каждой семьи есть свой эталон «нормальности», сформированный средой, воспитанием, уровнем образования, религией, даже экономикой. То, что в одном городе считается эксцентричным, в другом может быть скучной обыденностью. То, что у нас вызывает тревожный вопрос: «всё ли с тобой в порядке», в другой стране может быть элементарным выражением вежливости. И когда мы начинаем хотя бы немного размышлять об этом – не на уровне абстрактного «все разные», а по-настоящему, – что-то внутри отпускает.
И появляется шанс позволить другому быть собой, самому себе – быть немного живее.
А дальше – уже можно и потихоньку практиковать. Начинать расставаться с тем, что, кажется, всегда было внутри, но на самом деле давно уже не твоё. Это, к слову, одно из моих любимых телесных упражнений – на «отдавание» ненужного. Простое, почти детское, но до смешного точное.
Вот, например, родители хранили в серванте «особые» чайные сервизы, которые нельзя было трогать, пока не придёт королева. Она не пришла, а привычка осталась. Или – наряды на «особый случай», который, как правило, особым так и не стал.
А я, повзрослев, продолжаю это делать и складываю, берегу, откладываю… жизнь. Но в какой-то момент ловлю себя на том, что живу, как будто в съёмной квартире, – боюсь сделать «по-своему», потому что «а вдруг испорчу». И тогда беру – и телом, руками, жестом, голосом – начинаю возвращать это обратно. Двигаю руками от себя и говорю:
«На. Это было не моё. Это помогло когда-то, но сейчас – мешает. Спасибо. Заберите. Я выбираю иначе».
И вот здесь начинается магия. Потому что мозгу важны не только мысли – их у нас тысячи в день, и почти все улетают в никуда. А вот жест, движение, физический акт – воспринимается как событие, как действие, а не как фантазия. И тогда появляется ощущение: это произошло. Это можно. Это разрешено. Это моё.
Такие простые телесные «отдачи» становятся началом выхода из огромного количества чужих сценариев – бережно, без драмы, без гнева. Просто: «это мне не подходит». И всё.
И если вы вдруг поймали себя на мысли, что вам это знакомо – это уже много. Потому что всё начинается не с громких инсайтов и не с трагических рыданий в кабинете. Всё начинается с микродвижения, с лёгкого покачивания внутренней клетки и с фразы, сказанной самому себе: «А что, если можно по-другому?»
И вот в этот момент – неважно, с кем вы: с психологом, с котом, с отражением в витрине, – внутри что-то встаёт на место. И вы вдруг чувствуете: воздух стал чуть чище, пространство – шире, а вы – живее.
Так что, если шарлатаны и правда существуют, пусть они лучше вот так работают: через паузу, через жест, через свободу и через разрешение себе быть.
Даже если вы всё ещё «нормальный», но уже не прежний.
Глава 4. Куда жить? (или «Когда вся жизнь помещалась в мамину сумку»)
Иногда человек приходит с запросом, который звучит удивительно буднично:
– Куда жить?
И кажется – ну вопрос как вопрос. Ничего особенного. Простой, логистический, почти из раздела «риелтору бы задали». Но если ты уже какое-то время работаешь с людьми, особенно с их телами, голосами и тишиной между словами, – то слышишь другое. Потому что на самом деле это не про квадратные метры, не про ремонт и не про ипотеку. Это про то, что у человека нет внутреннего адреса. Нет ощущения, где он сам – внутри этой жизни. И кому он теперь нужен.
Илья зашёл тихо. Сел на край стула, как будто опасался помешать, и при этом держался с той осторожностью, с какой входят в гости без подарка, – вроде бы ничего страшного, но всё равно как-то неудобно. Он был слишком худ для своего роста, руки нервно дёргались, будто жили отдельно: одна то тянулась к молнии на куртке, то возвращалась на колено, то вдруг принималась теребить шов на джинсах, словно надеялась на подсказку. Лицо – бледное, глаза – большие, чуть выпуклые, голос тихий, с «съеденными» окончаниями, из-за чего каждую фразу приходилось будто вытягивать из воздуха, напрягая слух. Одежда – чистая, опрятная, но как будто собранная с закрытыми глазами: футболка, которая немного велика, куртка с чужого плеча, джинсы, которые давно просят замены. Про стиль он, кажется, не слышал вовсе – или слышал, но подумал, что это не к нему.
– А можно… я… ну, наверное, просто сяду? – пробормотал он, уже сидя.
– Уже можно, – ответила я с лёгкой улыбкой. Он на это тоже улыбнулся, но так, будто за эту улыбку пришлось заплатить моральную комиссию.
– Ничего, что я куртку не снял сразу? – спросил он через минуту.
– Ничего, – снова кивнула я.
– А ботинки можно не снимать? Просто я в прошлый раз в один кабинет пришёл, а там ковёр, и я… – Он запнулся, – в общем, я тогда как-то… не сразу понял.
– Всё в порядке, ковров у нас нет.
– Ага… – облегчённо выдохнул он. – Это хорошо. А то я, знаете, всегда немного не понимаю, где как принято.
Илья вёл себя так, будто у мира есть скрытый свод правил, написанный мелким шрифтом, и все остальные его прочитали, а он опоздал и теперь спрашивает у каждого встречного, не подскажут ли хоть первые три абзаца. Он выглядел как человек, который заранее извиняется за своё существование. В каждом его движении чувствовалась вежливость, доведённая до невроза, и тонкое ощущение, что любая инициатива может быть ошибкой.
Когда я предложила снять куртку, он посмотрел на меня с таким лицом, как будто я предложила провести операцию без наркоза.
– Ну, если точно не помешаю… – уточнил он уже в процессе снятия.
Потом быстро оглядел вешалку, замер с курткой в руках и выдал:
– А если я её просто вот сюда пока, на колени… или, может, на подлокотник? Или лучше вообще держать?
Он был похож на пассажира эконом-класса, который попал в бизнес-лаунж и всё ещё не может поверить, что сырники там по-настоящему бесплатные.
Мы ещё немного посидели в этой церемонной неловкости: он с курткой в руках, я с блокнотом, будто в этом странном балете осторожности важно не только не наступить на ногу, но и заранее извиниться за сам факт того, что у тебя ноги есть. Он то смотрел на пол, то на стул, то на свои руки. Казалось, он не решается начать – не потому что не знает, с чего, а потому что любое начало требует разрешения, которого он сам себе не дал. Но потом что-то в нём сдалось. Может быть, это была моя пауза. Может быть – отсутствие ковра. Он выдохнул, отложил куртку, положил руки на колени и, не глядя, будто сам с собой, наконец сказал:
– Мне тридцать три. Всё время жил с мамой. Она всё решала. Я… как бы был при ней. Просто жил. Как будто дожидался чего-то. А теперь… её нет. И я – один. Вроде взрослый. А вроде и не знаю, куда мне, где моё место, где я вообще.
В тот момент передо мной сидел не мужчина тридцати трёх лет. Передо мной сидело большое, уставшее тело с душой мальчика, который только что вышел из школы и не понял, почему его никто не встретил. Он выглядел собранным, даже слишком, – как будто боялся растрястись. Плечи напряжены. Дыхание поверхностное. Глаза внимательные, но не в контакте – не со мной, не с собой. Всё это говорило: «Я держусь. Пока держусь. Но не уверен, что долго смогу».
И вот, спустя, может быть, три-четыре минуты, он наконец чуть шевельнулся, медленно расстегнул куртку, аккуратно залез во внутренний карман и достал небольшой прозрачный пакетик, в котором лежала фотография – ровная, чистая, без единой складки.
– Вот, – тихо сказал он и, не глядя на меня, положил фотографию на край стола, как будто между нами должно было быть ещё что-то, не только воздух и ожидание. – Это мама. Тут она ещё здоровая. Тут она красивая. Она всегда была красивая, просто потом всё как-то… ну, поменялось.
На фото была женщина – лет сорока, может, чуть больше, с ясным лицом, спокойным взглядом и той тихой уверенностью, которая не кричит, но всегда держит. Такая, которую видно в деталях: в том, как она держит голову, как слегка улыбается, как сидит – прямо, но не напряжённо. Я посмотрела, потом снова перевела взгляд на Илью – и в его лице, особенно в нижней трети – челюсти, губах, подбородке, – вдруг легко узнала её. Он будто на мгновение стал отражением этой фотографии, и именно в этот момент его голос стал теплее.
– Она… – начал он, подбирая слова, – она, конечно, была страшно заботливая. По-своему. Очень по-своему. Мне уже было двадцать девять, я тогда устраивался на новую работу, всё такое, костюм, галстук, серьёзная фирма. Я выхожу из квартиры, а она с порога мне кричит: «Шапку надень! Уши отморозишь!» Я ей: «Мам, я на такси до офиса, двадцать минут максимум». А она мне: «На такси-то ты доедешь, а из такси до офиса кто тебя понесёт?»
Он усмехнулся, но в этой усмешке было больше благодарности, чем раздражения. И продолжил, уже с лёгким азартом – как будто сам удивлялся, сколько всего носит в себе и сколько может сейчас вспомнить:
– Или вот… Мы как-то поругались. Я уже взрослый мужик, мне тридцать, я ей сказал, что хочу поехать с друзьями на выходные. А она мне: «Ты у меня не пить поехал? Скажи честно». Я говорю: «Мам, мы в турпоход идём. У меня спальник и тушёнка в рюкзаке, можешь проверить!» Она смотрит, не моргая: «Это всё прикрытие. Вы там все в сектах, да?»
Мы оба рассмеялись. Смех этот был короткий, но объёмный, с какой-то почти телесной теплотой. Он потрогал край фотографии, не глядя на неё, – больше, наверное, чтобы почувствовать, что она рядом, чем чтобы разглядеть. В этом прикосновении было всё: и привычка, и любовь, и потерянная опора.
– Она всегда всё знала. Или думала, что знает. Даже когда ошибалась – делала это уверенно. С таким видом, что мир просто обязан был подстроиться. Иногда мне казалось, что если она скажет, что зима в этом году отменяется, – снег действительно не пойдёт.
Пока Илья говорил, в его голосе постепенно расплеталась эта тугая, спутанная пряжа из боли, стыда, растерянности и вины, – как будто сам факт того, что он говорит, позволял ему дышать ровнее, хотя бы немного. Он вспоминал эпизоды из детства – какие-то крошечные, незначительные, на первый взгляд, но для него они, кажется, были осями, на которых всё держалось: как она дважды разворачивалась, проверяя, выключен ли утюг;; как она всегда знала, когда он врёт, но делала вид, что верит, – чтобы не унизить; как однажды опоздала забрать его из школы, и он час стоял у ворот, но не боялся – потому что знал: она придёт.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.