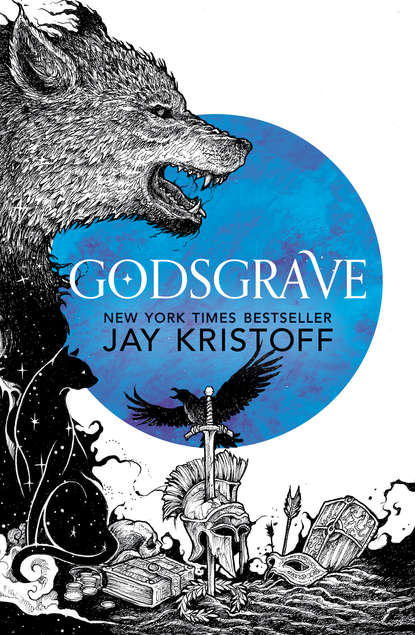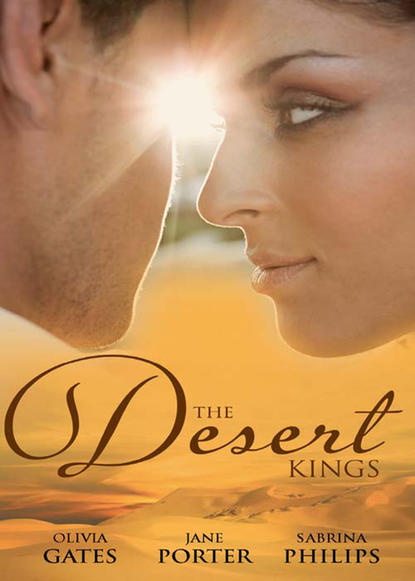Алые лепестки

- -
- 100%
- +
Он посмотрел на меня с тем самым выражением, которое всегда выводило из себя: смесью насмешки и серьёзности. И сказал, что однажды я сама научусь слышать голоса камня, даже если сейчас смеюсь над его словами.
Я отвернулась, пытаясь не показать, что его фраза задела глубже, чем я хотела бы признать. Внутри поднялась смесь раздражения и странной теплотой тянущей тоски, которую я не могла объяснить. В памяти мелькнуло другое лицо, человек, которого больше нет рядом, и его слова о том, что шрамы делают людей красивее, потому что в них видна история. Я тогда не поверила, но сейчас вдруг ощутила, что, может быть, он был прав. И этот шрам, который болел внутри, был частью меня, которую нельзя ни спрятать, ни стереть.
Мы двинулись дальше, и снег снова начал падать, мягко и тихо, словно пытался стереть все следы нашего разговора. Я смотрела на узоры снежинок, которые ложились на рукав, и подумала, что, возможно, именно так и устроена жизнь: каждый новый день пытается укрыть шрамы свежим снегом, но они всё равно остаются под кожей, тёплые и острые, готовые напомнить о себе в самый неподходящий момент. Я усмехнулась самой себе, и Мастер Теней спросил, что смешного в снегопаде. Я ответила, что это он – самый упрямый рассказчик, потому что каждый раз начинает одну и ту же историю заново.
Он улыбнулся краем губ и сказал, что тогда я тоже похожа на снег: каждый раз начинаю заново, но всё равно несёшь в себе старые тени. Я хотела возразить, но не нашла слов, потому что вдруг поняла: он прав. И этот шрам под кожей, о котором я редко думаю вслух, всегда был частью моей истории. Я вздохнула и пошла дальше, чувствуя, что снег не только холодит, но и очищает, оставляя под белым покровом что-то новое, ещё не названное. И в этот миг мне показалось, что впереди не только тени прошлого, но и возможность однажды шагнуть в свет.
Глава 5. Тишина вместо ответа
Снег снова падал, но теперь он казался мягче, почти беззвучным, словно небесам надоело шуметь и они решили просто наблюдать, как их крошечные осколки медленно опускаются на землю. Я шла по тропе, где каждый шаг сопровождался хрустом, напоминающим о детстве, когда мы с братом специально наступали на самые толстые корки льда, чтобы услышать этот звук. Тогда казалось, что мир прост: снег – это радость, а лёд – испытание на смелость. Теперь снег выглядел иначе, в нём чувствовалось что-то навязчивое, будто он хотел укрыть не только землю, но и правду, которую никто не хотел произносить вслух.
Мастер Теней шагал рядом, его движения были точными, почти кошачьими, словно каждое скольжение подошвы по льду было заранее рассчитано. Он не любил разговаривать в дороге, и в этой молчаливой манере было что-то раздражающе надменное. Я решила, что пора нарушить его тишину, и спросила, почему он никогда не отвечает прямо. Он прищурился, скользнув по мне взглядом, и произнёс, что прямые ответы чаще всего звучат глупо, потому что люди не умеют спрашивать о том, что действительно важно. Я закатила глаза и сказала, что его философия хуже замёрзшей каши.
Он усмехнулся и заметил, что замёрзшая каша хотя бы сохраняет форму, а мои вопросы рассыпаются, едва их произнесёшь. Я ответила, что у него редкий талант превращать любое замечание в нож, и добавила, что однажды он сам порежется своим остроумием. Он хмыкнул и сказал, что для этого нужно сначала научиться чувствовать боль, а он давно разучился. В его голосе прозвучала лёгкая насмешка, но в глазах мелькнуло что-то другое, тёмное и настойчивое, как будто это признание не было пустой бравадой, а правдой, от которой он не мог избавиться.
Я замолчала, потому что внезапно вспомнила свой первый шрам, тот, который прятала годами, не потому что боялась показать, а потому что он напоминал о событии, которое хотелось стереть из памяти. Мне тогда казалось, что люди, увидев его, поймут слишком многое, и я останусь голой перед их взглядами. Теперь, когда Мастер говорил о своей разучившейся боли, мне стало странно знакомо: возможно, он тоже носил внутри нечто, что никто не должен был видеть, потому что тогда всё рушилось бы. Снег продолжал падать, и в нём было утешение – молчаливое, но упорное.
Мы остановились у старой ели, её ветви свисали до самой земли, словно тяжесть снега заставляла дерево склоняться в поклоне. Я провела ладонью по стволу и ощутила шероховатую кору, пахнущую смолой, и запах этот пробудил воспоминание: мой дед когда-то говорил, что ель хранит тайны лучше любого сундука, потому что шёпот, сказанный под её ветвями, никогда не выходит наружу. Я рассказала об этом Мастеру, думая, что он высмеет, но он только кивнул и заметил, что именно поэтому люди боятся елей – они знают слишком много. Его серьёзность на этот раз смутила меня.
Мы пошли дальше, и я пыталась понять, что именно раздражает больше: его постоянные уклончивые ответы или то, что они заставляли меня задумываться о собственных тенях. Я привыкла защищаться иронией, бросать короткие колкие слова, как камешки в воду, чтобы разогнать тишину, но рядом с ним эта защита выглядела детской, будто я метала снежки в каменную стену. Внутри нарастало странное чувство: смесь злости и уважения, потому что в его молчании действительно была сила. Я хотела это отрицать, но не могла. И это бесило ещё больше, чем его слова.
Мы свернули к узкой тропе, ведущей к полуразрушенной башне, её силуэт выделялся на фоне неба, и казалось, что она готова упасть при первом сильном порыве ветра. Я спросила, почему он ведёт меня туда, и он ответил, что иногда нужно войти в самые хрупкие места, чтобы проверить их прочность. Я фыркнула и сказала, что это звучит как очередная его головоломка. Он пожал плечами и заметил, что весь мир – одна большая головоломка, и глупо ждать простых дорог. Его слова прозвучали банально, но внутри отозвались странным согласием, потому что я знала: моя дорога никогда не была простой.
Ветер усилился, снежная пыль била в лицо, и я вдруг ощутила, что хочу спросить его то, чего давно боялась: зачем он держит меня рядом. Вопрос повис между нами, и я сразу пожалела, что произнесла его вслух, потому что в его взгляде мелькнуло что-то резкое, как клинок, обнажённый слишком быстро. Он ничего не ответил, только отвернулся и пошёл дальше, оставив после себя тяжёлую тишину. И именно эта тишина оказалась хуже любых слов: в ней чувствовалось слишком многое, и сердце сжалось от непризнанной правды.
Я шла за ним, глядя на его спину, и думала, что, может быть, этот молчаливый ответ был честнее любых признаний. Иногда молчание говорит громче слов, и я это знала не понаслышке: когда-то один человек не ответил на моё «останься», и эта тишина стала громче всех криков. Я вспомнила тот вечер, запах сырой земли, тяжёлый воздух, и как всё изменилось одним невысказанным словом. Теперь это воспоминание сливалось с настоящим, и я ощущала, что снова стою перед той же пропастью, только рядом другой человек, и молчание его имеет другой вес.
Башня оказалась ближе, чем казалось издалека, и внутри было сыро, пахло мхом и старым железом. Мы вошли, и я почувствовала, как стены будто втянули нас, закрыв за спиной вход невидимой дверью. Мастер зажёг маленький факел, и его свет отразился в металлических скобах, оставшихся от старой лестницы. Я спросила, зачем он привёл меня сюда, и он снова ничего не сказал, только поставил факел в трещину стены и сел на камень, глядя куда-то в пустоту. Его молчание теперь казалось не защитой, а приговором, и я ощутила, как внутри начинает расти злость, перемешанная со страхом.
Я подошла ближе и резко сказала, что устала от его игр, что если он собирается всё время прятаться за тишиной, то однажды останется в ней один. Мои слова прозвучали жёстко, почти крикливо, и я сама удивилась этому тону. Он поднял глаза и посмотрел прямо в меня, спокойно, но слишком глубоко, словно видел больше, чем я готова была показать. И тогда он произнёс тихо, что иногда молчание – единственное, что может удержать человека от разрушения. Его слова прозвучали так, будто он говорил не обо мне, а о себе. И я замолчала.
Снаружи снег усилился, ветер завывал в пустых проёмах башни, и я слушала этот вой, понимая, что он отражает то, что происходило у меня внутри. Я вдруг осознала, что его молчание стало зеркалом моих собственных страхов, и, возможно, поэтому оно так сильно задевало. Шрам, который я носила под кожей, отзывался каждой его паузой, каждым невысказанным ответом. И я поняла: эта тишина – не пустота, а часть дороги, которую мне придётся пройти, даже если я не готова. Я села рядом, не говоря ни слова, и впервые его молчание показалось не враждебным, а общим.
Глава 6. Слепые зеркала
Зал, куда меня завели, напоминал гигантскую клетку, только вместо прутьев – высокие зеркала, упрямо отражающие не стены, а собственные капризы. Они искажали лицо, ломали пропорции, вытягивали фигуру до нелепости, а иной раз показывали чужие очертания, будто где-то рядом стояли те, кого давно уже нет. Пахло пылью и старыми свечами, чьё коптильное дыхание въелось в камень. Сапоги оставляли следы на полу, и звук шагов гулко отзывался в тишине, будто сам замок хохотал над тем, как человек суетливо топчется среди собственных отражений, надеясь увидеть правду.
Я задержалась у одного из зеркал и попыталась рассмотреть себя – та, что глядела в ответ, была слишком уставшей. Тени под глазами походили на синяки, щеки казались впалыми, а взгляд – чужим, как у актрисы, забывшей, какую роль играла. Попробовала улыбнуться, но стекло ответило мёртвой гримасой, от которой стало холоднее, чем от сквозняка. В груди неприятно заныло, и захотелось отвернуться, но именно в этот миг я заметила движение – будто позади мелькнул силуэт. Сердце ухнуло вниз, и рука сама собой легла на край плаща, словно ткань могла стать защитой от призраков.
Голос Мастера прозвучал слишком близко, хотя в отражении его не было. Он сказал, что эти зеркала не показывают правды, только то, что мы боимся признать. Саркастическая улыбка так и просилась на лицо, но слова вышли другими: и правда ли стоит верить стеклу, если оно само по себе слепое. Он усмехнулся, в его смехе сквозила колкость, и всё же он не спорил, будто знал – лишние слова только разожгут огонь в глазах. От этого становилось странно легко, ведь привычная перепалка звучала почти как музыка, способная перебить тревогу.
Внутри всё гудело, как туго натянутая струна, потому что отражения показывали не только изломанное лицо, но и сцены, которые я старалась забыть. В одном зеркале виднелась Москва, серый снег и чьи-то голоса, зовущие по имени. В другом – мать, смеющаяся за кухонным столом, хотя в памяти её смех давно стал слишком редким. Всё смешалось: запах выпечки из детства, тяжёлый аромат сырости замка, и резкий привкус крови, всплывший от воспоминаний. Хотелось закрыть глаза, но тогда отражения становились ещё ближе, почти касались кожи.
Мастер шагнул в круг зеркал, и его фигура отразилась десятками теней. В каждом стекле он был разным – то старше, то моложе, то с чужой усмешкой, то с таким взглядом, от которого хотелось отвернуться. Он, словно нарочно, встал рядом и произнёс тихо, что если боюсь смотреть, значит вижу больше, чем хочу. Внутри закипел протест, и слова сорвались раньше мысли – пусть он не учит, как справляться с тем, что носишь в груди. Его смех прозвучал хрипло, почти устало, и странно было слышать в нём не только насмешку, но и тень собственной боли.
Я двинулась вдоль зеркал, каждый шаг отзывался тяжестью, как будто камень под ногами пробовал силу моей решимости. В отражениях снова всплывали знакомые лица – друзья, которых оставила, случайные прохожие, с которыми больше никогда не встречусь. Казалось, что стекло дразнит: смотри, сколько жизней потеряла, сколько дорог закрыла. На миг мелькнула мысль – а не осталась ли сама где-то там, в старом городе, в снегу, где мечтала, что всё ещё можно изменить. Тело сжалось от этой догадки, пальцы дрогнули, и кружка с травами, которую я держала, едва не выпала.
Мастер не вмешивался, но присутствие его чувствовалось рядом, как дыхание на затылке. Хотелось сказать что-то колкое, сбить серьёзность, но язык запутался, и в итоге вырвалась почти шёпотом просьба – не стоять так близко. Он ответил, что близость – это всего лишь игра расстояний, и сделал шаг назад, но тень его осталась в каждом зеркале. От этого по коже побежали мурашки, и стало ясно: зеркало врёт не только отражением, оно хранит то, что мы сами не готовы отпустить.
В памяти всплыл другой день – я стояла перед обычным зеркалом в своей квартире, когда ещё верила, что жизнь можно подправить помадой и пудрой. Тогда тоже видела чужое лицо и пыталась убедить себя, что всё под контролем. Но теперь никакая косметика не скрывала трещины, и замок честнее любых утренних сборов показывал всё, что я пыталась забыть. От воспоминаний в горле запершило, а глаза сами наполнились влагой, которую так не хотелось показывать.
Он заметил дрожь в пальцах и сказал, что зеркала сильнее тех, кто боится правды. Сарказм вспыхнул на языке, и я ответила, что он, должно быть, вообще не смотрится в них, если так уверен. Его улыбка стала шире, в ней появилось то насмешливое тепло, от которого даже раздражение теряло силу. В груди что-то отозвалось странным – смесь злости, обиды и того неловкого тепла, что приходит, когда понимаешь: чужая усмешка умеет поддерживать лучше, чем чьи-то серьёзные речи.
Шагнув к выходу из зала, я всё же обернулась, и зеркала на миг показали не искажённый образ, а лицо усталое, но моё. В этом было что-то освобождающее, словно замок позволил выдохнуть, не вырвав изнутри остатки гордости. Мастер шёл следом, и шаги его звучали тихо, но настойчиво, как напоминание, что эта игра с отражениями ещё не окончена. Внутри поднялась усталость, но и лёгкость – впервые за долгое время хотелось верить, что даже в кривых зеркалах можно найти себя, пусть и среди чужих теней.
Дверь закрылась за спиной, и коридор встретил привычной сыростью, пахнущей камнем и ветром. Сердце билось уже ровнее, дыхание выравнивалось, и в голове оставался лишь один вывод – иногда отражения опаснее врагов, потому что от них не спрячешься ни в темноте, ни в словах. Но именно через них можно увидеть то, что иначе не признаешь. И в этой мысли было что-то тревожное, но честное, как шаг в неизвестность, из которой дороги назад уже не будет.
Глава 7. Древний зал
Каменные двери поддались с тяжёлым скрипом, будто стонали от обиды за то, что их заставили снова открыться. Воздух внутри зала оказался гуще, чем снаружи, пахло старым мхом, копотью и ещё чем-то едва уловимым – то ли железом, то ли запёкшейся кровью, впитавшейся в стены за века. Потолок терялся в темноте, и редкие факелы, вставленные в выемки колонн, не могли дотянуться своим светом до верха. Шаги отзывались эхом, будто само пространство пробовало голоса пришедших и решало, достойны ли они оставаться здесь. Я сделала несколько шагов и почувствовала, как холодные камни будто присасываются к подошвам, словно хотели задержать.
Вдоль стен тянулись ряды высеченных фигур – статуи войнов, жрецов, даже детей, застывших в нелепых позах, будто их застигла буря. На их лицах не было привычной пустоты камня, наоборот, выражения напоминали живые эмоции: страх, гнев, покорность. Казалось, что если подойти слишком близко, они зашевелятся и попросят освободить. В груди неприятно кольнуло – в памяти всплыла старая сказка, где говорилось, что в глубинах замка каждое поколение оставляло свою тень в камне, и те, кто осмеливался тревожить зал, слышали шёпот. Я усмехнулась – какая разница, если и в жизни хватает голосов, от которых не избавиться.
Мастер шагал чуть впереди, его силуэт выделялся на фоне тусклого света. Казалось, он знал каждую трещину на полу, каждую колонну, как знаешь собственные морщины на лице. Он сказал, что этот зал построен задолго до него и даже задолго до тех, кто называл себя Хранителями. В его голосе звучала насмешка, но и усталость, словно чужая история стала и его бременем. Я парировала, что для человека, который вечно язвит, слишком много серьёзности в словах, и он в ответ усмехнулся, обронив фразу, что серьёзность – это всего лишь маска, и носить её проще, чем улыбку.
Внутри всё сжалось от того, что эта его фраза звучала слишком правдиво. Я оглянулась на статуи – среди них нашлось лицо, удивительно похожее на моего знакомого из прежней жизни, и от этого горло перехватило. Когда-то мы сидели в московском кафе, спорили о том, что у каждого человека в душе свой каменный зал, только одни украшают его цветами, другие оружием. Он тогда смеялся, а я обижалась. Сейчас же шутка казалась предсказанием, и я поймала себя на мысли, что каменные стены вокруг будто знают всё, что я прятала. В животе неприятно похолодело, и шаги стали короче.
Мы остановились у огромного барельефа в центре, на котором переплетались фигуры людей и зверей. Линии были такими чёткими, что казалось, будто они двигались, и глаза чудовищ следили за каждым движением. Мастер тихо сказал, что это летопись, которую не пишет ни один хронист, потому что она сама себя сохраняет в камне. Я усмехнулась, заметив, что замку повезло больше, чем нам, ведь память у него вечная. Он прищурился, и в его взгляде мелькнуло что-то вроде одобрения, хотя слова он предпочёл заменить коротким смешком. Ирония смешивалась с тяжестью, и от этого хотелось одновременно спорить и молчать.
Шаги отвели к алтарю, каменному столу, на котором когда-то, вероятно, приносили жертвы. Поверхность была испещрена глубокими царапинами, как будто кто-то пытался выбраться или наоборот удержать. Я провела пальцами по холодному камню и ощутила дрожь, не свою, а чужую – словно память тела осталась в этой поверхности. В груди поднялась волна тошнотворного страха, но вместо того чтобы отступить, я сказала с сарказмом, что интерьер у замка явно не рассчитан на романтические прогулки. Мастер ответил, что это зависит от того, что считать романтикой, и уголок его губ дёрнулся, заставив меня замереть в недовольстве и смятении.
Тело отзывалось странной смесью: холод пробирал до костей, но кровь бежала горячее, чем обычно, и сердце билось слишком громко. Я чувствовала, что каждая тень в зале хочет заговорить, и что если задержаться, они заговорят. В памяти всплыло, как я когда-то, ещё девочкой, бродила по старой московской церкви и представляла, что каменные ангелы наблюдают за каждым шагом. Тогда это казалось игрой, теперь же всё происходящее было слишком реальным.
И всё же я не отводила взгляд, словно проверяла себя на прочность, пока Мастер с интересом следил за каждой моей реакцией.
Он сказал, что камень запоминает больше, чем люди, и добавил, что, возможно, именно поэтому его ценят больше, чем человеческие обещания. Я едко ответила, что и у камня трещины бывают, и они ничем не лучше наших слабостей. Он рассмеялся – коротко, глухо, как будто в этом смехе прозвучала и боль, и ирония. На мгновение наши взгляды встретились, и внутри всё дрогнуло, потому что там, за колкой усмешкой, проступила усталость, слишком близкая моей собственной. Хотелось отвернуться, но не смогла – глаза словно приклеились к нему, и дыхание сбилось, предательски выдавая волнение.
Я прошла мимо статуй и заметила, что некоторые из них будто осыпаются, но приглядевшись, увидела: это всего лишь тени факелов играют на трещинах. Всё равно сердце ускорилось, потому что от иллюзий отделяла только тонкая грань. В голове промелькнула мысль – а если и я когда-нибудь останусь в камне, такой же осколочной, застывшей в странной позе, кто будет проходить мимо и пытаться угадать мою историю. Мысль показалась нелепой, но больно кольнула, и я резко шагнула вперёд, будто могла убежать от неё.
Мастер подошёл ближе, и его голос прозвучал тише, чем обычно. Он сказал, что этот зал – не место для долгих разговоров, слишком много ушей у камня, и слишком много теней в его памяти. Я усмехнулась, ответив, что у него тоже ушей хватает, и он наверняка слышит больше, чем положено. Он прищурился и, не удержавшись, обронил, что для меня делает исключение. Саркастический ответ уже готов был сорваться, но во рту пересохло, и слова застряли, потому что внезапно это прозвучало слишком близко к правде, которую страшно было признать.
Мы вышли из зала, и воздух коридора показался легче, хоть и пах всё той же сыростью. Но внутри остался осадок, как после тяжёлого сна, когда не можешь отделить вымысел от реальности. Сердце ещё не пришло в норму, и в голове вертелась мысль: древние залы не отпускают просто так, они оставляют метку, даже если её не видно. И вместе с этой мыслью шло странное ощущение, что впереди ждёт не меньше теней, чем позади.
Глава 8. Голоса камня
Когда за дверью древнего зала захлопнулась тяжёлая плита, коридор встретил резким холодом, словно воздух решил напомнить, что здесь чужим не место. Каменные стены покрывала влага, по ним скользили тусклые отблески факелов, превращая тени в уродливых зверей. Где-то сверху, в щели между сводами, капала вода, её ритм эхом дробился на десятки звуков, будто кто-то невидимый плёл свою мелодию. Каждый шаг отдавался громче, чем хотелось, и казалось, что сама тишина становится плотной, как ткань, которую разрываешь движением. От этого звук шагов начинал походить на чужие голоса, и от этой мысли пробежала дрожь вдоль позвоночника.
Мастер шёл чуть впереди, его фигура то вытягивалась в рост гиганта, то ломалась на куски при каждом колебании пламени. Он будто чувствовал себя хозяином этого мрака, и это раздражало сильнее всего. Я в полголоса заметила, что место выглядит так, словно даже крысы сбежали, и добавила, что, наверное, единственные, кто здесь обитает, – это чьи-то занудные предки. Он усмехнулся, бросив через плечо, что я сама больше похожа на привидение, чем на живого гостя. В голосе не было обычной жесткости, лишь лёгкая насмешка, и почему-то именно это уязвило глубже всего.
Тишина давила, но вместе с ней рождалось ощущение, что камень действительно пытается говорить. Шёпот слышался то слева, то справа, иногда прямо у самого уха, но стоило обернуться – там только влажная стена и собственная тень. Поначалу я старалась не придавать значения, списывала на усталость, на холод, на нервное напряжение. Но чем дальше мы шли, тем отчётливее становились голоса, будто внутри камня остались обрывки чужих жизней, запечатлённых навечно. И внутри всё сильнее зудело странное ощущение, что рано или поздно они обратятся именно ко мне.
Мастер, словно уловив, что я начинаю слушать, остановился и сказал, что у камня долгая память, и те, кто не умеют закрывать уши, рано или поздно слышат слишком много. Я в ответ фыркнула, заметив, что он говорит так, будто сам каждое утро завтракает с этими шёпотами. Он усмехнулся, сказал, что в отличие от меня научился отличать правду от эха, и в его тоне сквозило нечто вроде укоризны. Мне захотелось огрызнуться, но в горле встал ком – ведь он, возможно, был прав, и именно мои собственные мысли отзывались от стен, превращаясь в эти голоса.
Сердце стучало слишком громко, и это раздражало ещё больше. Я вспомнила, как в детстве в старом московском доме у бабушки любила класть ухо к батарее и слушать, как гудят трубы. Тогда казалось, что они разговаривают между собой, переговариваются на своём тайном языке. Сейчас же ощущение было похожим, но гораздо страшнее – потому что здесь в камне, возможно, действительно жили чужие воспоминания. Я поймала себя на мысли, что часть этих голосов звучит знакомо, и от этого ноги налились свинцом, хотелось остановиться, но гордость толкала идти дальше.
Мы подошли к узкому пролёту, где стены сходились так близко, что приходилось протискиваться боком. Камень холодно скользил по плечам, оставляя ощущение чужого прикосновения. Мастер пробормотал что-то о том, что этот проход знают лишь те, кто готов слышать, и это прозвучало двусмысленно. Я съязвила, что он говорит загадками, как дешёвый прорицатель на ярмарке. Он ухмыльнулся, бросив, что в отличие от ярмарочных болтунов его слова стоят дороже. Я хотела ответить чем-то колким, но внезапный шёпот ударил прямо в ухо, и от этого колени подогнулись, пришлось вцепиться в стену.
Голос был настолько явственным, что не оставалось сомнений – это не воображение. Он звал по имени, и звук был неприятно похож на голос человека, которого я надеялась никогда больше не услышать. Внутри всё сжалось, в груди поднялась старая боль, как от не зажившей раны, и холод стал почти невыносимым. Я прошипела сквозь зубы, что если камень решил развлекаться, то он явно выбрал не лучшую мишень. Мастер обернулся, и в его взгляде промелькнуло понимание, слишком точное, чтобы не раздражать. Он ничего не сказал, только двинулся дальше, и я пошла за ним, хотя каждая клетка тела сопротивлялась.