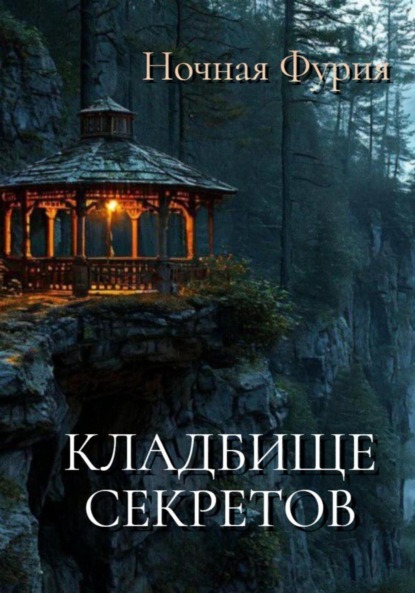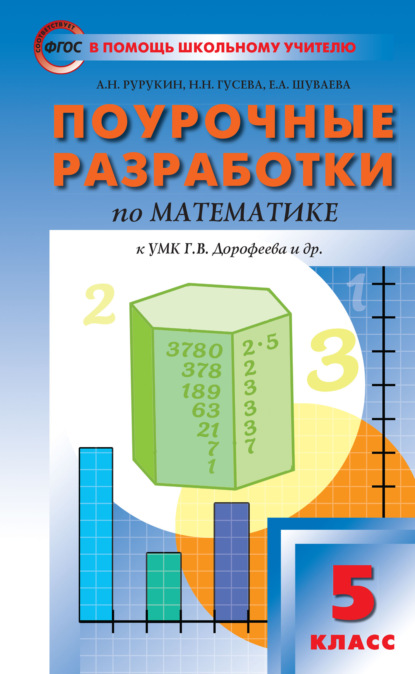Алые лепестки

- -
- 100%
- +
В памяти ожила сцена: однажды я возвращалась домой по заснеженной улице, когда из-за угла донёсся знакомый голос, и сердце ухнуло вниз, потому что знала – это тот, кого не должна была встретить. Тогда я ускорила шаг, стараясь не оборачиваться, но звук шагов догнал и пронзил до боли. Сейчас было то же самое, только шаги принадлежали камню, а голос не умирал, а жил в каждом шорохе. Внутри рождалась смесь страха и злости, и эта злость спасала, потому что позволяла двигаться дальше, даже когда хотелось замереть.
Коридор вывел в широкий грот, где стены, казалось, светились изнутри мягким серым сиянием. Голоса стали тише, но не исчезли – они теперь звучали как отголоски далёких песен. Мастер сказал, что это место называют Ушами Камня, потому что он собирает в себя всё, что люди когда-либо говорили здесь, и возвращает тем, кто осмеливается слушать. Я не удержалась и с усмешкой заметила, что у замка нет проблем с памятью, в отличие от некоторых, кто предпочитает забывать. Его взгляд скользнул по мне, и я вдруг почувствовала, что разговор касается не только камня.
В груди поднялось странное тепло, как будто даже этот мрачный зал сумел найти способ согреть. Я подумала, что, возможно, голоса не только пугают, но и напоминают, что память нельзя уничтожить. Где-то глубоко внутри это оказалось почти утешением. Я посмотрела на Мастера, и в его лице впервые мелькнула мягкость, которую он тут же спрятал за привычной усмешкой. Внутри кольнуло – не от страха, а от того, что даже в камне иногда слышишь не только боль, но и надежду.
И пока мы уходили дальше, голоса не смолкли, они продолжали звучать в голове, словно обещали, что ещё вернутся. И, несмотря на всё, в этом шёпоте вдруг прозвучала тонкая нота, похожая на лепесток надежды, который не успел превратиться в пепел.
Глава 9. Битва у руин
Снег на поляне лежал не ровным покрывалом, а изрезанным пятнами, словно кто-то нарочно кидал пригоршни холодного света на землю, оставляя между ними островки тьмы. Разрушенные стены древнего города торчали из-под сугробов, как кости давно умершего зверя, и каждый их обломок казался готовым зашептать о том, как здесь падали мечи и люди. Ветер пронизывал насквозь, носил обрывки сухих трав, и этот запах вызывал во рту привкус горечи. Я вслушивалась в пустоту, где каждая мелочь – скрип снега, звон далёкого крика ворона – могла оказаться началом чего-то большого, слишком большого для того, чтобы его хотелось встретить.
Мастер остановился у расколотой колонны, провёл ладонью по камню, будто проверяя, жив ли он ещё. Я заметила с ехидцей, что его привычка гладить стены подозрительно напоминает ритуал одинокого старика, которому не хватает компании. Он усмехнулся, ответив, что, в отличие от меня, камни хотя бы не спорят без повода. Я едва не возразила, что как раз спорят, да ещё как, только нужно прислушаться, но в этот момент над руинами прокатился гул – не от ветра, не от птиц, а от шагов, слишком тяжёлых и множащихся эхом. Сердце ухнуло, и тело само приготовилось к тому, что приближается что-то чужое.
Из-за развалин показались фигуры, закутанные в серые плащи, и снег хрустел под их сапогами так, словно каждый шаг хотел раздавить не только лёд, но и сам воздух. Они двигались слаженно, как люди, привыкшие жить в одном ритме, и эта холодная слаженность пугала сильнее любых криков. Мастер бросил короткий взгляд, и в его глазах сверкнуло что-то, похожее на удовольствие, будто он давно ждал этого столкновения. Я же ощутила, как кровь ударила в виски, руки задрожали, и внутри поднялась та самая древняя дрожь, что появляется всякий раз, когда понимаешь: назад уже не отступить.
Первый удар разрезал воздух, как треск молнии. Мастер шагнул вперёд, его тень расплескалась по снегу, а я машинально потянулась к кинжалу, который до этого казался просто игрушкой. Соперники были слишком реальны: запах кожи, стук металла, тяжёлое дыхание – всё это било по чувствам, как молот. Я пыталась не думать, а просто двигаться, но тело будто жило отдельной жизнью: шаг, выпад, резкий вдох, ощущение ледяного воздуха в лёгких. Мир сжался до нескольких ударов сердца, до криков, растворяющихся в снегу, и до боли в плечах от удара, который едва не выбил оружие из рук.
Сквозь хаос боя прорывались голоса памяти. Вспомнился отец, говоривший когда-то, что драка – это всегда позорное дело, потому что там редко побеждает тот, кто прав, чаще выигрывает тот, кто быстрее решится ударить. Тогда я смеялась над его серьёзностью, не верила словам, но теперь они вдруг ожили, стали тяжёлыми и правдивыми, как камень в руке. Я думала, что смогу держаться за иронию, но во время боя она осыпалась, словно штукатурка с древней стены, оставив только голую необходимость дышать и выживать.
Мастер двигался рядом, его удары были точны, будто он танцевал свой смертельный танец, и я поймала себя на том, что начинаю подстраиваться под его ритм. Злило именно это: зависимость от чужого шага, от чужой уверенности. Я огрызнулась сквозь шум, что если он ещё раз бросит на меня взгляд, как на нерадивую ученицу, то пущу кинжал прямо ему в спину. Он усмехнулся, будто услышал даже без слов, и его удар в следующий миг спас мою жизнь, отразив клинок врага. Внутри всё сжалось, потому что ненависть и благодарность переплелись, оставив только горький привкус во рту.
Ветер усилился, снег закружился, превращая поле битвы в белое марево. Фигуры врагов терялись и вновь выныривали, словно они были частью самой вьюги. Я ударила одного в грудь, почувствовала, как тело поддалось, и кровь брызнула на снег, раскрасив его в багровый. Это зрелище вызвало тошноту, но времени на слабость не оставалось. Каждый новый шаг был балансом между жизнью и смертью, и даже дыхание стало похожим на удары барабана. Я поняла, что руины вокруг будто ожили, их стены стали свидетелями нового боя, добавив к своим древним шрамам ещё один.
В какой-то миг я упала на колено, ударившись о камень, и услышала, как тот застонал подо мной. Мне показалось, что он шепчет, что всё повторяется, что это уже было, и что никто не учится. От этого по телу прокатилась волна злости, потому что я не хотела быть просто ещё одним повторением чужой истории. Я вскочила, ударила сильнее, чем думала, что могу, и почувствовала, как внутри загорается то самое пламя, которое всегда пугает, но никогда не даёт окончательно упасть.
Когда бой начал стихать, дыхание вырывалось рваными клочьями, руки дрожали, а глаза слезились от снега и дыма. Враги отступали, оставляя за собой пятна крови и обрывки плащей. Мастер стоял неподвижно, как статуя, и его лицо не выдавало ни усталости, ни облегчения. Я, напротив, чувствовала, как каждое движение даётся с трудом, и только внутри продолжал звучать странный стук, будто сердце всё ещё не поняло, что битва закончилась.
Я вспомнила, как в детстве, проиграв в снежки, любила кричать, что победа врага – случайность, и бежать домой, пряча обиду. Сейчас всё было похоже, только ставки выше, а бежать некуда. Мастер посмотрел на меня и тихо заметил, что у снега слишком много оттенков, когда впитывает кровь. Я фыркнула, сказала, что это его поэтическая привычка всё усложнять, и спрятала руки в рукава, чтобы он не видел дрожи. Но внутри понимала: эта битва – лишь начало, и голоса руин ещё вернутся.
Мы вышли из развалин, и ветер словно закрыл за нами дверь. Но запах крови, смешанный с холодом, остался, врезавшись в память так же крепко, как детские слова отца. И мне вдруг стало ясно: камень действительно хранит каждое эхо, и теперь он будет хранить и наше.
Глава 10. Холодное дыхание
Снег лёг на дорогу тонким слоем, словно кто-то небрежно разлил молоко, и теперь ветер разгонял его, поднимая облачками, что врезались в лицо ледяными иглами. Впереди тянулись развалины, серые камни покрывались инеем, и казалось, будто само время застыло в ожидании. Я шагала, чувствуя, как ботинки скрипят о наст, и этот звук раздражал не меньше, чем тишина вокруг. Воздух пах стужей и горькой гарью – остатки битвы ещё держались, как напоминание о том, что прошлое не исчезает так быстро. Каждый вдох был тяжёлым, и лёгкие будто обжигало изнутри холодом.
Мастер шёл рядом, его плащ развевался, словно часть этой метели, и он смотрел на меня с той же невыносимой смесью скуки и насмешки, от которой хотелось то ли ударить его, то ли рассмеяться. Я спросила, неужели ему совсем не холодно, и услышала в ответ, что, когда живёшь в камне, мороз становится привычным соседом. Хотелось огрызнуться, что у некоторых соседей хотя бы есть манеры, но зубы стучали так, что слова застревали. Тогда я лишь закатила глаза, стараясь изобразить равнодушие, хотя пальцы давно окоченели и прятались глубже в рукава.
Воздух становился плотнее, будто он сам превращался в ледяную ткань, через которую приходилось пробиваться. Мне вспомнились зимы детства, когда приходилось ждать мать у закрытого магазина, переминаясь с ноги на ногу, пока ветер залезал под куртку и вызывал слёзы, и тогда я мечтала о любом тёплом месте, пусть даже о печке в чужом доме. Сейчас всё повторялось, только вместо матери рядом шагал человек, который умел бросить взгляд так, что становилось теплее и холоднее одновременно. Память поднимала те старые ощущения, и от этого становилось труднее двигаться вперёд.
Мастер остановился у разрушенной стены, дотронулся до неё ладонью и сказал, что здесь, в этих камнях, до сих пор хранится дыхание тех, кто погиб. Я не поверила сразу, но в следующую секунду ощутила, как холод пробежал по коже, словно кто-то чужой провёл пальцами по шее. Я попыталась отшутиться, мол, если бы камни умели дышать, они бы давно попросили его перестать их лапать, но голос дрогнул. Он усмехнулся, явно уловив эту дрожь, и сказал, что не всем дано различать голоса прошлого. Я отвернулась, делая вид, что просто любуюсь снежными облаками.
Тишина вокруг была вязкой, её можно было бы резать ножом, и в этой тишине каждый мой вдох звучал, как стон. Я заметила, что Мастер словно впитывает её, чувствует себя дома, а я наоборот – будто чужая, будто весь этот холод специально проверяет меня на прочность. Внутри возникло желание закричать, разбить эту ледяную пустоту хотя бы словом, но я сдержалась, потому что знала: любая слабость будет подмечена и превращена в оружие. Это раздражало до скрежета зубов, и всё же где-то глубоко под злостью теплилась странная благодарность, что он идёт рядом.
Ветер налетал порывами, сбивая дыхание, и в эти мгновения я ощущала, как тело становится чужим: руки немеют, ноги тяжелеют, мысли застывают. Тогда я вспомнила, как когда-то бежала зимой к реке, чтобы доказать подругам, что не боюсь холода, и прыгала в снег босыми ногами, пока они визжали от смеха. Мне тогда казалось, что сила – это возможность смеяться над морозом. Теперь же сила была в том, чтобы не упасть лицом в этот снег и не позволить ему поглотить меня. И где-то на краю сознания я услышала шёпот камней, будто они одобряли мою упрямую решимость.
Мастер вдруг сказал, что дыхание холода чище любого огня, потому что в нём нет лжи. Я хмыкнула, отметив, что это отличная философия для человека, у которого сердце, похоже, давно заморожено. Он усмехнулся, заметив, что для меня это, возможно, спасение. И в этот момент я поняла, что он слишком близко: запах его одежды, смесь дыма и трав, пробивался сквозь мороз, и от этого мне стало теплее, но некомфортно. Хотелось отступить, но ноги упрямо оставались на месте, словно боялись выдать лишнее движение.
Мы двинулись дальше, и руины впереди начали оживать тенями. Они напоминали людей, застывших в последнем крике, и от этого становилось не по себе. Я сжала кулаки, чтобы не показать страх, и сказала нарочито бодро, что если эти стены действительно дышат, то, наверное, они уже успели пожалеть, что дышат рядом со мной. Мастер ответил, что стены умеют хранить и жалость, и ненависть, и мне придётся столкнуться с обоими. Эти слова прозвучали слишком серьёзно, и я поспешила отвернуться, притворяясь, что разглядываю трещины на камнях.
С каждой минутой холод становился не только внешним, но и внутренним, как будто он проникал под кожу, заполнял кровь и мысли. Я чувствовала, что злость помогает держаться, и эта злость была направлена и на него, и на себя, и на весь этот мир, где камни умеют дышать, а люди – молчать. Но вместе со злостью поднималась странная теплая искра: ведь в этом холоде, в этих руинах мы шли рядом, и это «рядом» значило больше, чем я готова была признать.
Когда впереди показался тёмный проход, ведущий глубже в развалины, я вдохнула так, будто собиралась прыгнуть в ледяную воду. Мастер кивнул, и в его взгляде мелькнуло что-то почти человеческое, мягкое, но тут же исчезнувшее. Я подумала, что, возможно, именно этот холод нужен, чтобы узнать правду о нём, и что, может быть, дыхание камней не самое страшное, что ждёт меня впереди. И от этой мысли стало немного теплее, хотя снег вокруг продолжал падать, не зная жалости.
Глава 11. Ловушка слов
Когда дверь в зал скрипнула, словно жаловалась на старость, и впустила нас внутрь, воздух изменился: холод остался за спиной, а здесь стояла застоявшаяся тишина, в которой витал запах старых свитков, плесени и чего-то едва уловимо сладкого, как будто некто оставил в углу горсть засохших лепестков. Каменные колонны, уходящие ввысь, напоминали застывших стражей, готовых рухнуть в любую минуту. Пол был устлан трещинами, и в каждой трещине, казалось, прятались шёпоты. Я шагнула осторожно, словно боялась разбудить стены.
Мастер прошёл вперёд, и его голос прозвучал неожиданно громко, когда он сказал, что это место хранит не только тайны, но и опасности. Я не удержалась и заметила, что это прозвучало так же изобретательно, как предупреждение на дешёвом замке: «не ломай – упадёт». Он усмехнулся, не обидевшись, и добавил, что именно слова здесь могут быть смертельнее любого клинка. Я пожала плечами, решив, что если меня убьёт собственный язык, то это будет вполне достойный конец.
Эхо повторяло каждый звук, возвращая реплики с издёвкой. Я попробовала пошутить о том, что теперь у меня будет двойник, наконец-то способный молчать, но стены отозвались так громко, что даже мне стало не по себе. Мастер посмотрел серьёзнее, чем обычно, и велел быть осторожной, потому что слова здесь не просто повторяются, они запоминаются. Я сделала вид, что мне всё равно, но внутри кольнуло воспоминание: в детстве соседка кричала на меня за болтовню, говоря, что язык мой приведёт меня в беду. Тогда я не верила, а сейчас её голос зазвучал в голове вновь.
Я двинулась дальше, и каждый шаг отзывался не только звоном в ушах, но и странным ощущением тяжести, словно воздух сам становился плотнее, когда произносились слова. Я заметила на стене выбитые символы, похожие на письмена, и, не удержавшись, прочла их вслух. Зал дрогнул, и камень под ногами хрустнул. Мастер резко схватил меня за руку и процедил, что здесь лучше ничего не читать. Я усмехнулась, мол, поздно предупреждать, но рука в его ладони была горячей и крепкой, и мне почему-то не хотелось её отпускать.
Слова, что прозвучали из моих уст, словно ожили в воздухе, оставив невидимый след, и я почувствовала, как они давят на грудь. Это был странный, почти телесный вес, будто каждое произнесённое слово оставляло синяк на коже. Я вдруг осознала, что даже самое случайное замечание может стать ловушкой, и это вызвало нервный смех. Мастер нахмурился и сказал, что смеяться здесь опаснее всего, потому что смех – тоже слово, только без смысла. Я ответила, что, пожалуй, без смысла мне жить привычнее.
Свет факела дрожал, и от этого тени на стенах казались живыми. Мне вспомнилось, как в школе я, защищаясь от насмешек, научилась стрелять словами больнее, чем они – и тогда враги отступали, но за этим всегда приходило одиночество. Здесь, в этом зале, одиночество обретало материальный вид: оно цеплялось за каждую фразу, поднимало из памяти чужие голоса и заставляло их звучать в унисон с моим. Я почувствовала, что злюсь не на зал и даже не на Мастера, а на саму себя за то, что язык мой и правда часто опережает разум.
Мастер остановился у постамента, где лежала треснувшая плита. Он сказал, что именно здесь слова когда-то запечатали нечто сильное, и если повторить их снова, печать сорвётся. Я спросила, неужели он настолько доверяет моему красноречию, что боится, будто я случайно освобожу древнее зло. Он усмехнулся и заметил, что я уже доказала свою способность открывать двери туда, куда лучше не заходить. Эта фраза задела, потому что в ней было больше правды, чем я хотела бы признать.
Я подошла ближе и коснулась камня. Под пальцами ощутила холод, будто прикоснулась к льду, но в глубине плиты что-то отозвалось теплом. Это тепло пробежало по коже, и я невольно вздрогнула. В памяти всплыло, как однажды я писала письмо, которого никто не ждал, и каждое слово в нём жгло пальцы, потому что знала: оно изменит всё. Здесь было то же чувство: слова как оружие и как спасение, и между ними тонкая грань.
Мастер смотрел молча, но взгляд его был внимательным, словно он пытался прочитать то, чего я сама не понимала.
Зал гудел тишиной, и эта тишина становилась всё тяжелее, пока не захотелось кричать, просто чтобы разорвать её. Но я знала: любое слово будет услышано и сохранено. Я сжала губы, почувствовав металлический привкус, как будто сама кровь хотела прорваться в воздух вместо слов. Мастер сделал шаг ближе и тихо сказал, что молчание иногда сильнее крика. Я усмехнулась, назвав его философом среди развалин, и он впервые за долгое время улыбнулся так, что это выглядело почти тепло.
Мы вышли из зала, и холод снаружи встретил нас, словно старый друг, которого не ждёшь, но он всегда приходит. Я вдохнула морозный воздух и ощутила странное облегчение: пусть холод жёсткий, но в нём нет предательства. Внутри же слова оставили шрамы, которые ещё долго будут ныть. Мастер спросил, жалею ли я о том, что сказала, и я ответила, что жалею только о том, что не всегда умею молчать. Он усмехнулся и сказал, что в этом моё оружие и моя беда.
Мы двинулись дальше по дороге, где снег падал густо, скрывая следы. Я подумала, что слова похожи на эти следы: одни заметает сразу, а другие остаются в памяти, как трещины во льду. И, может быть, именно из таких трещин рождаются новые пути. Мастер шёл рядом, молчаливо, и я знала: его молчание хранит больше, чем мои самые длинные речи. Мне стало даже спокойнее от этого – словно рядом со мной был страж, готовый удержать не только камни, но и мои собственные слова, если они снова решат стать ловушкой.
Глава 12. Ненужное признание
Я всегда считала, что признания – это привилегия тех, кто не боится выглядеть глупо, потому что, по сути, каждое из них сродни выходу на сцену в нелепом костюме, где зрители, даже если и аплодируют, всё равно потом перемывают кости за кулисами. И всё же в тот вечер, когда снег укрывал замок плотным покрывалом, а ветер шептал в щели стен, мне пришлось признаться – не из великодушия или смелости, а скорее из усталости, потому что сколько можно носить внутри камень, который тянет вниз, будто сердце приковано к цепи. Зал, куда мы зашли, был пустым, но от этого он не казался менее давящим, и я вдруг ощутила, что именно пустота провоцирует человека говорить лишнее.
Мастер, разумеется, не упустил возможности поддеть меня: сказал, что я выгляжу так, будто собираюсь исповедоваться, а он, к несчастью, ни священник, ни судья. Я ответила, что исповедоваться греховно глупо, ведь всё равно никто не слушает до конца, а судить меня можно разве что за дурной вкус к обществу угрюмых магов. Его улыбка была едва заметной, но я поймала её, как упрямый ребёнок ловит снежинку на ладонь. И в этот момент мне захотелось сказать то, что давно зудело под языком.
Я призналась, что устала быть чужой даже самой себе. Не в героическом смысле, не как избранная, а как человек, который каждое утро смотрит в зеркало и не узнаёт отражение. Слова прозвучали громко, хотя я надеялась, что они утонут в холодном воздухе. Мастер отозвался резко, с насмешкой, что это признание ничуть не тянет на великую трагедию и достойно разве что страниц дешёвого дневника. Я вспыхнула, обиделась, но знала, что в этой язвительности есть нечто полезное: его насмешки, как соль, заставляют рану кровоточить, но именно это и не даёт ей гнить.
Слова продолжали рваться наружу, будто кто-то сорвал печать внутри. Я заговорила о том, что боялась потерять себя среди чужих голосов, среди теней прошлого, среди тех, кто всегда считал меня незначительной. В детстве я пыталась кричать громче, но получалось только хрипеть, и каждый раз вместо признания рождалась очередная насмешка. Сейчас же я стояла в холодном зале и позволяла этим словам падать на камень, как капли крови, понимая, что их никто не поднимет и не утрёт.
Мастер слушал молча, но в молчании было что-то большее, чем равнодушие: его взгляд скользил по моему лицу, и в нём было столько же иронии, сколько и неожиданной мягкости. Он заметил, что не так уж и плохо наконец-то услышать правду, пусть даже она звучит как плач в коридоре. Я усмехнулась сквозь дрожь и ответила, что он слишком льстит себе, если думает, будто эти слова сказаны ради него. Это было и правдой, и ложью одновременно, потому что в глубине души я знала: если бы рядом стоял кто-то другой, я бы промолчала.
Я вспомнила вечер, когда впервые попробовала рассказать матери о своей боли, а она, вытирая руки от муки, лишь отмахнулась, мол, глупости, у всех подростков в голове метель. Тогда я решила больше не делиться, и вот прошло столько лет, а я всё ещё не научилась отличать искренность от слабости. Эти воспоминания резанули сильнее, чем насмешка Мастера, потому что его слова хотя бы оставляли за собой живое раздражение, а материнское равнодушие – только ледяную пустоту.
Снег за окнами валил так густо, что казалось, он хочет завалить замок целиком, скрыть его, словно признание, которое лучше похоронить в сугробе. Я сказала это вслух, и Мастер усмехнулся, отметив, что я умею прятать свою правду даже в метафорах, что делает меня опаснее любого колдуна. Я ответила, что тогда он, должно быть, самый безрассудный человек на свете, раз продолжает стоять рядом. Его улыбка стала шире, но глаза остались печальными, и от этого мне захотелось смеяться и плакать одновременно.
В тот момент я ощутила, что между нами пролегает не просто саркастическая дуэль, а нечто тонкое, почти незаметное: нить, которую тянет каждый из нас, боясь, что она оборвётся. Моё признание оказалось ненужным не потому, что оно не имело смысла, а потому, что оно было слишком личным для этого замка, этих стен, этой тьмы.
Но именно ненужные признания чаще всего оказываются самыми важными, и я знала это лучше, чем кто-либо.
Мастер наконец заговорил серьёзно: сказал, что мои слова напоминают ему собственные мысли, которые он предпочитал держать под замком, потому что их опаснее выпускать, чем любое заклинание. Я усмехнулась, спросила, неужели он боится собственной искренности. Он ответил, что боится не её, а того, кто сможет её услышать. Эта фраза оставила во мне отголосок, как звон колокола, и я поймала себя на том, что впервые за долгое время мне хочется верить не словам, а молчанию.
Мы покинули зал, оставив в нём эхо моего признания, которое ещё долго будет бродить среди колонн. Холодный коридор встретил нас резким сквозняком, и я натянула плащ выше на плечи, словно пряча не тело, а только что обнажённую душу. Мастер шагал рядом, не касаясь, но близость его ощущалась сильнее любого прикосновения. Я подумала, что, возможно, ненужные признания – это не слабость, а первый шаг к тому, чтобы наконец-то перестать чувствовать себя чужой.
Ночь опустилась тяжело, и в тишине слышно было только, как ветер раскачивает двери. Я уснула поздно, с ощущением, что что-то изменилось, хотя ничего явного не произошло. Признание ушло в пустоту, но пустота, впервые за долгое время, показалась мне не врагом, а пространством, в котором можно дышать. И пусть завтра снова придут насмешки, сарказм и холод, я знала: сказанные слова уже нельзя вернуть, а значит, они начали строить для меня что-то новое, пусть пока невидимое.
Глава 13. Город под пеплом
Город всегда пахнет чем-то своим, даже если его почти не осталось, даже если стены превратились в руины, а крыши осели под тяжестью вековой пыли, и всё равно воздух хранит запахи, которые не спутать с другими: здесь пахло углём, пролитым вином и горьким дымом, который въелся в камни так глубоко, что даже снег, накрывший улицы серым покрывалом, не мог его скрыть. Я шла медленно, словно боялась разбудить развалины, которые дремали под слоем пепла, и каждый шаг отдавался в груди тяжестью, будто я сама была частью этого мёртвого города, давно забывшего, что значит жить.