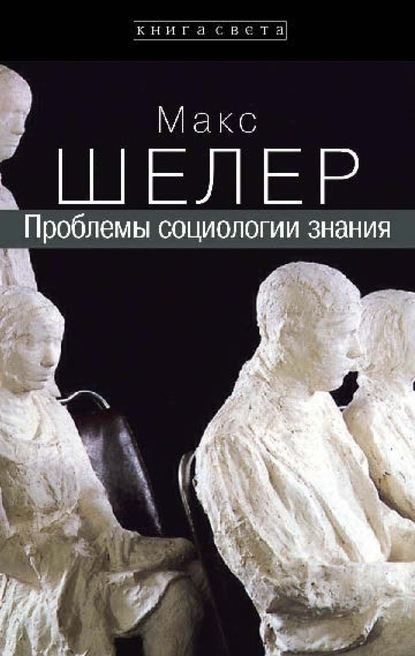Каменная роза Эвервина

- -
- 100%
- +
Мы поднялись и пошли дальше по залу, и свет искр освещал нам путь, и я чувствовала, что внутри меня тоже загорается искра, не такая яркая, но настоящая, и что она будет гореть, даже если мир снова станет каменным; он посмотрел на меня и сказал: «Ты меняешься», – я усмехнулась: «Ты льстишь себе, это всё твой дурной характер», – он рассмеялся: «Тогда пусть он остаётся таким», – и в его смехе было столько тепла, что я невольно улыбнулась, потому что поняла: именно он и его колкости стали для меня той самой искрой.
Мы вышли из зала, и проход снова сомкнулся за нашей спиной, и я знала: этот свет останется со мной, даже если я больше его не увижу; я посмотрела на него и сказала: «Знаешь, может, в этом мире и правда есть что-то, ради чего стоит идти», – он усмехнулся: «Главное – не перепутай, ради кого», – и я закатила глаза, но сердце пропустило удар, потому что знало ответ, который я ещё не готова была произнести вслух. И когда мы двинулись дальше, я почувствовала, что тени под кожей становятся светлее, и что, может быть, именно в этом и заключается сила – не в том, чтобы спрятаться от темноты, а в том, чтобы зажечь в ней свой собственный огонь.
Глава 16. Холод, который греет
Мы вышли из тёмного прохода, и горы расступились, открывая долину, укрытую снегом так плотно, будто сам мир накрыл её одеялом, решив, что здесь никто больше не проснётся; я остановилась и вдыхала морозный воздух, и в этом воздухе было что-то чище, чем в Москве после дождя, где асфальт блестит, но пахнет бензином, а здесь пахло только льдом и тишиной, и я невольно усмехнулась, потому что никогда не думала, что смогу радоваться запаху, который обжигает ноздри; я сказала: «Ну что, Мастер Теней, твой рай выглядит довольно уныло», – и он хмыкнул: «Тогда оставайся в аду, к которому привыкла», – и я фыркнула, потому что спорить с ним было так же привычно, как дышать.
Мы двинулись по тропе, и снег под ногами скрипел мягче, чем раньше, словно мир решил смилостивиться на миг, и я вспомнила, как в детстве любила кататься на санках, пока щеки не горели, и как мама потом заворачивала меня в одеяло и ставила кружку какао, и я думала, что счастье именно в этом – в горячем напитке и тепле рук; сейчас, шагая среди вечного холода, я ловила себя на том, что ищу то же самое – кружку какао и руки, которые согреют, только вот какао здесь не предвиделось, а руки… я бросила взгляд на него и тут же отвернулась, потому что не хотела признавать даже себе, что иногда его присутствие греет сильнее костров.
Дорога привела нас к деревне, и это слово показалось мне смешным, потому что деревня здесь выглядела как десяток полуразрушенных домов, застывших в сугробах, и ни дыма, ни света, только тени в окнах; я сказала: «Ну вот, туры по местным достопримечательностям продолжаются», – он усмехнулся: «Зато не придётся стоять в очереди», – и я рассмеялась, потому что даже в этом у него был талант видеть абсурд; мы зашли в первый дом, и внутри пахло холодным деревом и пеплом, и я вдруг вспомнила запах дедушкиной дачи, когда мы приезжали зимой и топили печку, и этот запах ударил так сильно, что я села на лавку, боясь, что слёзы выступят сами собой.
Он заметил моё состояние и сказал: «Эти дома помнят слишком много», – я усмехнулась: «Ну спасибо, отличный совет, я прямо расслабилась», – он фыркнул: «Ты же хотела правду», – и я пожала плечами: «Я хотела чай», – и мы оба рассмеялись, потому что знали: ни чая, ни тепла здесь не будет, только мы и стены, которые смотрят молчаливее любых глаз; я провела пальцами по столу, и дерево оказалось шероховатым, будто впитало все разговоры, которые здесь когда-то звучали, и в груди сжалось, потому что я поняла – этот мир хранит не только камень, но и эхо чужих жизней, и это эхо тяжелее, чем любой холод.
Мы развели небольшой огонь в камине, и пламя сперва капризничало, но потом всё же разгорелось, и его треск оказался музыкой, которой я давно не слышала; я протянула руки к огню и сказала: «Вот ради этого стоило идти», – он усмехнулся: «Ты слишком легко находишь радость», – я улыбнулась: «А ты слишком легко её разрушаешь», – и он рассмеялся, и в этом смехе не было привычной насмешки, он звучал теплее, и я вдруг почувствовала, что сидеть рядом с ним у костра безопаснее, чем в любой московской квартире, где стены слушали мои одиночные ужины и утренние спешки.
Я посмотрела на него и сказала: «Ты всё время прячешься за словами, но я вижу, что ты тоже умеешь мерзнуть», – он усмехнулся: «Я мерзну только рядом с тобой», – и я фыркнула: «Комплименты у тебя как всегда обжигают», – но сердце дрогнуло, потому что я знала – в его голосе прозвучала правда, которую он пытался замаскировать в колкости; я отвернулась, чтобы скрыть румянец, и уставилась в огонь, и кольцо на пальце согрелось вместе с пламенем, словно подтверждая: этот момент был важнее, чем я позволяла себе признать.
Мы сидели молча, и я чувствовала, как тишина перестаёт быть врагом, как она становится мягкой, как плед, и это было странно, потому что я привыкла, что молчание давит, а здесь оно лечило; я вспомнила, как когда-то ужинала с человеком, с которым у нас не было общих слов, и как тогда я мечтала о том, чтобы молчание могло быть простым, без нужды заполнять его, и сейчас это случилось впервые; я посмотрела на него и сказала: «Ты всё равно невыносим», – он улыбнулся: «Но дышать рядом легче», – и я рассмеялась, потому что украсть мои слова было самым нахальным поступком, но именно этим он и был.
Огонь постепенно угасал, и я почувствовала, как в груди разгорается другой огонь, тот, что я боялась назвать, и я знала: он видит это, потому что его взгляд становился мягче, и это пугало сильнее всего, потому что признание в глазах не спрячешь за сарказмом; я встала и сказала: «Ну что, идём дальше?», – он кивнул: «Ты только и ищешь повод убежать», – и я усмехнулась: «А ты только и ищешь повод поймать», – и мы оба рассмеялись, но смех был другим, не как раньше – в нём было слишком много тепла.
Мы вышли из дома, и снег снова хрустнул под ногами, но теперь этот звук казался не холодным, а живым, словно подтверждал, что мы двигаемся вперёд; я посмотрела на него и сказала: «Знаешь, иногда кажется, что весь этот мир создан, чтобы мы перестали врать себе», – он усмехнулся: «А иногда – чтобы мы начали врать друг другу», – я улыбнулась: «Но ведь пока мы смеёмся, это не ложь», – и он ничего не ответил, только посмотрел на меня так, что сердце пропустило удар, и я знала: он понимает больше, чем говорит.
Мы шли по улице деревни, и окна домов провожали нас пустотой, но мне казалось, что внутри горит свет, который видим только мы; я вспомнила, как в Москве возвращалась домой и всегда думала, что за чужими окнами живут настоящие семьи, а у меня только телевизор и кружка супа, и это воспоминание больно кольнуло, но тут же я поняла: здесь я тоже иду мимо пустых окон, но не одна, и именно это меняет всё; я сказала: «Может быть, ты не так уж и невыносим», – он усмехнулся: «Не обольщайся», – и я улыбнулась, потому что знала: именно в этом «не обольщайся» прячется его собственное признание.
И когда мы покидали деревню, я почувствовала, что холод больше не давит, а наоборот, греет, потому что он делает нас ближе, и, может быть, именно в этом и есть парадокс этого мира: настоящий огонь рождается не от костра, а от того, что ты идёшь рядом с кем-то, кто умеет смеяться даже в самой ледяной пустоте.
Глава 17. Шаги по тонкому льду
Мы вышли на равнину, и перед нами раскинулось озеро, укрытое ледяной коркой, которая блестела в свете бледного солнца, словно кто-то рассыпал по поверхности тысячи осколков зеркал; я остановилась и сказала: «Ну да, идеально, именно о таком курорте я мечтала: немного скользкой смерти в придачу к вечному холоду», – он усмехнулся и ответил: «Не переживай, если провалишься, я скажу на прощанье пару тёплых слов», – и я фыркнула, потому что в его голосе прозвучала насмешка, но за ней угадывалась странная забота, которую он не хотел выдавать; я вздохнула и шагнула на лёд, чувствуя, как сердце уходит в пятки.
Каждый шаг отдавался под ногами хрупким звоном, будто я шла не по озеру, а по струнам огромной арфы, и каждый звук грозил оборваться; я вспомнила, как в детстве каталась по заледеневшему двору и падала, разбивая коленки, и тогда казалось, что это самая страшная боль, но сейчас я понимала: настоящая боль не в ссадинах, а в страхе упасть туда, где уже не подняться; он шёл за мной и сказал: «Не смотри вниз, просто иди», – и я рассмеялась: «Откуда у тебя в голове такие банальные советы? Читал брошюрку «Как мотивировать новичков»?», – он хмыкнул: «Нет, я просто знаю, что боишься сама себя больше, чем льда».
Посередине озера я остановилась, потому что лёд под ногами треснул тонкой сеткой, и сердце ухнуло, как лифт в старом доме, и я едва не вскрикнула; он догнал меня и сказал: «Дальше будет хуже», – и я вскинулась: «Ты хоть раз в жизни умеешь подбодрить?», – он ухмыльнулся: «Это и есть подбадривание – честность», – и я закатила глаза так, что едва не потеряла равновесие; я сказала: «Знаешь, в следующий раз выбирай более оптимистичную подачу», – он ответил: «А ты попробуй перестать ждать, что мир будет тебе что-то должен», – и эта фраза задела глубже, чем я хотела показать.
Мы дошли до середины, и я остановилась, чувствуя, что колени дрожат, и сказала: «Чудесно, теперь я умру на самом красивом катке, который видела», – он усмехнулся: «Только не забудь, что смерть от страха не засчитается», – и я фыркнула: «Тогда ты первый в очереди», – он рассмеялся, и в этом смехе было что-то лёгкое, почти радостное, и я вдруг поняла, что его смех согревает сильнее, чем огонь; я шагнула дальше, и лёд снова застонал, но в груди уже было меньше паники, потому что рядом был он, и его сарказм оказался странным якорем, удерживающим меня от безумия.
Я вспомнила, как когда-то в Москве боялась даже пойти на новое место работы, потому что думала, что провалюсь, что не справлюсь, и каждый шаг туда был как по льду: опасный, дрожащий; сейчас я улыбнулась этой памяти и сказала: «Знаешь, твой мир слишком напоминает мой офис», – он поднял бровь: «Только с меньшим количеством идиотов», – я рассмеялась: «Не уверена, ты с лихвой заменяешь целый отдел», – и мы оба засмеялись, и это смех на льду оказался сильнее треска, и я почувствовала, что страх уходит, уступая место чему-то новому, похожему на уверенность.
Мы добрались до другого берега, и я рухнула на снег, раскинув руки, как ребёнок, и выдохнула: «Ну вот, теперь я официально герой ледовых гонок», – он усмехнулся: «Ты просто живая, и это уже больше, чем у большинства», – и его слова неожиданно согрели сильнее, чем солнце; я посмотрела на него и сказала: «Ты невыносим, но иногда твои слова звучат так, что хочется верить», – он улыбнулся уголком губ: «Не привыкай», – и я улыбнулась в ответ, потому что знала: именно в этих «не привыкай» скрывается его собственное признание, которое он боится назвать.
Мы пошли дальше вдоль берега, и снег искрился под ногами, и я чувствовала, что внутри что-то меняется, что каждый шаг делает меня не только ближе к цели, но и ближе к себе; я сказала: «Может быть, этот мир создан, чтобы мы перестали бояться льда под ногами», – он усмехнулся: «Или чтобы научились падать красиво», – я фыркнула: «Тогда я уже мастер», – он рассмеялся, и в его смехе было столько тепла, что мне стало стыдно за собственные мысли, потому что я ловила себя на том, что хочу слышать этот смех снова и снова.
Впереди показалась хижина, маленькая и покосившаяся, но с дымом из трубы, и я ахнула: «Неужели здесь кто-то живой?», – он ответил: «Не надейся, это скорее игра мира, чем гостеприимство», – я закатила глаза: «Ну хоть иллюзия уюта», – и мы зашли внутрь, и там действительно было тепло, пахло дымом и сухими травами, и я вдруг вспомнила, как в детстве бабушка сушила мяту, и этот запах ударил так сильно, что в глазах защипало; я села на лавку и сказала: «Знаешь, иногда даже иллюзия спасает», – он кивнул, и в его взгляде мелькнула тень понимания.
Мы развели огонь, и пламя заплясало в камине, и я смотрела на него, чувствуя, что в груди тоже загорается что-то похожее, и это было страшно, потому что я понимала – это не просто тепло от костра; он сел рядом, и наши плечи почти коснулись, и я почувствовала, как сердце ударило слишком быстро, и кольцо на пальце ожгло жаром, будто подтверждая то, чего я боялась признать; я отвернулась, чтобы спрятать румянец, и сказала: «Ты всё равно невыносим», – он усмехнулся: «Но рядом со мной ты смеёшься чаще», – и я знала, что он прав.
Мы сидели в хижине, и огонь освещал его лицо, и я вдруг увидела в нём не только насмешку, но и усталость, и скрытую боль, и от этого стало страшнее, потому что я поняла – он тоже ломался, просто лучше умел прятать трещины; я хотела сказать что-то тёплое, но язык не повернулся, и я лишь протянула руку ближе к огню, и наши пальцы едва не коснулись, и я отдёрнула руку, потому что знала: ещё рано, но уже невозможно отрицать, что тянет.
Когда мы вышли из хижины, ночь опустилась на мир, и над озером сияли звёзды, отражаясь в треснувшем льду, и я подумала, что, может быть, именно так и выглядит правда – красивая и хрупкая, готовая сломаться в любой момент, но всё равно сияющая; я сказала: «Знаешь, шаги по льду иногда приводят к теплу», – он усмехнулся: «Главное, чтобы он не растаял», – и мы пошли дальше, и впервые за долгое время я чувствовала: холод уже не враг, а союзник, потому что он научил меня слышать собственное сердце.
И когда его смех снова эхом отозвался в пустоте, я знала: этот смех стал для меня крепче любых мостов, потому что именно он удерживал меня на поверхности, даже когда под ногами трещал лёд.
Глава 18. Там, где начинается трещина
Дорога вела нас всё выше, и я чувствовала, что каждый шаг даётся тяжелее, будто сама гора проверяла нас на выносливость, и снег становился плотнее, сбиваясь в комья под ногами, а ветер выл так, что казалось, он шепчет на ухо самые нелепые и одновременно пугающие слова; я усмехнулась и сказала: «Ну и сауна у вас тут наоборот: вместо жара – минус бесконечность, вместо веников – ветер», – он хмыкнул: «Жаловаться бесполезно, этот мир не возвращает билеты», – и я фыркнула, потому что знала: даже если бы вернуть было возможно, я бы не ушла, ведь кольцо словно приросло к пальцу, и вместе с ним и дорога стала моей частью.
Мы подошли к каменному уступу, и он остановился, разглядывая трещину в скале, которая уходила в темноту, словно кто-то ножом рассёк сердце горы; я замерла и сказала: «Не нравится мне эта красота», – он усмехнулся: «Ты вообще редко чем довольна», – я прищурилась: «Тебя исключая, хотя и тут спорный момент», – и он рассмеялся так, что эхо прокатилось по скале, и в этом смехе было что-то бодрящее, почти вызывающее, как будто он хотел показать самому миру, что тот не сможет нас задавить; я почувствовала, как сердце ударило быстрее, потому что смех стал звучать теплее, чем ветер.
Внутри трещины воздух был плотнее, пахнул сыростью и чем-то металлическим, и у меня сразу возникло чувство, будто я вошла в старый подвал, где когда-то играла ребёнком, и боялась шорохов в углах; я шагнула вперёд и сказала: «Прекрасно, у меня флешбеки из детства», – он усмехнулся: «Значит, у тебя был хотя бы подвал, а не пустота», – я посмотрела на него и фыркнула: «Ты опять хочешь выиграть в конкурсе у кого хуже?», – он усмехнулся: «Я всегда побеждаю», – и мы оба рассмеялись, и смех помог не слушать собственные шаги, отдававшиеся гулом в тишине.
Мы шли всё глубже, и стены начинали светиться мягким серым светом, в котором угадывались очертания фигур, будто сама скала пыталась запомнить тех, кто проходил здесь до нас; я остановилась у одной из таких фигур и провела рукой по камню, и мне показалось, что я чувствую дрожь, как пульс, и сердце сжалось, потому что я вспомнила, как в Москве держала руку на груди от бессилия, когда казалось, что жить дальше нет смысла, и именно это ощущение сейчас вернулось; он заметил мой взгляд и сказал: «Не задерживайся, иначе станешь частью этой стены», – и я вздрогнула, отдёрнув руку, и пошла дальше, думая, что, может быть, и правда вся моя жизнь – это попытка не застыть.
Трещина вывела нас в зал, где пол был покрыт льдом, и в его толще светились красные линии, словно под кожей мира горели жилы; я замерла и сказала: «Выглядит как система отопления, только слегка вышедшая из-под контроля», – он усмехнулся: «Это и есть сердце горы, если треснет – весь мир развалится», – я фыркнула: «Отлично, значит, мы прямо в эпицентре мировой катастрофы», – он ухмыльнулся: «Привыкай, ты сама сюда пришла», – и я закатила глаза, хотя сердце колотилось так, что каждое слово отдавало эхом в груди, и я чувствовала: этот зал хранит больше тайн, чем он готов рассказать.
Мы подошли ближе к центру, и лёд под ногами застонал, будто предупреждая, и я замерла, чувствуя, как ноги дрожат, и сказала: «Ты уверен, что это хорошая идея?», – он рассмеялся: «Здесь вообще нет хороших идей, есть только те, что оставляют тебя живой», – и я скривилась: «Ну спасибо, утешил, прямо как психолог за три тысячи в час», – он хмыкнул: «Я дороже стою», – и я не удержалась от смеха, потому что даже здесь, над хрупкой трещиной, его сарказм звучал как защита, и я поняла: без него я бы уже рухнула, не дожидаясь, пока лёд сделает своё дело.
Вдруг лёд треснул громче, и я вскрикнула, хватая его за руку, и он остановился, сжимая мои пальцы крепко, и я почувствовала тепло, такое неожиданное, что дыхание сбилось; я хотела отдёрнуть руку, но не смогла, потому что этот хват был единственным настоящим в холоде, и кольцо на пальце зажглось жаром, будто поддерживало связь; он посмотрел на меня и сказал тихо: «Теперь понимаешь, что значит держаться?», – я кивнула, не находя слов, потому что сердце билось слишком громко, и впервые я не хотела спорить, потому что знала: он прав.
Мы дошли до другого края зала, и лёд успокоился, и я выдохнула так, будто держала дыхание весь путь, и села прямо на холодный камень, не заботясь о том, что он обжигает; я сказала: «Ты невыносим, но иногда рядом с тобой можно не бояться», – он усмехнулся: «Не слишком ли часто ты повторяешься?», – я улыбнулась: «Значит, это правда», – и он рассмеялся, и этот смех стал эхом, которое согревало лучше любого огня; я поймала себя на том, что жду этого смеха всё чаще, и от этой мысли стало страшно, потому что я знала: это начало того, что я пока не готова назвать.
Мы вышли из трещины, и снова оказались на снегу, и воздух показался свежим, как после грозы, и я вдохнула полной грудью, словно впервые за долгое время; он посмотрел на меня и сказал: «Ты прошла», – я усмехнулась: «А я думала, мы просто гуляем», – он хмыкнул: «Здесь прогулки всегда экзамен», – и я рассмеялась, потому что в его словах была правда, и в этой правде было странное тепло, которое я не хотела отпускать; я подумала, что, может быть, именно так и выглядит дорога – шаги между трещинами, где ты держишься не за камни, а за руку рядом.
Мы спустились к низине, и там нас встретил лес, чёрный и тихий, но в его тишине я чувствовала жизнь, и сердце билось спокойнее, потому что я знала: впереди будут новые страхи, новые трещины, но теперь я уже не была одна; я вспомнила все вечера, когда возвращалась домой и чувствовала, что стены квартиры сжимают меня, и сейчас это чувство исчезло, потому что рядом был он, и даже если он прятался за сарказмом, его шаги рядом были теплее любого признания.
И когда мы остановились у первой ели, и снег осыпался нам на плечи, я поймала себя на том, что впервые за долгое время хочу, чтобы дорога не заканчивалась, потому что именно здесь, среди трещин и холода, я начала находить то, чего так долго не хватало: тепло, которое не зависит от костра, и смех, который держит на ногах даже тогда, когда весь мир грозит провалиться под тобой.
Глава 19. Лес, который слушает
Лес встретил шорохом ветвей, и этот звук походил на шепот чужих разговоров, подслушанных за стенкой, когда не различаешь слов, но чувствуешь интонацию; дыхание облаками ложилось в холодный воздух, и каждый шаг по снегу отзывался гулко, словно сами деревья считали шаги и складывали их в невидимый счёт. Тёмные стволы стояли рядами, и казалось, что это не деревья, а стражи, застывшие в вечной готовности, и от этой мысли внутри пробежала дрожь, потому что вдруг вспомнились школьные линейки, где учителя смотрели одинаково равнодушно, но всё равно заставляли чувствовать вину за чужие проступки.
Он шёл чуть впереди, и его силуэт двигался так уверенно, что казалось, лес открывает перед ним дорогу сам, и меня раздражала эта уверенность, потому что она делала его похожим на человека, который знает ответы на вопросы, которые другие боятся задать; я бросила ему в спину: «Ты всегда любишь изображать проводника?», – он усмехнулся: «Нет, просто умею идти, в отличие от тех, кто вечно оглядывается», – и я закатила глаза, хотя внутри согласилась, потому что в моей жизни всегда было больше сомнений, чем шагов.
Дорога вела глубже, и снег под ногами становился мягче, утягивал, словно хотел оставить навсегда, и это чувство напомнило московские вечера, когда диван втягивал меня так же вязко, и я не могла подняться, чтобы выйти на улицу или позвонить кому-то, и это бездействие превращало меня в камень; сейчас каждое движение казалось сопротивлением привычному, и я усмехнулась, потому что даже в этом мёртвом лесу повторялся сценарий моей жизни – борьба не с ветром, а с самой собой.
Тишина была такой плотной, что любое слово казалось слишком громким, и я рискнула: «Если этот лес слушает, пусть хоть он услышит, что я устала», – он оглянулся, и в его взгляде блеснула насмешка: «Лесу всё равно, он слышал признания и похуже», – я фыркнула: «Ты, наверное, и с деревьями споришь?», – он усмехнулся: «Они отвечают чаще, чем люди», – и я рассмеялась, потому что в этой фразе было больше правды, чем хотелось.
Вдруг впереди показался просвет, и между стволами открылась поляна, усыпанная льдистыми цветами, их лепестки светились голубым сиянием, словно в каждом пряталась капля замёрзшей звезды; я замерла и сказала: «Красота в стиле «посмотри и не трогай»», – он усмехнулся: «Здесь так со всем», – и я шагнула ближе, чувствуя, как кольцо на пальце отозвалось теплом, будто узнавая родное; в груди дрогнуло, потому что я вспомнила, как в детстве собирала полевые ромашки и верила, что они держат в себе счастье, и сейчас это воспоминание вспыхнуло так ярко, что я едва не протянула руку к ледяным лепесткам.
Он остановил мой жест взглядом и сказал: «Коснёшься – они поглотят тепло и заберут его навсегда», – я улыбнулась: «Как люди, которые любят слишком жадно», – он усмехнулся: «Наконец-то ты начинаешь понимать», – и я закатила глаза: «Не приписывай себе мою философию», – он рассмеялся, и его смех эхом разлетелся по поляне, и мне стало теплее, хотя вокруг сиял только холод.
Мы обошли поляну, и деревья сомкнулись плотнее, и стало темнее, и в этом мраке его шаги слышались ближе, чем обычно, и сердце билось быстрее, потому что я чувствовала – не расстояние держит рядом, а что-то другое, большее; я сказала: «Если лес и правда слушает, он наверняка надо мной смеётся», – он ответил: «Значит, ты впервые ему интересна», – и я рассмеялась, хотя внутри дрожь осталась, и эта дрожь была не от страха.
Вдоль дороги показались статуи, каменные фигуры людей с поднятыми руками, будто они пытались остановить невидимую бурю, и лица их были искажены не болью, а отчаянием; я сжала кулаки и прошептала: «Они ведь тоже смеялись когда-то», – он кивнул и сказал: «Смех не всегда спасает», – и я ответила: «Но без него всё становится камнем ещё быстрее», – и он промолчал, и это молчание оказалось согласием, которое грело сильнее слов.
Дальше лес стал тише, как будто прислушивался к каждому нашему шагу, и я чувствовала, что он не враг, а скорее зеркало, в котором отражается то, что мы не говорим; я вспомнила все ужины в одиночестве, когда хотелось хотя бы одного живого слова, и поняла, что сейчас мне не нужно много – достаточно того, что рядом есть голос, который язвит и смеётся, и именно это держит меня на ногах.
Он заметил мой взгляд и сказал: «Ты снова думаешь слишком громко», – я усмехнулась: «А ты снова делаешь вид, что слышишь», – он ухмыльнулся: «Я слышу то, что хочешь скрыть», – и я отвернулась, потому что сердце предательски дрогнуло, и кольцо нагрелось, словно подтверждая его правоту; я ускорила шаг, но знала: убежать невозможно, и эта невозможность вдруг перестала пугать.
Поляна впереди была тёмной, но в центре её горел костёр, и его пламя светилось мягче, чем обычно, будто само не хотело обжечь; я подошла ближе и сказала: «Если это ловушка, то хотя бы уютная», – он усмехнулся: «Иногда мир даёт отдых, не только боль», – и я опустилась у костра, почувствовав, как тепло разливается по рукам, и впервые позволила себе молчать, не думая о том, чем заполнить тишину.