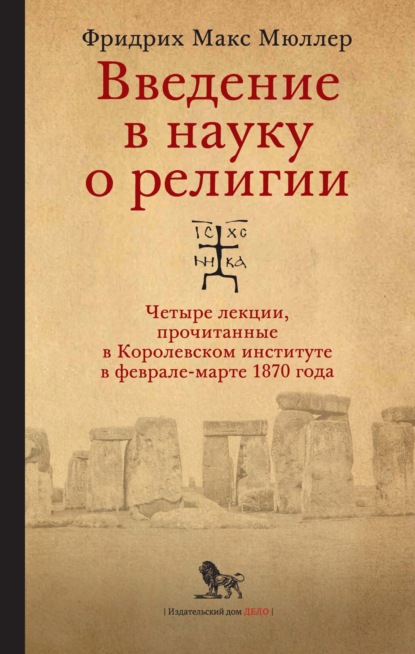В третьей, заключительной книге трилогии "ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН" , мир постепенно возвращает дыхание, но тишина в нём стала другой — в ней слышны следы прошлого, голоса тех, кого мы потеряли, и смех, который ещё не успел исчезнуть. Лисса, ведьма и хозяйка таверны «Последний дракон», учится жить в мире, где чудо стало не событием, а частью быта: в хлебе, в тёплом ветре, в дыхании дракона, скрытого в легендах. Империя меняется, старые страхи уступают место вниманию и памяти, а маленькие вещи снова обретают силу.
Но прошлое возвращается не для того, чтобы ранить, а чтобы завершить начатое. Древние истории проявляются в дождевых отражениях, вещи шепчут забытые имена, и каждое движение воздуха приносит новое понимание. Лиссе предстоит сделать выбор, который определит не судьбу мира, а его ритм.
«Память ветра» — тихий, тёплый финал трилогии о том, как чудо становится домом, а свет остаётся даже там, где наступает тишина.
- Книги
- Аудиокниги
- Вебтуны
- Жанры
- Cаморазвитие / личностный рост
- Зарубежная психология
- Попаданцы
- Боевая фантастика
- Современные детективы
- Любовное фэнтези
- Зарубежные детективы
- Современные любовные романы
- Боевое фэнтези
- Триллеры
- Современная русская литература
- Зарубежная деловая литература
- Космическая фантастика
- Современная зарубежная литература
- Все жанры
- Бесплатные книги
- Блог
- Коллекции
- Серии
- Черновики
Вход В личный кабинетРегистрация