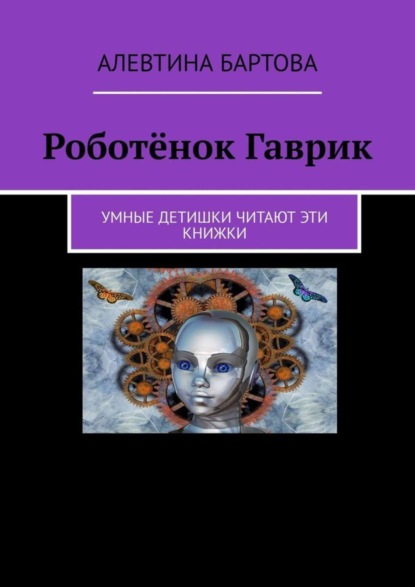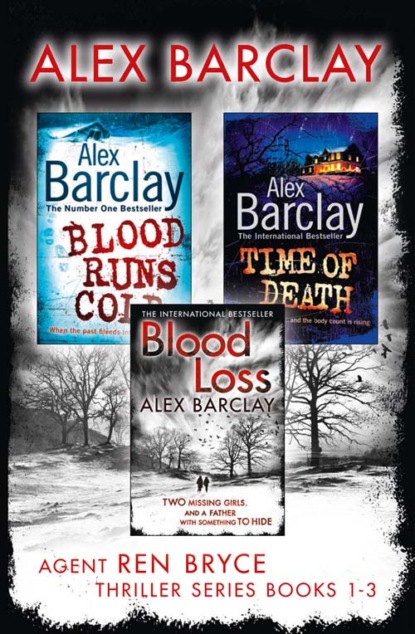- -
- 100%
- +
Лисса рассмеялась. Смеяться было приятно, почти физически. Смех как разминка для души, давно застывшей в одной позе. Мара присела у очага, глядя на Солу. «Она сегодня нервная», – заметила ведьма. – «Обида на ветер?» – «Он дунул, она вспыхнула». – «Классика».
Пока они говорили, Сола всё тише горела, будто прислушивалась. Ветер из вежливости не вмешивался. И вдруг из пламени раздался робкий вздох – как шаг к примирению. «Я не хотела гаснуть», – сказала свеча. – «Я просто не знаю, как быть, если меня не трогают». Лисса подняла глаза на окно, где ветер лениво шевелил штору. «Она хочет, чтобы её замечали», – сказала она. Ветер тихо ответил: «А я дую, чтобы её не задуло».
Мара улыбнулась. «Как в браке». Ведьма рассмеялась: «Только без развода». Они посидели втроём – человек, ведьма и пламя – и говорили о мелочах: о погоде, о хлебе, о чудесах, которые стареют вместе с людьми. В какой-то момент Сола вспыхнула ровно, спокойно. Воздух наполнился тем самым золотым теплом, которое делает вечер похожим на прощение.
Когда Мара ушла, Лисса снова осталась с домом и ветром. Она погасила все свечи, кроме одной – той самой, обиженной. Пламя дрожало, но не гасло. Ветер осторожно касался его, словно боялся снова сделать больно. И Лисса подумала, что, может быть, именно это и есть суть чуда: не избежать боли, а научиться не разрушать, когда она случается.
Она достала книгу – ту, в которой записывала странные случаи, что происходили в таверне. На новой странице написала: «Свеча обиделась на ветер, потому что забыла, что движение – это форма заботы». Потом добавила: «А ветер не дует из вредности. Он просто ищет, кто напомнит ему, зачем нужен свет».
Дом кивнул балками. Ветер рассмеялся тихо, не задев пламени. Сола ответила лёгким трепетом, и от этого смеха даже стены стали мягче. Вечер окончательно лёг на город, как старое покрывало, где каждая заплатка – воспоминание о другом тепле.
Лисса подошла к окну. Вдалеке над крышами пробивалась луна, круглая и немного удивлённая, будто не ожидала, что её снова позвали. Ветер толкнул окно, в комнату влетел шёпот: «Спасибо». Ведьма улыбнулась. «Не мне. Ей». – «И тебе тоже». – «За что?» – «За то, что не прогнала».
Она вернулась к столу, сняла крышку с миски, где остался остывший чай. На поверхности плавали крошки света. Она поднесла кружку к губам и почувствовала, как чай пахнет дымом, яблоками и чуть-чуть надеждой. Шмель, проснувшийся от запаха, посмотрел на неё и сказал: «Если свечи начнут мириться с ветром, кто же тогда будет устраивать драмы?» – «Ты», – ответила Лисса.
Кот довольно зевнул. В комнате снова стало тихо. Сола ровно светила, ветер дышал мягко, как человек, наконец уснувший после долгих раздумий. И в этой тишине Лисса впервые за долгое время почувствовала не одиночество, а присутствие – простое, как дыхание, настоящее, как хлеб, только что вынутый из печи.
Ночь потекла, как тёплый воск, медленно и без звука, оставляя после себя отблески на стенах. Сола уже не горела – она дышала, мягко, словно сердцебиение дома. Ветер не дул – он слушал. В их молчании было то редкое равновесие, которое случается только после бурь, когда слова наконец теряют значение и остаётся одно дыхание на двоих. Лисса сидела у стола, разбирая травы. Пахло чабрецом, пылью и дождём. Каждое движение было простым, почти ритуальным – но без заклинаний, без мантр, только она, нож и зелёные жилки растений, шуршащие, как тихий смех.
Дом знал, что нельзя её тревожить. Когда ведьма работает с руками, она лечит мысли. Шмель тоже это понимал – он спал у порога, подёргивая лапами, будто бежал во сне куда-то, где всё ещё светит солнце. На улице ветер гонял редкие листья, звенел вывеской таверны и иногда осторожно заглядывал в щели, проверяя, не прогневал ли снова Солу. Та лишь чуть приподнимала свой огненный язык и смеялась – коротко, как вздох.
Лисса отложила нож, посмотрела на свои ладони. В линиях пальцев, где когда-то прятались искры, теперь осел свет – тихий, как от свечи. Её магия давно перестала быть волей: она стала привычкой, как дыхание. И в этом было освобождение. Она больше не пыталась что-то доказать миру – только подогревала его вечерами, как старый суп, который становится вкуснее на второй день.
Она вспомнила времена, когда всё вокруг кипело чудесами. Люди требовали спасения, просили знаков, хотели, чтобы небо подтверждало их существование. Тогда Лисса колдовала – всерьёз, с жестами, с огнём, с громкими словами. Но чудеса, как люди, быстро привыкают быть должными, и благодарность исчезает первой. С тех пор она научилась тишине. Магия без слов крепче, чем любая буря.
Ветер заглянул снова. Его дыхание колыхнуло травы, одна веточка упала в миску. «Не мешай», – сказала она. – «Я не мешаю, я наблюдаю». – «Наблюдение – тоже вмешательство». – «Значит, мы все вмешаны в жизнь». Лисса улыбнулась. Даже спорить с ним стало приятно – без злости, как с другом, который знает, когда замолчать.
Сола потрескивала, и её пламя складывалось в фигуры. В них можно было увидеть всё, что угодно: птицу, женщину, кошку, воспоминание. Ведьма смотрела, как эти тени пляшут, и вдруг почувствовала – не тоску, нет, а нежность. К тем временам, когда всё казалось сложнее. Чудеса, боль, любовь – всё тогда было резким, требовательным, громким. А теперь всё стало тихим, и именно в этом тишина казалась святой.
Она встала, прошла к двери. Доски под ногами вздыхали, как старые друзья. На улице воздух пах хлебом – кто-то неподалёку пёк ночью, как делают те, у кого совесть не отпускает днём. Лисса вдохнула и почувствовала, как запах света и теста смешался с дождём. Всё это – одно и то же дыхание мира.
На крыльце лежала старая свеча – недогоревшая, со следами пальцев. Та, что когда-то гасла на середине желания. Она взяла её, провела по воску пальцем – и услышала тихое: «Ты вернулась». Огонь ещё жил в ней, глубоко, как память. Она поставила свечу рядом с Солой. Та зажглась сама собой, и их пламя соединилось – одно, но разное, как два голоса в песне.
– Теперь мир снова полный, – сказал ветер. – Нет, – ответила ведьма. – Он просто снова дышит.
Она вернулась за стол. Огонь отражался в стекле банки, в каплях на окне, в её глазах. Всё вокруг было теплом, собранным из разрозненных кусков жизни. В этих отблесках – лица, руки, шаги, смех. Даже утраты здесь не выглядели потерянными – они стали частью света.
Шмель проснулся, зевнул, обошёл вокруг пламени, словно проверяя баланс. «Ты знаешь, – сказал он, – свечи и ветер всё время ругаются, потому что слишком похожи. Одни горят, другие хотят быть огнём». – «Ты мудр сегодня». – «Я просто голоден». Лисса рассмеялась, взяла хлеб и бросила ему кусочек. – «На, философ, укрепи веру».
Пламя дрогнуло, и в его языках мелькнули образы – как кадры сна: лес, в котором луна смеётся, ручей, который говорит с тенями, старый дракон, что прячет голову под крыло, потому что устал быть мифом. Лисса поняла, что мир показывает ей сны, которые он не успевает досмотреть.
Она закрыла глаза и позволила этим образам пройти сквозь себя.
Когда открыла – всё было как прежде. Только свеча горела чуть ярче, а ветер тихо мурлыкал в щели. Она взяла перо, раскрыла книгу и написала: «Сегодня я поняла, что огонь не обижается. Он просто хочет, чтобы его помнили». Потом добавила: «И ветер не разрушает. Он напоминает, что движение – форма благодарности».
Слова растекались по странице, превращаясь в рисунок. Дом слушал, стены тихо поскрипывали в такт. Её ладони пахли воском, а воздух – усталой любовью. Она улыбнулась.
Сола колыхнулась, словно подтверждая написанное. В её пламени отражался кот, который философствовал во сне, и ведьма, которая наконец-то перестала оправдываться перед чудесами. Снаружи ветер пошевелил вывеску таверны, и где-то вдалеке зазвучал смех – лёгкий, ничей, но от него стало тепло.
Когда Лисса легла спать, свеча продолжала гореть. Не как сторож, а как свидетель. Её свет был мягким, как дыхание мира, и Лисса подумала – может быть, всё волшебство в том, чтобы позволить даже обидам светить, пока не перестанут быть тьмой. Ветер на прощание прошептал ей: «Спи спокойно, ведьма. Я посторожу огонь».
И Сола, не гаснув, шепнула в ответ: «А я – тепло».
Дом уснул вместе с ними.
И только свечи знали, что с этого вечера воздух больше никогда не будет прежним.
Глава 9. Пропавшие сапоги и теория совпадений
Утро началось с отсутствия. Сначала Лисса не заметила пропажи – сапоги могли стоять где угодно: под лестницей, у котла, даже в кладовке среди мешков с мукой, где они любили прятаться от разговоров о ремонте. Но когда она спустилась вниз и почувствовала холод половиц, стало ясно – пропажа приобрела философский оттенок. Сапоги исчезли не из-за беспорядка, а по внутренней логике мира, который любит проверять терпение ведьм в самый неподходящий момент.
Шмель наблюдал за ней с комода, уткнувшись мордой в хвост. «Ты ищешь не там», – сказал он, не открывая глаз. – «А где же?» – «Вопрос не “где”, а “почему”. Сапоги редко уходят просто так. Возможно, у них кризис предназначения». Лисса закатила глаза. – «У обуви?» – «Ты смеёшься, а они всю жизнь топчут землю. Кто бы выдержал».
Она вздохнула, поставила чайник, глядя, как пар медленно рисует на окне кривую карту: реки, холмы, непредсказуемые маршруты. Мир, казалось, намекал: не ищи прямых дорог. На улице ветер уже шевелил вывеску таверны, стучал ставнями, как нетерпеливый гость. В воздухе пахло солью и пылью – значит, из гавани снова кто-то возвращался домой.
Пока закипал чай, Лисса обошла комнату. Нигде ни следа сапог – ни отпечатка, ни намёка. Она даже заглянула в печь, вспоминая случай с ведьмой из Южных болот, чьи туфли решили стать углём ради искусства самопожертвования. Нет, её пара слишком ленива для таких жестов. Возможно, сбежала по более практичной причине.
На столе лежала записка – короткая, написанная явно не рукой человека: «Нам нужно понять, кто мы, когда не ходим». Подписи не было, но между буквами осел запах кожи и сажи. Лисса рассмеялась. Мир всё ещё умел удивлять, и, кажется, даже обувь наконец научилась формулировать сомнения.
Она открыла дверь – на пороге пустота. Только следы ветра, обводящие её ступни, словно напоминание, что путь всё равно существует, даже когда идти не в чем. Лисса зачерпнула рукой воздух, попробовала на вкус – немного горчит, значит, перемены не за горами.
Шмель подошёл, сел рядом, прищурился. «Ты выглядишь так, будто собираешься философствовать». – «Просто думаю, что, может быть, исчезновение – тоже форма заботы. Иногда вещи уходят, чтобы мы заметили их присутствие». – «А может, они просто устали от твоих приключений». – «Это тоже забота – о себе».
Она накинула старый плащ, который пах пеплом и грушевым элем, вышла во двор. Солнце пробивалось сквозь облака ленивыми лоскутами света, и каждая тень казалась обещанием. Земля после дождя дышала. Сапог нигде не было. Только у колодца лежала старая монета, которую она точно не теряла. Подняла её – холодная, но пульсирующая. На ней выбито: «Совпадения не совпадают».
Лисса улыбнулась. Мир снова решил говорить намёками. Она подошла к воротам, где висела паутина, блестящая каплями, словно бисер на старом платье. В каждой капле отражалась таверна – двенадцать маленьких домов внутри дома. Она вспомнила: когда-то одна из учениц спросила её, верит ли она в случайности. Лисса тогда ответила: «Случайность – это просто шутка, которую рассказывает судьба тем, кто слишком серьёзен».
Похоже, судьба снова шутила.
Ветер принёс запах моря – резкий, солоноватый, со вкусом обещаний. В нём был голос. Не человеческий, скорее старый, как древесина причала. Он сказал: «Сапоги пошли к воде». Ведьма кивнула. Конечно. В Эвервине всё живое рано или поздно тянуло к берегу.
Путь к заливу шёл мимо старых лавок, где торговцы дремали под навесами, и детей, которые гоняли обрывки бумаги, уверяя, что это птицы с короткой памятью. В каждом окне отражался ветер, в каждом запахе было что-то домашнее. Мир жил, как кот, который не признаёт хозяев, но всё равно возвращается.
Когда она дошла до пирса, то увидела их. Сапоги стояли на самом краю, аккуратно, как два солдата перед прыжком в вечность. Между ними лежала белая ракушка. Ветер гладил их, словно прощаясь. Лисса подошла ближе. – «Решили уйти в море?» – спросила она. Сапоги молчали, но вода под ними дрогнула, будто отвечая.
Она присела, провела пальцем по коже – тёплая, живая. «Иногда дорога требует, чтобы кто-то начал первым», – сказала она. – «Но ведь и возвращаться кто-то должен». Пауза. Лёгкое шипение пены. Один сапог качнулся, словно кивнул. И тогда Лисса сняла плащ, села на край пирса и подождала, пока солнце окончательно выйдет из-за облаков.
Мир будто замер. Даже чайки перестали кричать. Она поняла, что всё это – не случайность. Это урок о свободе. Всё, что имеет форму, мечтает о движении. Даже обувь хочет хоть раз почувствовать, что идёт сама.
Ветер взъерошил ей волосы, донёс запах лаванды и хлеба. Сапоги медленно повернулись носами к дому. «Поняли?» – спросила Лисса. Один слегка шлёпнул подошвой – значит, да. Второй промолчал – значит, стесняется. Она рассмеялась, поднялась, и, пока шла обратно, слышала за собой их шаги – тихие, но уверенные.
Когда они вошли в таверну, Сола вспыхнула радостно, а дом вздохнул, словно наконец поставил на место пропавшую часть пазла. Шмель встретил их с видом учёного, которому наконец подтвердили теорию. «Я говорил, что они вернутся». – «Да, но не говорил, почему». – «Потому что мне не платят за объяснения».
Лисса сняла сапоги, поставила у двери. «Спасибо, что вернулись». Они ничего не ответили, но в коже что-то мягко пульсировало – как память, которую не нужно озвучивать. Она подошла к столу, развернула записку, прочла ещё раз: “Нам нужно понять, кто мы, когда не ходим.” – и приписала внизу: “Мы – те, кто всё равно возвращается.”
Снаружи снова поднялся ветер, но теперь он не мешал, а подыгрывал огню. Сола танцевала, разбрасывая на стены золотые блики, и Лисса вдруг почувствовала – всё в этом мире связано тоньше, чем кажется. Даже исчезновение – форма диалога. Даже сапоги – метафора того, что уходит лишь для того, чтобы напомнить о пути.
Она взяла хлеб, отломила кусочек, крошки упали на пол, и вдруг ей показалось, что из них вырастет тропинка. Может быть, и правда вырастет. Ведь в Эвервине всё, во что веришь с теплом, рано или поздно оживает.
Вечером, когда огонь в очаге стал ленивым, а воздух наполнился запахом яблок и дождя, Лисса поняла, что история с сапогами ещё не закончилась. Вещи редко возвращаются просто так – у них свои законы равновесия, и если они пришли назад, значит, что-то ещё должно уйти. Дом знал это, поэтому поскрипывал тревожно, как старик, которому снится прошлое. Шмель лежал на спинке кресла и наблюдал за ведьмой с подозрением. «Ты снова думаешь о философии?» – спросил он. – «Я думаю о благодарности», – ответила Лисса. – «Разница небольшая», – зевнул кот.
Она сидела на полу, облокотившись о стену, сапоги стояли напротив – чистые, будто их вылизал дождь. Они блестели, как будто в них поселилось отражение луны, и между ними лежала та же ракушка, теперь сухая и немного треснувшая. Лисса не спешила трогать – пусть мир сам расскажет, что задумал. Огонь шевелился в камине, ветер гулял под крышей, тихо насвистывая песню без слов. Всё вокруг звучало, как разговор о смысле, где каждая пауза важнее любого ответа.
Она достала старую книгу – не свою ведьмовскую, а ту, что принадлежала ещё её наставнице. Переплёт пах солью и лавровым листом. На обложке было написано: «Теория совпадений. Издание второе, исправленное ветром». Лисса перелистнула несколько страниц – текст жил, шевелился, буквы то появлялись, то исчезали, как будто книга спорила сама с собой. «Совпадение – это не ошибка в ткани мира. Это её способ смеяться». Она улыбнулась. Мир опять оказался умнее, чем она готова признать.
Шмель, чувствуя, что момент стал чересчур серьёзным, потянулся и уронил на пол ложку. Звук оказался удивительно музыкальным, будто кто-то стукнул по невидимой струне. Сола мигнула в ответ. Ветер за окном подхватил ритм. Лисса посмотрела на всё это и вдруг подумала, что, может, и вправду жизнь – оркестр без дирижёра, где каждая случайность – нота. Тогда исчезновение сапог было просто мелодией, сыгранной не по расписанию.
Она закрыла книгу и подошла к двери. За порогом ночь была мокрой, но не холодной. Луна отражалась в лужах, как старое серебро, и где-то далеко слышался звон колокольчиков – то ли стадо, то ли призраки праздника, который ещё не наступил. Ведьма пошла по двору, чувствуя, как под босыми ногами земля дышит. Каждый шаг отзывался теплом, будто мир сам благодарил её за то, что она не боится касаться.
На старом заборе сидел воробей, сонный и мохнатый. Когда Лисса подошла, он вдруг сказал: «Твои сапоги были на перекрёстке, где дорога спорит с ветром». Она не удивилась – в Эвервине даже воробьи иногда становились свидетелями философии. «И чем закончился спор?» – спросила она. – «Тем, что никто не выиграл. Но дорога всё равно осталась».
Возвращаясь, она заметила, что в окне таверны теперь горит не одно пламя, а два – Сола и ещё одна свеча, та, что стояла у порога, теперь загорелась сама. Огонь всегда знает, когда настало время разговоров. Она вошла, сняла плащ, поставила рядом сапоги, чтобы обсушились. И вдруг услышала тихий голос, будто изнутри стены: «Мы возвращаемся не туда, где нас ждут, а туда, где нас понимают». Она посмотрела на огонь. Тот не ответил – и этим всё сказал.
Шмель выбрал момент, чтобы напомнить о практическом. «Если уж твои вещи начали философствовать, может, стоит с ними подписать договор? С пунктом о тишине после заката». – «А зачем? Пусть говорят. Это ведь и есть жизнь – слушать, кто вокруг тебя оживает». – «И писать потом трактаты о благодарности». – «Иногда просто рецепт пирога». Кот фыркнул, но в глазах его мелькнуло довольство. Он любил, когда дом наполнялся разговорами – даже если участники были неодушевлёнными.
Огонь вдруг вспыхнул сильнее, и на стене проступила тень – огромная, мягкая, похожая на крыло. Лисса узнала этот силуэт: дракон из старой легенды, тот, что прятался в ветре и учил людей терять с достоинством. «Ты опять пришёл?» – спросила она. – «Я никогда не ухожу», – отвечало шевеление воздуха. – «Смотрю, ты всё ещё не перестала искать смысл в мелочах». – «А ты всё ещё не научился радоваться их отсутствию».
Они молчали. В комнате пахло воском, хлебом и какой-то тихой уверенностью. Мир казался собранным заново – не идеальным, но цельным. Даже сапоги будто слушали. Лисса подошла к ним, провела рукой по голенищу и сказала: «Вы свободны, если хотите. Но если останетесь, я обещаю не использовать вас для побегов».
Они не шевельнулись, но пламя Солы дрогнуло – знак согласия. Ветер погладил занавеску и вздохнул. И тогда Лисса записала в книге новую строчку: «Иногда вещи уходят не от нас, а к себе. Главное – не закрывать за ними дверь слишком плотно».
Позднее, когда чай остыл, а ночь легла тяжёлым одеялом на крыши, ведьма села у окна. Внизу улица тихо шуршала – кошка перебегала через мостовую, кто-то спешил с поздним пакетом хлеба, где-то играла флейта. Звуки складывались в странную симфонию быта, и Лисса вдруг почувствовала, что мир жив не из-за чудес, а из-за этих мелких совпадений. Они связывают, они учат смеяться, когда не до смеха, и слушать, когда нечего сказать.
Она посмотрела на сапоги. В их складках уже осел свет, а рядом лежала та самая ракушка. Вдруг в ней что-то щёлкнуло, и внутри зазвенел тихий смех – будто море вспоминало шутку, которую рассказал ему ветер. Лисса улыбнулась и шепнула: «Спасибо, что вернули дыхание».
Дом отозвался мягким треском. Шмель перевернулся на другой бок, пробормотав: «Если завтра исчезнет метла, я ни при чём». И мир снова стал целым – без громких заклинаний, без чудесных эффектов. Просто дом, свет, смех, тишина и пара сапог, которые однажды решили вспомнить, зачем им идти.
Глава 10. Легенда о драконе, который не хотел летать
Старый дракон жил неподалёку от Прибрежного леса, в расщелине между двух холмов, которые с годами обросли мхом и тишиной. Никто точно не помнил, откуда он появился – кто-то говорил, что его выкопали случайно при строительстве дороги, кто-то уверял, будто он вынырнул из ветра, устав быть прозрачным. Дракон был не зол и не добр, а просто стар – настолько, что перестал различать, где начинаются легенды и где кончается сон. Он не летал уже сто лет, и это считалось почти преступлением против традиции. Ведь драконы, как люди, должны иногда подниматься, чтобы помнить, зачем падали.
Лисса услышала о нём от торговца солью, который заходил в таверну с видом человека, уверенного, что новости – это тоже товар. Он говорил, будто дракон теперь собирает травы и печёт хлеб, потому что полёты больше не имеют смысла. «Представляешь?» – сказал он. – «Дракон, который боится высоты!» Лисса ответила, что, возможно, он не боится, а просто научился ценить землю. Но торговец рассмеялся, как все, кто считает, что чудеса обязаны быть громкими.
Ночью ведьма не могла уснуть. Ветер шептал истории, как старый библиотекарь, и в каждой из них слышалось одно и то же слово – усталость. Она знала, что это зов. В Эвервине совпадения всегда умели ходить кругами, пока не стучали в нужную дверь. Утром она собрала сумку: хлеб, соль, нож, немного сухих яблок и письмо, которое не писала никому. Шмель, как всегда, решил сопровождать, заявив, что философам положено быть свидетелями великих разочарований.
Дорога шла сквозь лес, пахла сыростью, грибами и первыми огнями осени. Земля под ногами пружинила, воздух был густ, словно суп, который мир варит для тех, кто умеет ждать. Ветер касался лица – не холодно, а просто напоминая, что движение возможно. На опушке Лисса заметила следы – огромные, с мягкими краями, будто их оставили не когти, а воспоминание о них.
Пещера оказалась не такой, как она представляла. Не тёмной, не грозной – просто просторной, уютной, с запахом печёных трав и дыма. У входа висели пучки шалфея, рядом стояла бочка с дождевой водой, а в углу – каменный очаг, в котором тлел уголь. На нём стоял чайник, изливающий пар в форме облаков. И всё это было настолько домашним, что Лисса даже почувствовала неловкость, словно пришла без приглашения.
– Я знал, что кто-то придёт, – раздался голос, глубокий и мягкий, как гул грозы вдалеке. – Только не думал, что ведьма. Обычно приходят с мечами.
– Я пришла с хлебом, – ответила Лисса. – И с вопросом.
– Все приходят с вопросами. Никто не приносит ответа.
Из тени выполз дракон. Его чешуя была не золотой и не чёрной – скорее, цвета дождя. Каждая пластинка поблёскивала, как мокрое стекло. В глазах не было огня, но в них отражалось всё небо. Он был огромен, но двигался с той осторожностью, с какой старики двигают слова, боясь, что каждое может оказаться последним.
– Ты действительно больше не летаешь? – спросила ведьма.
– Летают те, кто ещё ищет место, где можно приземлиться. Я своё нашёл.
– А если это место исчезнет?
– Тогда я исчезну вместе с ним. Всё честно.
Она села у очага, дракон осторожно опустился напротив. Воздух между ними густел, словно он сам прислушивался. Лисса почувствовала странное тепло – не магическое, а человеческое, из той категории, что рождается, когда два одиночества узнают друг друга.
– Люди говорят, что ты разочаровался в небе.
– Люди говорят многое. Когда перестаёшь соответствовать их ожиданиям, они называют это утратой. А я просто устал. Понимаешь, ведьма, летать – это не подвиг, это привычка. Самое трудное – перестать быть символом.
Лисса кивнула. Она знала, о чём он говорит. Когда-то её магия была шумной, как буря, и все ждали, что она спасёт мир. Теперь она спасала тесто от пересыхания и чай от горечи – и в этом было больше смысла.
Дракон смотрел на огонь.
– Знаешь, что самое странное? Люди думают, что крылья даны для высоты. Но на самом деле – для тени. Без них солнце сожгло бы нас всех.
Они молчали долго. Ветер время от времени приносил запах моря. Лисса подумала, что, может, он прилетает сюда специально, чтобы напоминать старику о прошлом. Потом спросила:
– А тебе не скучно здесь?
– Скука – это роскошь тех, кто не умеет слушать. Я слышу, как растёт мох, как трескается камень, как вода спорит с ветром. И всё это – мои полёты.
Она улыбнулась. В этих словах было что-то бесконечно правильное. Не героическое, но мудрое.
Дракон вдруг повернул голову.
– Ты принесла хлеб. Это значит, что ты всё ещё веришь в делимость чуда.