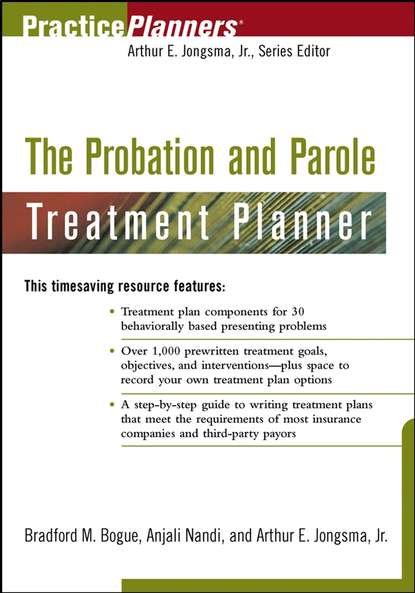- -
- 100%
- +
Дом заскрипел в ответ, будто приветствуя старого друга. Половицы под Лиссиной кроватью дрогнули, и ведьма проснулась, не открывая глаз. Она почувствовала – в воздухе что-то изменилось. Встала, босая, подошла к окну. Луна светила ярче, чем должна, и свет её был не холодным, а живым, как дыхание на стекле. Лисса посмотрела на хлеб и тихо улыбнулась: – Ну конечно, вспомнил.
Она протянула руки, взяла буханку, ощутила тяжесть, будто держала в ладонях не еду, а сердце мира. – Знаешь, – сказала она коту, – в каждой корке живёт солнце. Просто не все умеют дождаться, пока оно проснётся.
Шмель покосился. – Если ты сейчас начнёшь читать ему заклинания, я уеду к соседям.
– Не заклинания. Благодарность.
Она села у очага, положила хлеб на колени и начала говорить. Не магию – историю. Голос был тихим, будто она не произносила слова, а вспоминала их. Она рассказывала про первый огонь, что согрел землю, про зерно, упавшее на пепел и не умершее, про человека, который испёк хлеб и впервые понял, что жизнь можно делить. С каждым словом корка становилась мягче, свет изнутри теплее, а воздух вокруг гуще.
Дом прислушивался, как ребёнок к сказке. Ветер заглянул в трубу и тоже остался. Всё живое, что могло слышать, слышало. Даже река за городом чуть поднялась, чтобы лучше слушать.
Когда ведьма закончила, хлеб треснул – не от жара, а как скорлупа, из которой вылупляется утро. Изнутри поднялся пар, и в нём, словно в зеркале, показались лица – мельник с ладонями, усыпавшимися мукой, женщина с корзиной, ребёнок, который смеялся, обмакивая корку в мёд. Все они исчезли так же быстро, как появились, но ощущение осталось – будто дом на миг наполнился целым поколением голосов.
– Они вернулись, – сказала Лисса. – На вкус – как память.
Шмель зевнул, но его глаза были мягкими. – Ну, хоть не призраки.
Она отломила кусок и протянула коту. Тот понюхал, лизнул и удивлённо моргнул. – Сладко. И немного грустно.
– Это вкус памяти, – ответила она. – Она всегда чуть солоноватая.
Пламя в очаге колыхнулось, и Лиссе показалось, что в огне мелькнула фигура – силуэт из света, похожий на мужчину с крыльями мельницы за спиной. Он кивнул, словно благодарил. Ведьма опустила голову, чтобы не спугнуть это чудо.
– В мире стало легче дышать, – сказал дом своим деревянным шёпотом.
– Потому что он вспомнил, зачем дышит, – ответила она.
В это мгновение ветер вырвался наружу, распахнув ставни. Он закружил по комнате, подхватывая крошки, пыль, смех, остатки сна. На улице листья закружились вихрем, и у каждой травинки появилось ощущение причастности. Лисса вышла на крыльцо, держа в руках половину буханки. Мир пах хлебом. Даже море, обычно солёное и равнодушное, теперь шептало мягче.
– Пусть хватит всем, – сказала она и бросила кусок в воздух. Ветер подхватил его, разнёс по небу, и крупинки света осыпались на город, будто мелкие искры. Люди, ещё не проснувшиеся, перевернулись во сне и улыбнулись, сами не зная почему.
Шмель подошёл, сел рядом. – Ты опять кормишь облака.
– Они тоже голодны.
– А если дождь потом пойдёт из теста?
– Тогда будет пирожковый шторм.
Кот закатил глаза, но замурлыкал. В этом мурчании было всё – принятие, усталость, любовь и немного иронии.
Лисса смотрела на горизонт, где утро только рождалось. Мир был прежним – с камнями, травой, дымом из труб, но теперь в нём чувствовалось что-то новое. Тишина больше не казалась пустотой. Она стала пространством для дыхания.
– Знаешь, – сказала она тихо, – может, чудо – это просто память, которая нашла дорогу домой.
Шмель подумал и ответил: – Или кошка, которая не сбежала, хотя могла.
Они оба засмеялись, и смех этот впитался в воздух, как специя. Хлеб на подоконнике вновь чуть дрогнул, будто согласился, и дом улыбнулся всем телом – балками, камнем, стеклом. Он снова знал, что живёт не зря.
А когда солнце окончательно встало, Лисса закрыла ставни, прошептала короткое «спасибо» и пошла к печи. День начался, и где-то между первым вдохом и последней крошкой старый мир тихо сказал: «Я помню».
Глава 17. Шмель и тайна второго завтрака
Утро началось с тишины, подозрительно правильной, как перед проделкой. Лисса ещё не успела открыть глаза, а уже знала: в доме что-то задумали без неё. Пахло жареным тестом, мёдом и коварством. Воздух был настолько вкусный, что хотелось лизнуть его, как ложку, и в этом запахе отчётливо чувствовался Шмель – его фирменная смесь лености и амбиций. Ведьма приподнялась на локтях и увидела, что кот сидит на столе в окружении кухонных приборов, будто ведёт собрание по вопросам гастрономической магии.
– Что это, – спросила она, не вставая, – и почему мой половник в шоке?
– Это, – с достоинством ответил Шмель, – второе утро. Первое ты проспала, и я взял инициативу в лапы.
– Ты решил, что можешь готовить?
– Я не готовлю. Я творю.
На столе действительно стояла миска с тестом, подозрительно ровной консистенции. Ложка медленно вращалась в ней сама, будто под гипнозом, а рядом грелась сковорода, излучая терпкое ожидание. Лисса подошла, прищурилась. – Где ты взял дрожжи?
– Они пришли сами. Услышали, что я планирую великое.
Она хотела рассмеяться, но не смогла – в воздухе витала такая концентрация серьёзности, что даже печь чуть приподняла дверцу, чтобы лучше видеть. Шмель важно ткнул лапой в миску. – Это будет блюдо памяти. Я решил, что раз хлеб у нас теперь философ, то и мы не хуже.
– И что же ты вспоминаешь через муку и мёд? – спросила она, наливая себе чай.
– Тебя. Точнее, то утро, когда ты впервые позволила мне спать на подушке.
Лисса застыла. Это было давным-давно, ещё в ту пору, когда дом только учился различать тепло и шум. Тогда Шмель был котёнком с видом древнего мудреца, и она, не удержавшись, взяла его на руки, а он заснул, не спросив разрешения. С тех пор дом стал мягче, а одиночество – менее острым.
– И ты решил испечь память? – сказала она.
– Именно. Память должна быть съедобной. Иначе зачем она нужна?
Он говорил так серьёзно, что Лисса не удержалась от улыбки. Она помогла ему – не потому что верила, что у кота получится, а потому что в его глупости чувствовалось нечто правильное. Они мешали тесто вместе, и каждый её жест отзывался в доме эхом старых утр – смех, брызги молока, солнечные пятна на полу. Даже ветер у окна перестал скулить и стал слушать.
Шмель, запрыгнув на подоконник, наблюдал, как сковорода наполняется тестом. Оно поднималось, золотилось, а из середины поднимался лёгкий пар с ароматом детства. – Видишь, – сказал он, – у каждой вещи есть свой вкус, если дать ей шанс.
Она кивнула. Вкус был действительно особенный – ни мёд, ни мука, ни соль, а что-то между ними, как промежуток между смехом и тишиной. Лисса отломила кусочек и подала коту. Тот осторожно понюхал, лизнул и задумчиво сказал: – На вкус как утро, которое никуда не спешит.
Ведьма села рядом. – Знаешь, Шмель, ты иногда пугающе мудр.
– Это не мудрость, это опыт сна. Чем больше спишь, тем яснее видишь сны других.
Она рассмеялась. Смех был тихим, но в нём прозвенела радость, почти детская. Дом будто ожил от этого звука. Пламя в очаге подпрыгнуло, как будто кто-то пощекотал его пером, а окно запотело от удовольствия.
– Значит, – сказала Лисса, – ты создал блюдо, которое заставляет мир просыпаться мягче.
– Не совсем. Оно просто напоминает, что второе утро – это шанс исправить первое.
Она задумалась. Мир, казалось, согласился: за окном ветер утих, небо стало чище, а где-то вдалеке, на границе слышимого, прозвучал короткий звон – как если бы колокол решил напомнить, что жить можно медленно.
Шмель тем временем уже возился с новой порцией теста. – Если я добавлю щепотку забвения, вкус станет глубже.
– Только осторожнее, – сказала Лисса. – Слишком много – и забудешь, зачем ел.
– Значит, как с любовью, – философски заметил кот. – Главное – не пересолить.
Она присела рядом с ним, и они долго молчали. Дом тихо дышал, слушая их. Тишина была не пустой, а живой. В ней пряталось тепло – то самое, которое появляется между двумя существами, когда им не нужно объяснять, зачем они рядом.
Потом Шмель запрыгнул на подоконник и стал смотреть в окно. – Видишь? – сказал он. – Мир стал чуть светлее.
– Это потому, что ты его накормил, – ответила Лисса.
– Или потому, что он наконец выспался.
Она посмотрела на него и поняла: в каждой глупости Шмеля всегда прячется зерно истины. Может быть, второе утро действительно существует. Не как день после ночи, а как возможность снова почувствовать вкус жизни.
Пока они сидели, хлеб на столе вдруг дрогнул, будто вспомнил их разговор. Из корки вылетела искра, осветив комнату, и на мгновение всё наполнилось запахом полевых трав и чего-то ещё – как если бы лето притаилось под крышей.
– Он слушает нас, – прошептала Лисса.
– Пусть слушает, – сказал кот. – Может, и сам чему-нибудь научится.
Она посмотрела на сковороду – там тесто всё ещё поднималось, тихо, с достоинством. Мир, казалось, замер, ожидая, чем закончится этот утренний спектакль. Лисса протянула руку, сняла крышку, и по комнате разлился аромат, от которого можно было поверить, что все печали обратимы.
– Второе утро, – сказала она, – это, наверное, когда даже тьма решает немного отдохнуть.
– Или когда ведьма наконец даёт коту кусочек посередине, а не с краю, – добавил Шмель, вытягивая лапу.
Она засмеялась и поделила лепёшку пополам. Они ели молча, наблюдая, как сквозь окно проникает свет, похожий на дыхание ветра. В этот миг казалось, что весь мир уместился в их кухне – сковорода, чай, кот, запах хлеба и лёгкий шорох пыли, которая больше не стыдилась быть видимой.
Дом вздохнул и тихо сказал своим деревянным голосом: «Вот так и живите». И они послушались.
К вечеру запах второго завтрака всё ещё держался в доме, как добрая шутка, которую не спешат забывать. Воздух был густой, тёплый, с оттенком карамели и дразнящей надежды, будто сама печь решила, что день стоит продлить хотя бы ради вкуса. Лисса стояла у окна, глядя, как ветер гоняет по улице золотые крошки солнца, и думала, что, может, счастье – это не больше чем умение удержать аромат между вдохом и выдохом. Шмель, конечно, имел другое мнение: он считал счастьем сытный ужин и подоконник, на котором никто не требует философии.
Он лежал на спине, подставив живот последним лучам, и лениво наблюдал, как ведьма вытирает стол. – Ты опять наводишь порядок, хотя я только что создал шедевр, – сказал он. – Разве так обращаются с произведениями искусства?
– Я сохраняю баланс между гением и хаосом, – ответила она. – Иначе дом решит, что здесь поселились две стихии одновременно.
– Здесь действительно живут две стихии, – протянул кот, перевернувшись. – Я – вдохновение, ты – ответственность.
Она усмехнулась, но не возразила. Пламя в очаге трепетало, как смех, удерживаемый на языке. Снаружи мир потихоньку превращался в вечер: где-то звякнула ложка, соседи смеялись у колодца, а по крыше пробежал первый вечерний ветер, принёсший запах сырости и соли. Всё в этом дне было до смешного живым, как будто сам воздух помнил, каково это – быть чудом.
Лисса достала старую чашку, на которой осталась едва видимая трещина. Когда-то, много лет назад, она упала из рук Мастера Теней – не разбилась, а просто чуть треснула, как будто хотела напомнить: ничто не обязано быть целым, чтобы служить добру. Она налила в чашку отвар трав, отпила, прислушалась – и вдруг поняла, что чай пахнет не мятой и не чабрецом, а тем самым завтраком, который они делали утром. Сладостью, дымом, смехом.
– Он запомнил вкус, – сказала она. – Даже чай.
– Конечно, – откликнулся Шмель, не открывая глаз. – Всё, чего касается любовь, становится памятью.
Она посмотрела на него – и впервые подумала, что этот кот, возможно, знает больше, чем признаётся. Когда он говорил, воздух будто дрожал от тихой мудрости, той, что не учат в книгах. Лисса подошла к нему, села на пол рядом, оперлась спиной о стену. Тепло дерева проходило сквозь её плечи, смешиваясь с запахом чая и дымом из очага.
– Шмель, – сказала она после паузы. – А если всё это… просто повторение? День за днём, вкус за вкусом, чудо за чудом. Может, магия – это не создание, а память о том, что уже было?
Кот приоткрыл один глаз. – Тогда мы с тобой не ведьма и кот, а архивариусы запахов.
– Не так уж плохо звучит.
– Особенно если за хранение воспоминаний платят обедами.
Она рассмеялась. Смех снова оживил дом – под балками посыпалась пыль, но она сверкала, как крошечные звёзды. Пламя в очаге потянулось вверх, будто тоже захотело принять участие в разговоре.
– Ты знаешь, – сказала Лисса, глядя на огонь, – раньше я думала, что магия – это сила. Что можно выучить слова, понять формулы, и мир подчинится. А теперь кажется, что это не власть, а внимание. Кто-то должен просто заметить, что пламя – живое, хлеб – поёт, ветер – слышит.
– И кто-то должен успеть позавтракать до того, как всё это остынет, – заметил кот, но его голос стал мягким.
Лисса обняла колени и замолчала. За окном начинался дождь – редкие, ленивые капли падали на крышу, будто проверяя, не забыл ли дом звук воды. Шмель слушал, морщил уши. – Опять идёт, – сказал он. – Этот дождь всё время что-то ищет.
– Может, он просто хочет поговорить.
– Тогда пусть пишет письма, а не капает в миску.
Они оба замолчали, слушая. Капли усилились, дождь перешёл в ровное дыхание неба. В каждой капле отражалось пламя, и казалось, будто небо подглядывает за их разговором, улыбаясь.
Вдруг Лисса заметила: сковорода, оставленная на столе, снова теплит. Она подошла, подняла крышку – внутри лежала лепёшка, хотя никто её не ставил. Горячая, пахнущая свежестью и чуть-чуть грозой.
– Второе утро решило стать вечером, – сказала она.
– Или вечер решил позавтракать, – ответил кот.
Она отломила кусочек, попробовала – и едва не рассмеялась: на вкус это было как тёплый дождь. Мир, кажется, продолжал участвовать в их игре, превращая всё в символы, всё – в память.
Шмель подошёл, сел рядом. – Думаешь, если бы люди не забывали радость, им бы не понадобилась магия?
– Думаю, да. Магия ведь не лечит – она напоминает.
На улице громыхнуло – не страшно, а задумчиво. Ветер ударил в ставни, но потом мягко отступил, словно извиняясь. Дом вздохнул. Всё вокруг стало удивительно прозрачным, будто воздух и свет решили больше не притворяться разными вещами.
Лисса поднялась, подошла к двери. – Хочешь выйти? – спросила она кота.
– Под дождь? Никогда. У меня шерсть от влаги становится философской.
– Тогда сиди и охраняй тепло.
Она распахнула дверь и вышла на порог. Дождь был густой, почти тёплый, и падал крупными каплями, словно кто-то разбрызгивал молчание. Мир дышал. В каждой капле отражалось лицо дома – и её собственное. Она подняла ладонь, позволила воде коснуться кожи. Капля скатилась по пальцам, оставив за собой едва заметный след света.
– Второе утро, третье дыхание, – прошептала она. – Всё повторяется, но никогда одинаково.
Сзади послышался голос Шмеля: – Если ты начнёшь считать дожди, я заведу календарь для луж.
Лисса обернулась, засмеялась. В доме за её спиной горел мягкий свет, а за порогом – тёплый дождь. И между этими двумя мирами она стояла, чувствуя, что именно здесь, в этой паузе, жизнь настоящая. Без героизма, без заклинаний – просто дыхание, смех, хлеб и кот, который верит, что спас мир, приготовив завтрак.
Она вернулась внутрь, вытерла волосы, налила им обоим по чашке молока – себе и дому. На подоконнике снова заурчал ветер, а печь тихо сказала огнём: «Да будет ещё одно утро».
И они оба – ведьма и кот – ответили ей одинаково: «Пусть будет».
Глава 18. Как ветер учил ведьму танцевать
Утро началось с ветра, который не стучал, не выл, не тревожил – просто вошёл, как старый знакомый, не дожидаясь приглашения. Он пах дорогой, тёплой пылью и чем-то ещё – едва уловимым, как воспоминание о движении. Дом вздохнул, принимая этот приход без возражений: за долгие годы он научился различать ветры. Есть ветра злые – от дверей их нужно закрывать, есть ветра скучные – их можно впустить ради проветривания, а есть такие, как этот – свободные, у которых в каждом порыве спрятана песня.
Лисса сидела у окна и чинила старый плащ. Нитка жила своей жизнью – то скручивалась, то рвалась, словно сопротивлялась самой идее ремонта. Ведьма покачала головой: если вещи ведут себя как живые, значит, пора пить чай, а не чинить судьбу. Она потянулась к чайнику, но тот, как назло, уже шипел и требовал внимания. Тогда Лисса, не выдержав, сказала: «Ну и ладно, я сегодня без правил».
Ветер услышал.
Он ворвался в комнату мягким вихрем, подняв с пола клочки ниток, пыль, перья и запахи вчерашнего ужина. Всё завертелось, закружилось, и вдруг ведьма поняла – это не просто беспорядок. Это приглашение.
– Не начинай без предупреждения, – сказала она, но ветер не слушал. Он коснулся её щёк, взъерошил волосы, развязал нити плаща, и ткань распахнулась, словно крылья. Тогда Лисса встала – не потому что хотела танцевать, а потому что сопротивляться стало невозможным.
Дом напрягся, но не вмешался. В его старом сердце проснулся ритм – тот, что звучит в каждой дощечке, когда она помнит молодость. Огонь в очаге отозвался тихим треском, и даже кот Шмель приподнял голову, но решил, что, если ведьма сошла с ума, лучше не мешать процессу.
Лисса сделала первый шаг. Пол скрипнул – не от старости, а от удивления. Второй шаг был осторожнее, третий – уже свободный. Ветер подхватывал её движения, закручивал юбку, касался рук, щекотал запястья. Казалось, он смеётся. Она тоже рассмеялась – от неожиданности, от глупости, от радости, которая вспыхивает, когда ты вдруг понимаешь: жизнь не обязана быть серьёзной, чтобы быть настоящей.
– Учишь? – спросила она сквозь смех.
Ответом было завихрение, словно да.
Она кружилась, и время сбивалось в ритме – секунды растягивались, минуты теряли счёт. Всё, что было в ней тяжёлым, усталым, вдруг стало лёгким, как пыльца. Она забыла о швах и долгах, о старых словах, которыми пыталась объяснить себе мир. Оказалось, можно просто быть. Без формул, без планов, без магии.
Шмель наблюдал с печи, щурясь. – Безобразие, – сказал он. – Ветер неприлично вольготен.
Но хвост у него всё-таки дрожал, выдавая зависть.
Ведьма смеялась, пока не запыхалась. Потом опустилась на пол, ветер сел рядом – не в теле, а в присутствии. Его нельзя было увидеть, но всё вокруг дышало им: стены, скатерть, даже чайник, который теперь молчал, будто смирился.
– Ну и что ты хотел этим сказать? – спросила она.
Ответом стало лёгкое колыхание волос, словно кто-то провёл рукой.
– А, значит, не спрашивай, просто живи, – перевела она сама. – Старый трюк всех мудрецов.
На миг всё замерло. Потом где-то на чердаке зашевелился пыльный занавес, и дом тихо хмыкнул – он, кажется, понял суть происходящего лучше всех.
Ветер поднял клочок ткани, тот повис в воздухе и начал медленно вращаться. Лисса смотрела, как он двигается – будто вспоминал все пути, которыми бродил по миру: по полям, по крышам, по лицам. Ей вдруг стало ясно, что этот ветер не чужой. Это тот самый, что когда-то, много лет назад, принёс запах дома, когда она ещё не знала, что такое дом. Он был с ней, когда она училась смеяться после утрат, когда плакала над пустыми чашками, когда пекла первый хлеб, не зная, кого им накормит.
Она шепнула: – Ты вернулся.
И ветер тихо качнул пламя в ответ, будто сказал: «Я никогда не уходил».
Слёзы пришли неожиданно – не от грусти, а от той ясности, что всегда режет, когда понимаешь: всё было не зря. Она вытерла глаза рукавом и засмеялась сквозь слёзы. Ветер подхватил этот смех, вынес его за окно, и где-то вдалеке, над городом, кто-то вдруг улыбнулся, не зная почему.
Шмель спрыгнул с печи, подошёл к ней, потерся боком. – Ну, если уж ты решила дружить с погодой, я требую, чтобы мне выделили отдельное солнце.
– Договоримся, – сказала она, всё ещё смеясь. – Но сперва – чай.
Она встала, взяла чашку. Ветер не ушёл – он просто стал частью комнаты. Шевелил пламя, гладил пол, дышал сквозь окна. Лисса знала: теперь он здесь надолго. Не как стихия, а как гость, которому доверяют без слов.
Она села, налила чай, и впервые за долгое время он пах не травами, не дымом, а движением. В каждом глотке чувствовался вкус пути, будто мир сам напоминал: стоять – значит тоже идти, если дышишь.
Дом вздохнул. Шмель свернулся калачиком на подоконнике, бормоча: – Танцы – это, конечно, всё очень романтично, но завтра везде будет песок.
– Пусть будет, – ответила Лисса. – Лучше песок, чем пыль без памяти.
Она посмотрела в окно – там, где уходил день, небо плавно перетекало в ночь, и в этом переходе было что-то человеческое. Может, потому что сама ночь начиналась, как танец: с лёгкого движения, с поклона, с дыхания.
Когда она легла спать, ветер не ушёл. Он дул тихо, почти ласково, перебирая травы у изголовья. И ей снилось, будто она снова танцует, но уже не одна – вокруг вращается мир: сковороды, звёзды, листья, даже кот, который в сне тоже умел смеяться. Всё кружилось, не разрушаясь. Всё – дышало.
А где-то в этом движении мелькнул знакомый голос: «Ты наконец-то научилась – не колдовать, а слышать».
И Лисса, не открывая глаз, улыбнулась, потому что знала: это говорил ветер.
Ночь после танца была странно прозрачной, будто воздух решил стать водой. Всё в доме звучало мягче – даже старые половицы, привыкшие жаловаться на возраст, теперь поскрипывали с каким-то добрым умыслом. Лисса проснулась от лёгкого движения воздуха: ветер не спал, он тихо ходил по комнате, собирая заблудившиеся запахи и шорохи, словно заботился о порядке. Пламя в очаге дышало ровно, а кот Шмель лежал у самого тепла, вытянув лапы, как философ, достигший внутреннего равновесия.
Ведьма села, укрылась шерстяным пледом и долго смотрела на окно. За стеклом светились редкие капли росы, и каждая из них отражала дом, перевёрнутый, будто другой мир живёт рядом, только вверх ногами. В этом отражённом мире, подумала она, тоже, наверное, есть ведьма, которая сейчас думает обо мне. И ветер, который её учит танцевать.
Она тихо встала, чтобы не тревожить ни дом, ни кота, и пошла к двери. Ветер, будто почувствовав намерение, отворил замок сам – мягко, как друг, который знает, что слова тут лишние. Снаружи ночь пахла ветром, влажной землёй и свежим хлебом – кто-то неподалёку печёт, значит, жизнь идёт своим чередом. Лисса сделала шаг на порог и остановилась.
Ветер встретил её, осторожно, без привычных шалостей. Он прошёлся по подолу её платья, как будто проверял: не забыла ли она движения, которые выучила утром. Она улыбнулась.
– Думаешь, я забуду? – шепнула она. – После такого урока?
Ветер ответил коротким вздохом, и в этом звуке было узнавание. Он потянул её за руку – не буквально, конечно, но она чувствовала лёгкое давление воздуха, как приглашение. И она пошла за ним, босиком, по влажной траве. Мир вокруг не спал: сова сказала своё «угу», где-то звякнула забытая на окне ложка, вдалеке заговорил ручей. Всё казалось движением, даже неподвижное.
Там, где заканчивался сад, начиналось поле. Здесь ветер был свободнее. Он поднимал траву, шевелил листья, и казалось, что само время стало легче. Лисса встала посреди этого пространства и просто стояла, пока воздух касался её лица, волос, рук. С каждым прикосновением она вспоминала. Не только сегодняшний день – всё. Как первый раз вышла из леса. Как боялась молчания, пока не поняла, что в нём живёт речь. Как смеялась с теми, кого уже нет, и всё равно чувствовала их рядом.
Она закрыла глаза и позволила ветру говорить. Его язык был не словами, а ощущениями. Холод на щеках – память о зиме. Тепло на ладонях – благодарность. Лёгкий толчок в спину – напоминание, что идти нужно дальше. Всё просто и совершенно.
Когда она открыла глаза, над полем уже рождался рассвет. Первые полосы света были не золотыми, а серебристыми, как дыхание старого древа. Туман поднимался, и в нём угадывались странные формы – будто кто-то, кто давно ушёл, решил навестить мир ненадолго. Лисса стояла молча, не чувствуя страха. Мир не угрожал – он разговаривал.
– Спасибо, – сказала она в пустоту, и ветер ответил коротким вихрем. Он кружил вокруг неё, поднимая подол, перехватывая дыхание, и вдруг всё повторилось – как утром, только мягче. Это был не танец, а признание. В каждом движении – «я жива». В каждом вдохе – «я здесь». В каждом повороте – «я помню».