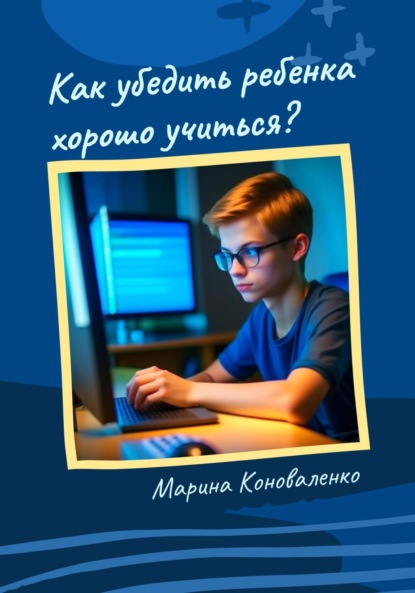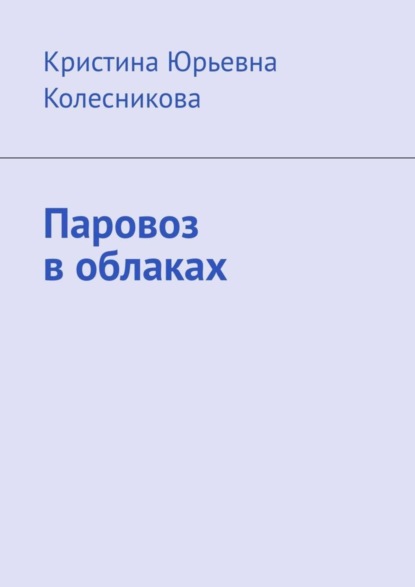ЯЙЦО В БОЧКЕ С ЭЛЕМ

- -
- 100%
- +
Глава 21. В которой мир учится слушать тишину
Утро выдалось таким ясным, что даже воздух казался новеньким, только что выданным из небесного архива. Над лесом висела тонкая дымка, похожая на вздох, оставшийся от ночного дождя. Лисса проснулась не от звуков, а от их отсутствия – не было ни шагов, ни голоса Тии, ни возни Фрика. Даже дракон спал, раскинув крылья, как покрывало. Этот покой был таким глубоким, что хотелось его не нарушать, а просто присутствовать в нём, как в старой мелодии, которую наконец перестали торопить. Она сидела на кровати, держа в руках кружку с остывшим элем, и думала, что, может быть, именно теперь начинается настоящее время – то, где не нужно спасать, объяснять, скрываться. Только быть.
Когда она вышла во двор, солнце стояло низко и разливалось по траве золотом. Пахло мятой, хлебом и чем-то ещё – свежестью, похожей на обещание. Тия поливала клумбы, дракон грелся у забора, развесив крылья, как бельё. Фрик сидел на заборе и наблюдал за миром с видом чиновника на пенсии. «Что сегодня на повестке?» – спросила Лисса. – «Скука», – ответил кот. – «Серьёзная, затяжная, с элементами философии». – «Прекрасно. Давненько не встречалась с ней лично».
Рован вышел из конюшни, вытирая руки о полотенце. «Город шлёт приглашение, – сказал он. – Праздник Возвращения. Хочешь поехать?» – «Нет. Пусть празднуют без меня. Я слишком долго была причиной для чужих парадов». – «Ты не любишь признания?» – «Люблю. Но только если оно без оркестра».
Он усмехнулся и сел рядом. Тишина между ними была не пустотой, а местом. Они оба знали – если сказать хоть слово, нарушишь ритуал. Фрик спрыгнул на землю, пошёл вдоль двора, комментируя каждому камню, что у него нет эстетического вкуса. «Твой кот всё ещё спорит с ландшафтом», – заметил Рован. – «Он просто не привык к гармонии. Её же невозможно укусить».
Тия принесла корзину с хлебом и мёдом. «Пекла сама», – сказала она. – «Без рецепта. Как учила Лисса». – «Значит, должно быть волшебно». – «Почти. Только один кусок почему-то поёт». Они рассмеялись. И это был тот редкий смех, после которого в мире становится легче дышать.
К полудню на дороге появились первые гости. Люди шли с корзинами, с детьми, с песнями. Кто-то нёс маленькие драконьи фигурки, кто-то – книги, кто-то просто улыбался. Никто не пришёл за чудом. Все пришли к чуду. Они садились у таверны, приносили новости: где-то на севере деревья начали светиться по ночам, а в горах реки текли вспять – не от проклятия, а из любопытства. «Мир снова играет», – сказала Лисса. – «А ведь это самое верное доказательство, что он жив».
Один старик, седой и сухой, как пепел, подошёл к ней и поклонился. «Вы спасли нас», – сказал он. – «Нет, – ответила Лисса, – я просто перестала мешать». – «Но без вас чудеса бы не вернулись». – «Они всегда были. Просто вы перестали их узнавать». Старик улыбнулся и ушёл, оставив на столе яблоко. Оно было золотым, но не магическим – просто спелым.
Вечером, когда гости разошлись, таверна снова наполнилась тишиной. Дракон лежал у порога, Фрик мурлыкал, а Рован перебирал струны лютни. Мелодия была простая, почти грубая, но в ней было всё: дороги, дождь, смех, утраты и возвращения. Лисса слушала и думала, что, может быть, музыка – это форма прощения. Она закрыла глаза, и в звуках ей послышалось дыхание города, шорох леса, шёпот воды. Всё было соединено.
– Ты думаешь, это надолго? – спросил Рован. – «Надолго – это сколько?» – «Пока снова не решат всё запретить». – «Пусть попробуют. Мы уже знаем, что делать, если мир снова забудет себя». – «И что же?» – «Смеяться. Варить эль. И слушать тишину».
Фрик зевнул: «Пессимизм – это форма искусства. Оптимизм – преступление против здравого смысла. А вы оба – рецидивисты». – «Мы просто живём», – сказала Лисса. – «И это, пожалуй, самая большая ересь».
Ночь опустилась плавно, как занавес после хорошего спектакля. Воздух пах жареным хлебом и дождём. На улице зажглись светлячки – их было столько, что казалось, будто звёзды спустились проверить, как тут, внизу, поживают их отражения. Лисса стояла у двери и смотрела, как свет ложится на траву.
В этом свете всё было – память, дыхание, тишина. Она подумала, что, может быть, это и есть конечная форма магии: не сила, не знание, не власть, а способность замечать.
Когда Рован подошёл к ней, она не обернулась. Он просто положил руку ей на плечо, и этого касания оказалось достаточно, чтобы весь мир, со всеми своими законами и указами, на миг стал ненужным. Всё, что нужно, уже было – дом, огонь, дыхание, дракон, который спал у порога и снился, наверное, в небе. И в этой тишине, где даже время замедлило шаг, Лисса вдруг поняла: чудеса не возвращаются. Они просто ждут, когда человек научится не мешать им жить.
День выгорел медленно, оставляя на подоконниках полосы тёплой пыли, и к вечеру таверна стала походить на музыкальный инструмент, настроенный на одну ноту – ровную, низкую, в которой слышались шаги, дыхание огня и далёкое воркование грома за холмами. Лисса резала хлеб длинными, неторопливыми движениями, и каждое крошево казалось снежинкой, не успевшей вспомнить зиму; мёд тянулся ленивыми золотыми струйками, и запах его смешивался с дымом печи и влажной древесиной пола. Рован на дворе чинил петлю на калитке, и всякий раз, когда он подтягивал гвоздь, сосна отзывалась тихим, довольным вздохом, будто ей наконец разрешили снова быть деревом.
Тия носила воду из колодца, и ведро, цепляясь за край, звенело чисто, по-детски, как будто в этом звоне поселилась какая-то совершенно новая радость. Фрик устроился на верхней полке, где тёмное стекло бутылок служило ему зеркальным залом для размышлений, и, вытянув лапы, проговаривал в пустоту: мир, мол, не становится лучше, он просто перестаёт врать, когда ему дают тишину. Маленький дракон спал у порога, поджав лапы и иногда шевеля крылом, будто ловил во сне то самое тепло, из которого делают рассвет. Лисса слушала все эти мелочи и думала, что, наверное, тишина – это не отсутствие звуков, а когда каждый звук занят своим делом и не претендует на чужую роль; отсюда и редкое чувство порядка, как в лавке старого переплётчика, где каждая нитка знает своё место и охотно ждёт очереди, не завидуя золоту соседнего корешка.
Когда сумерки разложили на столах синюю скатерть, в дверь постучали – мягко, вежливо, как стучатся те, кто привык приходить поздно и не быть желанным. На пороге стоял юноша с путевой пылью на плаще и с теми глазами, в которых тонут уставшие люди: в них было слишком много дороги и слишком мало щитов. Он держал в руках футляр, продолговатый, обитый выцветшей тканью, и пахло от него морской солью и старой смолой, как пахнут мачты, пережившие неподходящее столетие.
Юноша назвался Фареем, подсел к очагу, оттаял, и слова сами потекли: на южных пристанях по вечерам корюшка выходит к берегу и поёт, и каждый, кто слушает, вспоминает своё имя так ясно, что становится стыдно за все чужие; в ущельях у границы камни двигаются, когда их просишь по-человечески; а в одной деревне родилась девочка, которая не может лгать – не потому что добрая, а потому что свет в её горле мешает словам меняться по дороге из сердца. Лисса наливала ему густой суп и думала, что чудеса, как и письма, добираются туда, где их готовы прочесть, – иногда через месяцы, иногда мгновенно, иногда вовсе без адреса; дракон приоткрыл глаз, и в янтарной глубине на секунду отразилась маленькая гавань с кострами на сваях, а потом всё исчезло, уступив место ровному, домашнему дыханию. Фрик, принюхавшись к футляру, сообщил, что внутри лежит инструмент, у которого закончились слова, и теперь он ищет голос в чужих руках; Рован пожал плечами: голоса не заканчиваются, заканчивается смелость слушать их до конца; Тия принесла свежее молоко, и на тонкой тёплой пене тонуло обезоруживающее настоящее – тот редкий миг, когда никто не придумывает себе оправданий.
Фарей открыл футляр, и воздух вспух сладковатым запахом лака; в бархатной колыбели лежала виола – старая, с трещинкой у подставки, с потёртым краем на верхней деке, с пустым местом, где когда-то был герб, а теперь осталось только светлое пятно, как шрам от снятого кандала. Он провёл смычком по струнам, и таверна будто подтянула пояс, распрямила спину, стала внимательной; звук был не громкий, но упрямый, тёмный, как мокрый хлеб, и пряный, как корица на горячем вине. В этом звуке было странное: он не просил слушать – он слушал сам, как моря слушают берег. Лисса вспомнила дворцовый зал, где её заставляли проговаривать заклинания чётко и быстро, чтобы они помещались в протокол, и как тогда, после очередного удачного отчёта, она взяла в руки скрипку стражника и сыграла один, долгий, неприличный для графика звук: столетие спустя она узнала его в виоле Фарея, как узнают ход собственного сердца на чужих ступенях.
Рован прислонился к стойке и медленно выдохнул; Тия, не замечая, как, села на пол; Фрик спрыгнул, обошёл кругом инструмент, признал его за равного и важно уселся рядом, как сидят хранители у ворот, когда им наконец доверяют смотреть не на врагов, а на мир. Виола переливалась, набирая силу – не форте, а тяжесть, – и вдруг дотронулась до того места, где в таверне хранится звук дождя: стены ответили тихим шорохом, печь подбросила искру, потолок издал тонкий щелчок деревянного согласия, и даже вывеска снаружи звякнула цепью, словно кто-то невидимый кивнул из темноты. Лисса потянулась за своим старым гримуаром, но остановилась: раньше она фиксировала чудеса словами, чтобы они не исчезали с ветром, а теперь в этом не было нужды – звук записывал нас, и этого было достаточно, потому что в память мира строчки вносятся не чернилами, а тем, как человек держит кружку, глядя на огонь, и тем, как кот перестаёт притворяться равнодушным, и тем, как меч, наконец, чувствует себя просто металлом.
Когда Фарей закончил, тишина не рухнула, а устроилась рядом, поджав ноги, как гость, которого не торопят; в этой тишине слышались соль на губах и смола на пальцах, и ещё – далёкий кач мачт, хотя окна оставались неподвижны. Юноша виновато улыбнулся: будто, мол, не умею играть лучше, и Лисса отмахнулась, как от ненужной вежливости, поставила перед ним миску с пирогом, настояла трав на молоке, и уж потом сказала ровно то, что требовалось: звук живёт, пока о нём никто не судит. Фрик согласился с неожиданной мягкостью, но для порядка добавил, что всякая музыка – это дисциплина, в которой надо служить не ноте, а вниманию, потому что иначе получается ярмарка с кастрюлями, и от кастрюль потом пахнет политикой. Рован, вынимая щепу из ладони, произнёс просто: мы можем отвезти тебя до развилки к морю, дальше ты сам; Тия уже вязала тонкий ремешок для футляра, чтобы он не натирал плечо. Дракон раскрыл крыло и тихонько накрыл юношу тенью – знак принятия, ласка предметов светом – и из-под пера на подставке сползла маленькая пылинка, блеснула искрой и исчезла, как и полагается словам, отработавшим свою смену. Ответ приходил из вещей: пол не скрипел, нож легко входил в корку, лампа горела без копоти; в мире всё было на своих местах, и потому можно было отпускать дальше.
Ночь подвинулась ближе, приложила ухо к крыше и слушала, как внизу кто-то делает то, для чего вообще были придуманы дома: кормить, согревать, помогать находить голос. И когда Фарей, поблагодарив, поднял виолу и, дрожа от смущения, вышел на крыльцо, воздух пах уже дорогой, а не тягой к приюту, и Лисса, глядя ему вслед, подумала, что самое надёжное заклинание – не задерживать тех, кто нашёл своё звучание; иначе звук портится, как вино на сквозняке. Она закрыла дверь, поправила засов, услышала, как в печи уютно перевернулся жар, и позволила себе роскошь позднего глотка эля: терпкого, как честность, и сладкого, как облегчение. Мир тихо согласился. Где-то над холмами коротко вздохнул большой дракон, проверяя, ровно ли течёт ночь, и в этот вздох подмешался едва слышный тембр новой виолы – не в ушах, а в груди, там, где тишина учится быть музыкой без наших подсказок.
Глава 22. Где дом обретает крылья
Утро настигло таверну, как ветеран, пришедший без фанфар – тихо, но с уверенностью, что его ждут. Небо было бледно-лазурным, почти прозрачным, а над холмами кружили две точки – не птицы и не облака, скорее отблески чьего-то дыхания. Лисса вышла во двор босиком, и трава под ногами была прохладной, будто держала в себе воспоминание о ночи. Фрик дремал на крыльце, изредка подёргивая ухом во сне, как кот, что спорит с миром даже во сне. Рован стоял у колодца и мыл руки, долго и тщательно, словно хотел смыть с себя не грязь, а то, что давно прижилось под кожей – службу, долг, вину. Дракон сидел рядом с ним, большой, как дом, и, кажется, даже понимал этот ритуал очищения: он склонил голову, а потом, неуклюже, но нежно коснулся крылом плеча Рована, будто благословил.
Тия вышла из кухни с корзиной яблок. «Скоро праздник жатвы, – сказала она, – в городе просят, чтобы мы пришли». – «А город когда-нибудь перестанет нас звать?» – усмехнулась Лисса. – «Пока мы для них чудо, нет», – ответила Тия. – «А когда станем легендой – забудут». – «Вот и хорошо», – сказала ведьма. – «Легенды живут дольше чудес».
Солнце медленно вставало, и его свет ложился на камни двора, как обещание. Воздух был свеж, с лёгкой горечью осени. Из-за холма донёсся звон – не церковный, не колокольный, а словно кто-то огромный щёлкнул по стеклу неба. Дракон поднял голову, расправил крылья, и ветер дрогнул. Лисса почувствовала, как по спине прошёл ток – не страх, не радость, а что-то среднее, как у тех, кто знает: сейчас начнётся нечто, к чему давно готовился, но всё равно не готов.
Фрик потянулся и сказал: «Похоже, наши соседи решили напомнить, что не только мы умеем производить впечатление». – «Соседи?» – «Те, кто живут выше облаков. Старшие. Я слышу их шорох уже сутки». – «Ты уверен?» – «Я кот. Я никогда не уверен, но почти всегда прав».
Рован посмотрел в небо. Там, среди переливчатого света, появилась фигура – огромная, древняя, как сама память. Дракон-старейшина спускался медленно, но с той грацией, что делает любое движение музыкой. Его чешуя блестела, как выветренное золото, а глаза были цветом тумана над рекой. Когда он коснулся земли, та не дрогнула – наоборот, словно с облегчением вдохнула.
Лисса вышла вперёд. Её собственный дракон – ещё молодой – подошёл к старшему, ткнулся лбом, и от этого касания воздух зазвенел, будто в нём раскололся колокол. Старейшина посмотрел на Лиссу. Глаза его были без зрачков, но в них было узнавание. Голос, когда он заговорил, звучал не в ушах, а в груди: Ты вернула дыхание миру. – «Я просто перестала его удерживать», – ответила она вслух. И это самое трудное искусство.
Старейшина наклонил голову к дракону-детёнышу, потом к людям. Его взгляд скользнул по Ровану, по Тии, по Фрику – тот почтительно отвёл усы, что с ним случалось крайне редко. Мир снова дышит. Теперь вы должны выбрать: остаться хранителями или стать частью ветра. – «А есть разница?» – спросила Лисса. Старейшина улыбнулся – если сияние можно назвать улыбкой. Только во времени. Хранитель остаётся, ветер уходит, но оба служат дыханию.
Дракон поднялся, расправил крылья. От них пошёл поток воздуха, пахнущий громом и молоком. Молодой дракон ответил ему – не рёвом, а почти человеческим вздохом, в котором слышалась благодарность. Лисса шагнула ближе, коснулась его шеи. «Хочешь лететь?» – спросила она тихо. Дракон наклонил голову, и на мгновение в его взгляде мелькнуло то, что бывает у детей, когда им дают свободу, которой они просили, но которой боятся.
Тия вытерла глаза. «Он же ещё ребёнок». – «Все чудеса – дети», – сказала Лисса. – «Им нужно вырасти, прежде чем их снова запретят». Фрик глубокомысленно добавил: «А нам нужно остаться, чтобы кто-то записал, что они действительно были».
Рован взял Лиссу за руку. «Ты отпустишь его?» – «Я не держала. Просто держала тепло, пока не пришло время». – «А если он не вернётся?» – «Значит, будет другой. Дыхание не повторяется, но никогда не исчезает».
Старший дракон поднялся выше, и молодой последовал за ним. Воздух вспенился, трава пригнулась, а на крыше таверны звякнула вывеска. Свет от их крыльев осветил двор, людей, кота, даже старые следы на камнях. Когда они исчезли за облаками, на землю опустился золотистый пепел – не от огня, а от света. Лисса провела ладонью по камню – на коже осталась искра.
«И что теперь?» – спросил Рован. – «Теперь – жить», – сказала она. – «Без пафоса, без отчётов. Просто жить». – «А если мир снова всё испортит?» – «Тогда снова рассмеёмся. И сварим эль».
Фрик подошёл к ней, прищурился: «Ты слишком спокойна. Это подозрительно. Ведьмы не бывают счастливы без подвоха». – «Может, я просто устала быть несчастной». – «Хм. Философия упадка». – «Нет. Философия выдоха». Они вошли в таверну. Внутри всё казалось чуть иным: воздух стал прозрачнее, огонь в очаге горел ровнее, а на столе, где ещё вчера лежала книга заклинаний, теперь стоял простой кувшин с водой. Лисса подошла, налила, выпила. Вкус был холодный, живой. Она поняла – это и есть чудо: вода, что пахнет началом.
Рован зажёг лампу, и свет её лег на лица мягко, без тени. Тия сняла с окна старые занавески, выпуская вечер в дом. Фрик улёгся на подоконник, устало зевнул: «Ну вот, теперь скука вернулась официально». – «Скука, Фрик, – это просто мир, когда он дышит спокойно».
Они сидели молча. Снаружи слышалось, как где-то далеко перекликались драконы – не громко, не грозно, а как две ноты, сыгранные ради памяти. Лисса закрыла глаза, и ей показалось, что таверна вздохнула вместе с ними. И, может быть, это и было начало нового дыхания – тихого, домашнего, вечного.
Вечер разливался по камням медленно, как густой эль, и небо делалось цвета старой бронзы – тёплое, но с прожилками холода, как кожа древнего дерева. Лисса вышла на крыльцо, кутаясь в накидку, и в первый раз за долгое время не думала ни о прошлом, ни о будущем. Воздух пах пеплом костра, свежескошенной травой и ещё чем-то – тонкой нотой далёких облаков, оставшейся после полёта драконов. Фрик сидел рядом, отстранённо вылизывая лапу, но его глаза блестели отражённым золотом, и, когда Лисса протянула руку, он не увернулся. Где-то за конюшней гремели ведра: Рован поил лошадей, напевая низко, будто разговаривал с ветром, а Тия разжигала печь, напевая ту же мелодию – они не слышали друг друга, но получалось так, словно мир подхватил мотив и крутил его, как старую пластинку, из которой не выжать ни капли лжи.
Дракон не вернулся – и в этом было странное облегчение. Лисса понимала, что утраты не всегда означают пустоту. Иногда они оставляют место, куда ложится свет. Она чувствовала, как с каждым вздохом в ней расправляются невидимые крылья, не для полёта, а для равновесия: ведьма, наконец, нашедшая свой центр тяжести. Мир будто стал ближе к телу – и камни, и звёзды, и тишина. Ветер шевелил волосы, приносил запах соли, хотя до моря было два дня пути, и Лисса подумала: может, границы тоже устали притворяться непроницаемыми.
На пороге показался Рован, уставший, но спокойный, с глазами цвета глины после дождя. Он поставил ведро, сел рядом. – «Помнишь, как всё начиналось?» – «С приказа №47 о временном приостановлении чудес», – ответила она. – «Звучало скучно, но вышло весело». – «Скорее, вышло честно», – сказал он. – «Мир просто хотел отдохнуть от собственной невозможности». – «А теперь что?» – «Теперь – можно просто существовать». – «Это и есть самое невозможное». Он усмехнулся, провёл пальцами по краю ступени. Камень был тёплым, как живая кожа. «Ты изменилась», – сказал он. – «Нет. Я просто перестала спорить с тем, что люблю».
Фрик зевнул, потянулся, как учёный, готовящийся к лекции. – «Позвольте заметить, что вы оба драматизируете очевидное. Мир не нуждается в объяснениях, пока в нём есть обед и крыша». – «И кот», – добавила Лисса. – «Особенно кот». – «Пожалуй», – снисходительно кивнул он. – «Но только в разумных пределах обожания». Тия выглянула из двери с кастрюлей супа. «Ужин готов. И я не собираюсь слушать споры о смысле бытия, пока кот не доест». Все рассмеялись, и смех их был не громким, а просто необходимым, как вдох между словами.
За ужином никто не говорил о драконах. Говорили о том, что урожай удался, что крыша держится, что завтра надо чинить мосток к колодцу. Мир сузился до размеров таверны – и именно в этом было спасение. Когда ты видел небо, расколотое пламенем, и слушал, как оно срастается обратно, начинаешь ценить трещины в чашках, а не прорехи во вселенной. Вино было терпким, хлеб хрустел, огонь в очаге гудел мягко, как старик, рассказывающий небылицы себе же.
Поздно ночью, когда Тия ушла спать, а Фрик занял стратегическую позицию у камина, Лисса и Рован остались вдвоём. За окном бушевал ветер – не злой, не холодный, просто живой. Лисса слушала, как он шелестит ставнями, и вдруг сказала: «Иногда мне кажется, что таверна дышит вместе с нами». – «Конечно. Мы же напоили её историями. Дома – как кувшины, только для времени». – «А если время закончится?» – «Тогда кувшин останется. В нём будет осадок памяти».
Она посмотрела на него, на руки, на линию плеча, на то, как огонь мягко вычерчивает его профиль. Когда-то она боялась таких моментов – когда тишина между людьми становится зеркалом. Теперь она знала: в отражении можно остаться, если не пытаться поймать себя. Он коснулся её ладони, и в этом прикосновении было всё, чего не могли сказать слова – усталость, доверие, присутствие. Не пылкость, а то редкое чувство, когда рядом быть естественно, как дышать.
За стенами таверны мир продолжал свои дела: где-то падали звёзды, где-то дети видели во сне драконов, где-то чиновники писали новые указы о чудесах. Всё это было далеко, как шум моря, когда стоишь в горах. Здесь, в сердце обыденности, жизнь шла ровно. Лисса поднялась, подошла к двери, распахнула её – и внутрь ворвался запах мокрой земли и свежего ветра. Пламя в очаге колыхнулось, но не погасло, а лишь стало чуть выше. «Чувствуешь?» – спросила она. – «Что?» – «Как дом дышит». Рован подошёл ближе. Воздух дрожал от тепла, и в этом дрожании слышалось тихое биение – будто где-то под полом, в самом сердце таверны, медленно просыпается огромный зверь из света.
«Когда-то я мечтал о полётах», – сказал он. – «Теперь мне кажется, что мы уже летаем. Просто не замечаем». – «Это и есть самое правильное чудо», – ответила Лисса. – «То, что становится незаметным». Ветер прошёлся по комнате, и на миг пламя выстроилось в форму крыла – лёгкую, дрожащую, словно нарисованную дыханием. Потом всё вернулось: камень, дерево, запах хлеба. Но ощущение осталось, как послевкусие сна.
Лисса обернулась к нему, и её голос стал почти шёпотом: «Когда я строила таверну, я хотела, чтобы у неё были корни. А теперь думаю – у неё выросли крылья». Рован кивнул. «Корни, которые летают, – редкое сочетание. Но оно тебе идёт». Она улыбнулась. «Значит, всё не зря». – «Не зря», – тихо сказал он. – «Мир снова умеет дышать. А это значит, он снова сможет мечтать».
Ночь легла окончательно. Фрик спал, свернувшись клубком; Тия тихо смеялась во сне; где-то под крышей шуршала мышь, как редактор, проверяющий паузы. Лисса с Рованом сидели у очага, не говоря больше ни слова. Пламя танцевало, отбрасывая на стены тени, похожие на крылья. Тишина тянулась длинной нитью, и в ней уже звучала завтрашняя песня – та, что споёт утро, когда они проснутся и снова будут просто людьми, живущими в доме, у которого действительно есть сердце.
Глава 23. В которой у чудес появляется инструкция по применению
Утро снова оказалось чересчур трезвым для тех, кто провёл ночь, споря с тишиной. Лисса открыла глаза и сразу почувствовала запах – не дыма, не хлеба, а бумаги. Так пахнут новые указы. На пороге таверны стоял почтовый грифон с мешком писем и выражением лица существа, привыкшего доставлять только плохие новости. Тия, босая, с распущенной косой, пыталась его уговорить хотя бы позавтракать, но грифон сурово отвернулся: долг прежде желудка. Лисса взяла мешок, распечатала сургуч – и в воздухе, будто от вздоха старого чиновника, раздалось сухое «хмм».
В письме значилось: «Согласно постановлению №217 о восстановлении контроля за аномальными проявлениями, владельцам заведений с подозрительно высокой концентрацией чудес предписывается пройти перерегистрацию магических объектов. С уважением, Канцелярия по надзору за непредусмотренными чудесами». Внизу была приписка от руки: «Таверна „Последний дракон“ признана территорией повышенного чудесного риска». Лисса дочитала и, не моргнув, сложила листок вдвое, потом ещё раз, пока бумага не стала похожа на птичку из плохого оригами. – «Вот что значит мир выдохнул», – буркнула она. – «Он снова начал составлять списки».
Рован вошёл, ещё не успев застегнуть ремень, с привычным лицом человека, который ожидает худшего. – «Опять они?» – «Они никогда не „опять“. Они – вечно», – ответила Лисса. – «Смотри, теперь у чудес будет инструкция. С регистрацией, отметками и, возможно, штрафами». Фрик подпрыгнул на стойку, ткнул когтем в печать. – «По крайней мере, шрифт приличный. Это уже шаг к цивилизации». – «Кот, ты не понимаешь. Если они узнают про дракона…» – «Они не узнают. Потому что, дорогая ведьма, если бюрократия и имеет слабость, то это лень читать то, что выходит за пределы третьей страницы».