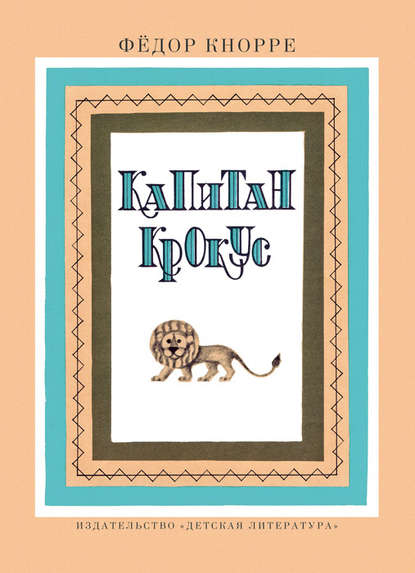Да здравствует фикус!

- -
- 100%
- +
Неплохо. Но запал прошёл. Взгляд Гордона опять упал на рекламу на другой стороне улицы. Даже появилось желание посмеяться над всеми этими постерами – уж такие они слабенькие, не живы – не мертвы, такие неаппетитные. Трудно себе представить, что кто-то может клюнуть на такое! Прям суккубы с прыщавыми задницами![8] Но эти картинки в то же время вгоняли его в депрессию. Всё из-за поганых денег, эти поганые деньги везде и всюду. Гордон украдкой взглянул на Голубого, который отчалил от стеллажей с поэзией и достал большую дорогущую книгу о русском балете. Он держал ее в своих розовеньких, не приспособленных для цепкой хватки лапках, словно белочка орешек, и изучал фотографии. Гордон знал этот тип людей – денежные молодые люди из «артистической среды». Сам по себе явно не художник и не артист, но болтается вокруг да около; завсегдатай студий, любитель поболтать о скандальных историях. Однако привлекательный среди своих гомосексуалов. Кожа на шее сзади гладенькая, шелковистая, перламутровая, как внутри раковины. С доходом в пять сотен в год такой кожей не обзаведешься. Такого типа очарование, такой лоск – удел людей денежных. Деньги и очарование… попробуй, отдели одно от другого!
Гордон подумал о Рейвелстоне, своём очаровательном богатом друге, редакторе «Антихриста», от которого он был без ума, но с которым встречался не чаще двух раз в месяц. Он подумал о Розмари, девушке, которая его любила, обожала… но которая, тем не менее, никогда с ним не спала. Деньги, опять они. Всё из-за денег. Любые отношения между людьми нужно покупать за деньги. Если у тебя нет денег, мужчинам до тебя нет дела, женщины тебя не любят. Да, им нет до тебя никакого дела и они тебя ни капли не любят. И как же они правы, в конце-то концов! Ибо безденежный, ты не достоин любви. Если говорю я языками человеческими и ангельскими… но дальше: если у меня нет денег. А я-то не говорю языками человеческими и ангельскими.
Он снова посмотрел на рекламные постеры. И как же он их ненавидел! Вот этот, например, про Витамолт. «Иди в поход на целый день с одной плиткой Витамолта!» Юная парочка, парень и девица, – все из себя такие чистенькие, волосы живописно развеваются на ветру, – лезут через ограждение на фоне сассекского пейзажа. И что за лицо у этой девицы! Что за дикая радость сорванца на нём! Типа девочек, что любят невинные развлечения. Всем ветрам навстречу. Шортики цвета хаки в обтяжку, но это совсем не значит, что тебе можно ущипнуть её за зад. А рядом с ними этот Роланд Бутта. «Роланд Бутта наслаждается едой с „Бовексом“». Гордон стал рассматривать картинку с привиредливостью охваченного ненавистью человека. Идиотское ухмыляющееся лицо, как у самодовольной крысы, лоснящиеся волосы, дурацкие очки. Вот он, Роланд Бутта, наследник ушедших поколений, прям герой Ватерлоо, Роланд Бутта – эталон Современного человека, каким хочет выдеть его хозяин: послушненький поросеночек в мире денег, попивающий Бовекс.
Мелькают лица, пожелтевшие от ветра. По площади прозвенел трамвай, и часы на «Принце Уэльском» пробили три. Парочка стариков в длинных, прямо до земли, засаленных пыльниках, – то ли бродяга, то ли попрошайка с женой – шаркающей походкой направляются к магазину. Судя по всему, книжные воришки. Нужно присматривать за коробками, что на улице. Старик остановился в нескольких ярдах на обочине, а его жена подошла к двери. Она толчком распахнула дверь и сквозь седые пряди волос взглянула на Гордона одновременно со злобой и с надеждой.
– Книги покупаете? – в её хриплом голосе прозвучала настойчивость.
– Иногда покупаем. Всё зависит от книг.
– Ну у меня-то прелестные книжки.
Голубой через плечо бросил на неё неприязненный взгляд и отошёл на шаг, подальше в угол. Старуха извлекла из-под пыльника небольшой засаленный мешочек. Прошла вперёд, со звоном захлопнув за собой дверь. Она доверительно подошла к Гордону поближе. От неё пахло прогорклым хлебом, очень-очень прогорклым.
– Вот эти возьмёте? – спросила она, сжимая в руке мешок. – За всё про всё полкроны.
– Что это за книги? Позвольте мне их посмотреть.
– Прелестные, – выпалила она и согнулась над открытым теперь мешком, из которого вырвалась резкая струя запаха прогорклого хлеба.
– Во! – воскликнула она и сунула охапку грязных книжек чуть ли не в лицо Гордону.
Это была подборка романов Шарлотты Йондж, издание 1884 года. Вид у книжек был такой, словно на них многие годы кто-то спал. Гордон, не выдержав, отступил назад.
– По всей видимости, мы не можем их купить, – коротко ответил он.
– Чё так, не можем купить? Это ещё почему?
– Потому, что мы не можем их использовать. Такие книги не продаются.
– Чё я тогда вытаскивала их из мешка? – злобно наступала старуха.
Гордон встал с другой стороны, чтобы уйти от запаха, и, не говоря ни слова, распахнул дверь. Спорить нет смысла. В магазин весь день заходят люди такого типа. Старуха, злобно сгорбившись, ворча, вышла из магазина и подошла к мужу. Тот постоял, откашлялся, да так смачно, что слышно было за дверью. Сгусток слизи белым язычком высунулся у него изо рта, после чего был низвергнут в сточную канавку. Потом эти двое поплелись прочь; старые существа, в своих засаленных пыльниках, закрывавших их полностью, до самых пят, они походили на двух жуков.
Гордон смотрел им вслед. Они всего лишь побочные продукты, отбросы в царстве денег. По всему Лондону десятками тысяч плетутся такие вот старики, ползут, как грязные жуки, к своим могилам.
Гордон пристально вглядывался в некрасивую улицу. Сейчас ему кажется, что на такой улице, как эта, и в таком городе, как этот, жизнь любого человека должна быть бессмысленной и невыносимой. Ощущение разложения, упадка, свойственное нашему времени, в нём развито очень сильно. Каким-то образом оно переплеталось с рекламными плакатами напротив. Теперь он смотрит более пристальным взглядом на эти большие ухмыляющиеся лица. В конце концов, в них не просто полнейшая глупость, жадность и вульгарность. Рональд Бутта, блестя в улыбке своими вставными зубыми, кажется оптимистичным. Но что стоит за его ухмылкой? Отчаяние, пустота, предвестники смерти. И разве не видно – если ты умеешь смотреть, – что за этим скользким самодовольством, за этим хихиканьем толстопузой тривиальности, нет ничего, кроме пугающей пустоты, кроме тайного отчаяния? Тяготение к смерти в современном мире. Акты суицида. Засунутые в газовые духовки головы в изолированных ото всех маленьких квартирках. Презервативы и противозачаточные средства. И эхо будущих войн. Вражеские самолёты, летающие над Лондоном, угрожающий рёв пропеллеров, грохот разрывающихся бомб. И всё это написано на лице Роланда Бутты.
Идут новые покупатели. Гордон отходит от окна, принимает джентельменски-подобострастный вид. Звякает дверной колокольчик. Вплывают две леди из высшего слоя среднего класса. Одна – розовенькая и цветущая, лет тридцати пяти, с пышной грудью, выпирающей из-под её беличьей шубки, источает исключительно женственный запах «Пармских фиалок». Вторая – среднего возраста, грубоватая и тёмнолицая, как карри, – вероятно, из Индии. Следом за ними неопрятный, темноволосый молодой человек проскользнул в дверь незаметно, как кот. Он – один из лучших покупателей магазина – такое перелетающее с места на место одинокое существо, слишком застенчивое, чтобы завести разговор, которому с помощью каких-то странных манипуляций удаётся всегда выглядеть так, будто он не брился именно один день.
Гордон повторил свои стандартные фразы.
– Добрый день. Чем я могу вам помочь? Вам нужна какая-то конкретная книга?
Цветущая ошеломила его своей улыбкой, однако тёмнолицая расценила его вопрос как наглость. Проигнорировав Гордона, она потащила цветущую через весь зал к стеллажам с новыми изданиями, рядом с которыми располагались книги о собаках и кошках. Они обе сразу же стали брать с полок эти книги и громко разговаривать. Голос у смуглой был как у сержанта-инструктора. Она, несомненно, была то ли полковничьей женой, то ли вдовой. Голубой, всё ещё поглощенный книгой о русском балете, деликатно отошёл в сторону. У него на лице было написано, что, если его ещё кто-нибудь побеспокоит, то он уйдёт из магазина. Две вышеупомянутые дамы посещали магазин довольно часто. Им всегда хотелось посмотреть книги о кошках и собаках, но они практически никогда ничего не покупали. Такие собачьи-кошачьи книги занимали целых две полки – «Женский уголок», как называл их старина МакКечни.
Прибыла ещё одна посетительница, в библиотеку. Некрасивая девушка, лет двадцати, без шляпки, в белом рабочем халатике, с бледным, простодушно-открытым лицом, в очках с сильными линзами, искажающими глаза. Она работала помощницей в аптеке. Гордон принял вид приветливого библиотекаря. Девушка ему улыбнулась и неуклюжей походкой медведя проследовала за Гордоном в библиотеку.
– Какую книгу вам бы хотелось почитать на этот раз, мисс Уикс?
– Знаете, – начала она, вцепившись в края халата. Её искажённые стеклами глаза цвета чёрной патоки доверчиво блестнули. – Знаете, чего бы и вправду хотелось? Хорошую книжку про страстную любовь. Что-нибудь современное.
– Что-нибудь современное? Может быть, Барбару Бедворти, например? Вы читали у неё «Почти девственница»?
– О, нет, не её. Она слишком Глубокая. Терпеть не могу эти Глубокие книги. А я хочу что-нибудь, ну, вы понимаете, что-нибудь такое современное. Сексуальные проблемы, разводы и всё такое. Вы же понимаете.
– Современное, но не Глубокое, – повторил Гордон как простак простаку.
Он окинул взглядом современные книжки про страстную любовь. Таких в бииблиотеке было не менее трёх сотен. Из главного помещения доходили голоса двух леди из высшего слоя среднего класса – цветущей и тёмнолицей. Они вели дискуссию о собаках. Выбрали книжечку про собак и изучали фотографии. Голосок цветущей выражал восторг от картинки с пикенесом – «такой холеный ангелочек, а глазки такие большие, такие душевные, и холеный чёрненький носик, ох, пупсик!» Но голос тёмнолицей (да, несомненно, полковничья вдова) утверждал, что пикенесы слащавые. Ей подавай крутых собак, которые будут драться, сказала она. Темнолицая терпеть не могла таких слащавых комнатных собачонок, так она утверждала. «Ты такая Бездушная, Беделия», – жалобно звучал голосок цветущей. Колокольчик на двери звякнул вновь. Гордон выдал девушке из аптеки «Семь алых ночей» и записал название в её читательский билет. Аптекарша достала из кармана халата потёртый кожаный кошелёк и заплатила два пенса.
Гордон вышел в главное помещение. Голубой поставил свою книгу обратно, но не на ту полку, и исчез. Вошла тощая прямоносая юркая женщина, в одежде без излишеств, в пенсне в золотой оправе. Возможно, школьная учительница, ну а что феминистка – так это определённо. Она потребовала историю движения суфражисток мисс Уартон-Беверлей. Гордон, втайне радуясь, заявил, что они такого издания не получали. Она пробуравила Гордона убийственным взглядом из-за его мужской некомпетентности и вышла. Худощавый молодой человек с извиняющимся видом продолжал стоять в углу, уткнувшись носом в «Избранные стихотворения» Лоуренса. Он походил на длинноногую птицу, спрятавшую голову под крыло.
Гордон подождал у двери. Снаружи потрёпанный старик благородного вида в замотанном вокруг шеи шарфе цвета хаки и с носом цвета клубники перебирал шестипенсовые книги в коробке. Две леди из высшего слоя среднего класса неожиданно удалились, оставив на столе открытые и разбросанные в беспорядке книги. Цветущей, судя по взглядам, которые она бросала, оборачиваясь назад, не хотелось расставаться с книгами о собаках, но тёмнолицая тянула её за собой, решительно отговаривая что-либо покупать. Гордон придержал дверь. Две леди шумно выплыли на улицу, не обратив на него никакого внимания.
Гордон смотрел, как удаляются спины в меховых шубках этих представительниц высшего слоя среднего класса. Старик с клубничного цвета носом разговаривал сам с собой, роясь в книгах. Вероятно, с головой не совсем в порядке. Может стащить что-нибудь, если за ним не следить. Подул более холодный ветер, подсушивая уличную слякость. Пора зажигать свет. Подхваченная порывом ветра полоска бумаги, оторванная от рекламы соуса, билась на ветру, как бельё на верёвке. Ах, вот оно:
Здесь ветра злобные порывыНагие клонят тополя.Его бичи хлестают трубы,Завесы дымные стеля…Холодным звуком отдаётся......Плакат рекламный бьётся, рвётся…Неплохо, совсем неплохо. Но желания продолжать не появилось. Право, он не может сейчас продолжать. Он потрогал деньги в карманах, осторожно, чтобы они не звенели, дабы стеснительный молодой человек не услышал. Два пенса полпенни. Весь завтрашний день без табака. У него заломило в суставах.
В «Принце Уэльском» вспыхнул свет. Они, должно быть, протирают барную стойку. Старик с клубничного цвета носом читал Эдгара Уоллеса из двухпенсовой коробки. Неподелёку прозвенел трамвай. В комнате наверху мистер МакКечни, который редко спускается в магазин, дремлет у газового камина. Белые волосы, белая борода, под рукой табакерка, перед носом фолиант Миддлтона «Путешествия в Леванте» в телячьем переплёте.
До худощавого молодого человека внезапно доходит, что он один остался в книжном магазине; он с виноватым видом поднимает глаза. Завсегдатай книжных магазинов, он никогда не задерживается ни в одном из них дольше десяти минут. В нём постоянно борются непреодолимый голод до книг и боязнь доставить неудобство. После десятиминутного пребывания в любом магазине он начинает чувствовать себя неловко, ему кажется, что это уже de trop[9], и он вылетает из магазина, купив что-нибудь исключительно из-за своей нервозности. Ничего не сказав, он протягивает Гордону томик стихов Лоуренса и неуклюже извлекает из кармана три шиллинга. Протягивая их Гордону, он роняет один. Оба наклоняются одновременно, сталкиваются лбами. Молодой человек распрямляется, густо покраснев.
– Я вам заверну, – предлагает Гордон.
Но стеснительный молодой человек крутит головой – он так сильно заикается, что никогда не разоваривает, если этого можно избежать. Он прижимает книжку к себе и выскальзывает из магазина с таким видом, будто совершил нечто предосудительное.
Гордон остаётся один. Он проходит обратно, к двери. Тот, что с клубничным носом, бросает взгляд через плечо, ловит на себе взгляд Гордона и уходит ни с чем. Он нацелился было на Эдгара Уоллеса – готов уже был засунуть его себе в карман.
Часы на «Принце Уэльском» пробили четверть четвёртого.
Дин-дон! Четверть четвёртого. В половине включить свет. Четыре и три четверти часа до закрытия. Пять с четвертью часов до ужина. В кармане два пенса и полпенни. Завтра – без табака.
И вдруг Гордона охватило непреодолимое желание закурить. Ещё раньше он дал себе слово не курить сегодня после полудня. Осталось только четыре сигареты. Нужно сохранить их до вечера, когда он намеревается «писать», потому что он не может «писать» без табака. Ему это важнее, чем воздух. И, тем не менее, он должен закурить. Гордон достал пачку «Плэйерз Уэйтс» и извлёк из нее одну мини-сигаретку. Такая глупая уступка самому себе: она означает, что время на «писание» сокращается на полчаса. Но никакого сопротивления не последовало. С некоторого рода постыдным удовольствием он втянул дым в лёгкие.
Его собственное лицо, отражаясь, смотрело на него с серовато стекла. Гордон Комсток, автор «Мышей»; en l'an trentiesme de son eage[10], а уж такой потрёпанный. Только двадцать шесть зубов осталось. Однако у Вийона в этом же возрасте был сифилис. Хоть от этого бог миловал.
Гордон смотрел, как бьётся на ветру оторванная от рекламы соуса бумажная полоска. Наша цивилизация умирает. Это точно – она умирает. Но она не умрёт спокойно, в своей кровати. Вот приближаются самолёты. Зууум… бабаах! Весь западный мир взлетит на воздух средь грохота взрывов.
Он посмотрел на темнеющую улицу, на сереющее отражение своего лица в стекле, на плетущиеся мимо потрепанные фигуры прохожих. Почти непроизвольно Гордон повторил эти строки: «C'est l'Ennui – l'œil chargé d'un pleur involontaire, Il rêve d'échafauds en fumant son houka!»[11]
Деньги, деньги! Рональд Бутта! Гул самолётов и грохот бомб.
Гордон, прищурившись, посмотрел на свинцовое небо. Эти самолёты приближаются. В своём воображении он увидел, как они приближаются уже сейчас. Эскадрон за эскадроном, бесчисленное количество, небо потемнело от них, как от комариных туч. Имитируя гудение самолётов, Гордон прижал язык к зубам и издал жужжащий звук, звук бьющейся о стекло мухи. И это был именно тот звук, который страстно желал услышать Гордон в этот момент.
II
Гордон шёл домой навстречу грохочущему ветру, который отбрасывал волосы назад, как никогда подчёркивая его «хороший» лоб. Манера, которую он демонстрировал прохожим (по крайней мере, он надеялся, что это так) говорила о том, что, если он и не носит пальто, что это из чистого каприза. На самом же деле пальто было заложено за пятнадцать шиллингов.
Уиллоубед-роуд, на северо-востоке, нельзя было назвать трущобой, но мрачной и унылой улицей – вполне.[12] Настоящие трущобы находились всего лишь в пяти минутах ходьбы от неё. Это там, где в многоквартирных домах семьи спали по пять человек на одной кровати, и, когда один из них умирал, спали по ночам вместе с трупом, пока его не захоронят; это там, где в переулках у облезлых стен шестнадцатилетние мальчишки лишали девственности пятнадцатилетних девчонок. Однако Уиллоу-роуд умудрялась держаться с достоинством мелочного среднего класса самого низкого уровня. На одном из домов даже была медная табличка дантиста. В гостиничных окнах многих домов (почти две трети из всех) среди кружевных занавесок, над листвой аспидистры, красовалась зеленая табличка, на которой серебряными буквами было выведено – «Апартаменты».
Мисс Уисбич, хозяйка квартиры, где жил Гордон, специализировалась на «одиноких джентльменах». Спальня, она же и гостиная, газовое освещение включено в стоимость, обогрев помещения – ваша проблема, ванна (с газовой колонкой) за дополнительную плату и еда в тёмной, как могила, столовой за столом с выстроившейся посредине фалангой бутылочек с засохшими соусами. Гордон, приходивший днём к обеду, платил двадцать семь шиллингов и шесть пенсов в неделю.
Через матовую фрамугу над дверью с номером 31 проникал жёлтый свет газового светильника. Гордон достал ключ и постарался воткнуть его в замочную скважину – в такого рода домах ключи никогда как следует не вставляются. Маленькая темноватая прихожая – точнее, просто проход. Запах помоев, капусты, половиков и содержимого ночных горшков. Гордон бросил взгяд на японский поднос в прихожей. Конечно же, писем нет. Он же заранее говорил себе – не надеяться на письмо, а ведь всё равно продолжает надеяться. Какое-то ноющее чувство, не сказать, чтобы боль, – засело в груди. Уж могла бы Розмари написать! Четыре дня прошло с тех пор, как она писала. А кроме того, он отослал в журналы парочку стихотворений, и они до сих пор к нему не вернулись. Единственное, что делало вечера сносными, – это письма, которые поджидали его возвращения дома. Однако писем он получал очень мало: самое большее – четыре, пять в неделю.
Слева от прихожей раполагалась никогда не использовавшаяся гостиная, далее шла лестница, а над ней проход, который вёл в кухню и в неприступное логово самой мисс Уисбич. Гордон вошёл, дверь в конце прохода открылась на фут или около того. Появилось лицо мисс Уисбич. Она быстро и подозрительно оглядела Гордона, и лицо сразу же исчезло. Войти в дом или выйти из него в любое время до восьми вечера и не подвергнуться такому внимательному изучению было практически невозможно. Трудно сказать, в чём именно могла подозревать вас мисс Уисбич. Возможно, в том, что вы тайком проведёте в её дом женщину. Она была одной из тех злобных приличных женщин, которые содержат подобные дома. Лет около сорока пяти, дородная и деятельная, розовое лицо с правильными чертами, лицо, ужасно всё подмечающее, прекрасные седые волосы и постоянно обиженный вид.
Гордон остановился внизу у лестницы. Сверху раздавался хриплый густой голос. «Кто боится большого плохого волка?». Очень толстый мужчина, лет тридцати восьми или тридцати девяти, легкой танцующей походкой, не свойственной таким толстякам, вышел из-за поворота на лестницу. На нём нарядный серый костюм, жёлтые туфли, лихая фетровая шляпа и синее пальто с поясом – ошеломляюще пошлый вид. То был Флэксман, квартирант с первого этажа, выездной представитель фирмы «Туалетные принадлежности Королевы Шебы». Спускаясь, он в знак приветствия поднял лимонного цвета перчатку.
– Привет, парнище! – беспечно проговорил Флэксман. (Он всех называл «парнище».) – Как жизнь?
– Хреново, – отрезал Гордон.
Флэксман спустился с лестницы. Его пухлая рука мягко легла Гордону на плечи.
– Не падай духом, старик! Выглядишь ты как на похоронах. Я иду к Крайтонам. Давай со мной! Не тормози!
– Не могу. Мне надо работать.
– О, чёрт! Что такой не компанейский? И хочется тебе здесь просиживать? Идём к Крайтонам, пощипем там барменшу за задницу.
Гордон высвободился из-под руки Флэксмана. Как все небольшие и хрупкие люди он терпеть не мог, когда его трогали. Флэксман только усмехнулся в типичной для толстяков добродушной манере. Он и правда был ужасно толстый. Казалось, чтобы заполнить собой брюки, он сначала растаял, а потом в них вылился. Но, конечно же, как и все толстые люди, он никогда не считал себя толстым. Ни один толстый человек не будет употреблять слово «толстый», если есть какой-либо способ этого избежать. «Дородный» – вот какое слово они употребят, или, ещё лучше – «крепкий». При первой своей встрече с Гордоном Флэксман готов был назвать себя «крепким», но что-то в зеленоватых глазах Гордона его остановило. Он пошёл на компромисс и вместо этого сказал «дородный».
– Я должен признать, парнище – сказал он, – что я… так слегка раздобрел, дородный стал. Здоровью-то это не вредит, как ты понимаешь. – Он погладил себя по расплывшейся границе между животом и грудной клеткой. – Хорошая крепкая плоть. И на подъём-то я быстрый, это факт. Хоть, впрочем, думаю… можно сказать, что я «дородный».
– Как Кортес, – предложил Гордон.
– Кортес? Кортес? Это тот парнище, что всё бродил по горам в Мексике?
– Да, тот самый парень. Но был дородный, но глаза – как у орла.
– Да ну? Тогда это забавно. Потому как жена однажды сказала мне кое-что похожее. «Джордж, – сказала она. – У тебя самые прекрасные глаза в мире. У тебя глаза, как у орла». Так и сказала. Но это было до того, как она вышла за меня, сам понимаешь.
В настоящее время Флэксман не жил с женой. Некоторое время тому назад компания «Туалетные принадлежности Королевы Шебы» неожиданно выплатила бонус в тридцать фунтов всем разъездным сотрудникам, а Флэксман в то самое время, вместе с двумя его коллегами, был направлен в Париж, навязывать помаду с новым сексапильным натуральным оттенком французским фирмам. Флэксман не посчитал необходимым упоминать жене о тридцати фунтах. Ну, и конечно, поразвлёкся в Париже по полной. Даже сейчас, спустя три месяца, при упоминании об этом у него начинали течь слюнки. Он раньше имел обыкновение развлекать Гордона смачными описаниями. Десять дней в Париже с тридцатью фунтами, о которых жёнушка понятия не имела! Это что-то! Но, к сожалению, где-то просочилось; вернувшись домой, Флэксман обнаружил, что возмездие его уже поджидает. Жена разбила ему голову хрустальным графином для виски (то был свадебный подарок, который хранился у них четырнадцать лет), а потом сбежала домой к маме, прихватив с собой детей. Ганс Флэксман был изгнан на Уиллоубед-роуд. Но он не унывал. Всё, вне сомнения, рассосётся – раньше такое тоже случалось, уже несколько раз.
Гордон сделал ещё одну попытку проскользнуть на лестницу мимо Флэксмана. Самое ужасное заключалось в том, что ему очень хотелось пойти с Флэксманом. Ему очень нужно сейчас выпить. От одного упоминания о «Гербе Крайтона» у него пересыхало в горле. Но пойти туда, конечно же, невозможно – у него нет денег. Флэксман положил руку на перила, загородив ему проход. Он искренне симпатизировал Гордону, считал его «одарённым», а «одарённость» для него означала некоторого рода милое помешательство. А кроме того, он не любил оставаться в одиночестве, даже на такое короткое время, как прогулка до паба.
– Идём же, парнище! – уговаривал он. Тебе нужно подкрепиться «Гиннессом», да ты и сам этого хочешь. Ты ещё не видел новую девочку у них в баре. Это что-то! Персик! Прямо для тебя.
– Так вот почему ты так разоделся? – сказал Гордон, холодно посмотрев на жёлтые перчатки Флэксмана.
– Стоит того, парнище! Ох, что за персик! Пепельная блондинка. И знает ещё пару таких вещичек! Вчера вечером я дал ей помаду, эту нашу «Сексапильный натуральный оттенок». Ты бы видел, как она вертела задницей, проходя мимо моего столика. Думаешь, даст мне ущипнуть? Нет, это что-то!