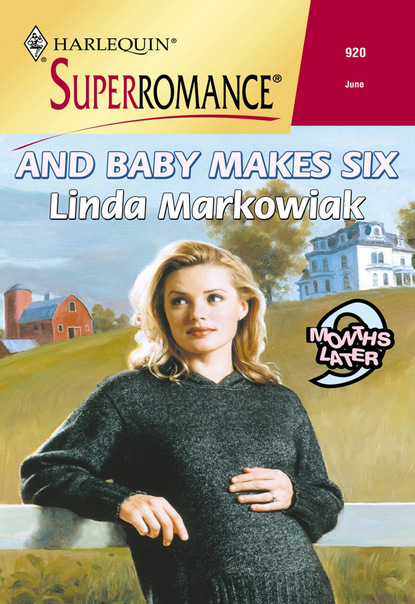Да здравствует фикус!

- -
- 100%
- +
Флэксман похотливо изогнулся, высунув кончик языка. Потом, неожиданно притворившись, будто Гордон не Гордон, а пепельная блондинка, Флэксман схватил его за талию и нежно сжал. Гордон отпихнул его прочь. На какой-то момент желание пойти в «Герб Крайтона» нахлынуло с такой силой, что он едва его одолел. О! Пинта пива! Казалось, он чувствует, как пиво течёт у него по горлу. Если бы только у него были деньги! Хоть бы и семь пенсов за кружку. Да что толку! У него в кармане всего два пенса полпенни. Нельзя допускать, чтобы за тебя платили другие.
– О, Бога ради, оставь меня в покое! – раздражённо проговорил он, отступая от Флэксмана в сторону, и, не оглядываясь, пошёл вверх по лестнице. Флэксман, слегка обидевшись, надел шляпу и отправился к входной двери. Гордон мрачно размышлял о том, что теперь всегда так и получается. Вечно он пренебрегает дружескими предложениями. Конечно, это всё из-за денег, всегда из-за денег. Невозможно поддерживать дружеские отношения, даже просто быть вежливым, если у тебя в кармане нет денег. Его охватил приступ жалости к самому себе. Сердцем он рвался в бар к Крайтонам. Приятный запах пива, тёплый яркий свет, весёлые голоса, звон кружек у влажной от пива барной стойки. Деньги, деньги! Гордон продолжал подниматься по тёмной, противно пахнущей лестнице. Мысль о своей холодной одинокой комнате на верхнем этаже казалась ему смертным приговором.
На втором этаже жил Лоренгайм. Тёмное, тощее, похожее на ящерицу существо неопределённого возраста и расы. Он зарабатывал около тридцати пяти шиллингов в неделю на рекламе пылесосов. Гордон всегда поспешно проходил мимо его двери. Лоренгайм был одним из тех людей, у которых нет ни одного друга во всём мире и которые изголодались по общению. Его одиночество было столь ужасным, что стоило вам всего лишь немного замедлить шаги около его двери, как он готов был наброситься на вас и отчасти затащить, отчасти заманить вас лестью к себе, чтобы вы послушали его параноидальные бредни о девушках, которых он соблазнил, и работодателях, которых он послал. А комната у него была настолько холодной и убогой, что даже меблированные комнаты не имеют права быть такими. Там вечно повсюду валялись наполовину объеденные кусочки хлеба с маргарином. В доме был и ещё один квартирант; какой-то инженер, работавший по ночам. Гордон сталкивался с ним лишь иногда. Массивный мужчина с мрачным, бесцветным лицом; и в доме, и на улице он носил шляпу-котелок.
Привычный к темноте в комнате, Гордон нащупал газовый рожок и зажёг свет. Его комната была среднего размера; не настолько большая, чтобы её можно было перегородить занавесом на две, и не слишком большая для того, чтобы её можно было в достаточной мере обогреть одной дефективной масляной горелкой. Мебель в ней была именно такая, какую предположительно можно встретить в задних комнатах на самом верхнем этаже. Узкая кровать, застеленная белым одеялом, коричневый линолеум на полу, стоячий рукомойник с кувшином и тазом (дешевые белые предметы обихода, глядя на которые невозможно не вспомнить о ночных горшках). На подоконнике болезненного вида аспидистра в зелёном глазурованном горшке.
Кроме всего прочего имелся ещё кухонный стол под окном, покрытый зелёной скатертью с пятнами от чернил. Он служил Гордону «письменным столом». Вынудить мисс Уинсбич дать ему этот кухонный стол вместо «обычного» бамбукового (простой подставки для аспидистры), который она считала подходящим для задней комнаты на самом верху, – удалось только после жёстокой битвы. И даже теперь продолжались бесконечные бои из-за того, что Гордон никогда не разрешал «прибирать» свой стол. На столе постоянно царил беспорядок. Стол почти весь был завален кучей бумаг: где-то две сотни листов одного формата, грязных и с загнутыми краями, и на всех на них было что-то написано, потом зачёркнуто, потом написано снова – своего рода путаный лабиринт бумаг, ключ к которому был только у Гордона. На всём этом лежал слой пыли и стояло несколько грязных пепельниц, содержимое которых составлял табачный пепел и скрученные бычки от сигарет. Кроме нескольких книг на каминной полке, этот стол с бумажным беспорядком был единственной личностной деталью всей этой комнаты.
Было зверски холодно. Гордон подумал, не зажечь ли керосиновую горелку. Он поднял её кверху – очень уж лёгкая. Запасная банка для керосина тоже пуста. Никакого керосина до пятницы. Он поднёс спичку; тусклое жёлтое пламя неохотно поползло по фитилю. Если повезёт, может погореть пару часов. Когда Гордон выбросил спичку, взгляд его упал на аспидистру в блестящем зелёном горшке. Исключительно убогий экземпляр. У неё только семь листьев, и не похоже, что она когда-либо выпустит новые. С аспидистрой у Гордона шла особенная тайная борьба. Не один раз предпринимал Гордон попытки её убить: оставлял без воды, тёр о её стебель горячие сигаретные окурки, даже подмешивал ей соль в землю. Но эти зверские твари практически бессмертны. При любых обстоятельствах, увядающие и болезненные, они умудряются продолжать своё существование. Гордон встал и намеренно вытер пальцы в керосине о листья аспидистры.
В этот самый момент с лестницы донёсся сварливый голос мисс Уисбич:
– Мистер Ком-сток!
Гордон подошёл к двери.
– Да, – отозвался он.
– Ваш ужин дожидается вас вот уже десять минут. Почему бы вам не спуститься и не поесть, и не заставлять меня ждать, пока я смогу помыть посуду.
Гордон пошёл вниз. Столовая была на первом этаже, в заднем конце дома, напротив комнаты Флэксмана. Холодная, пропахшая разными запахами комната, сумрачная даже в середине дня. В ней было так много аспидистр, что Гордон их так никогда точно и не пересчитал. Аспидистры были повсюду: на буфете, на полу, на «обычных» столиках; на окне было что-то вроде подставки для цветов, преграждавшей путь свету. Находившемуся в такой полутьме в окружении аспидистр, начинало казаться, что он в оквариуме среди мрачной листвы подводных цветов, куда не проникает солнце. Ужин был накрыт и ждал Гордона в круге белого света, отбрасываемом на скатерть треснувшим газовым рожком. Гордон сел спиной к камину (вместо огня там стояла аспидистра), сьел порцию холодной говядины, два куска крошащегося белого хлеба с канадским маслом, кусочком сыра, похожим на тот, что закладывают в мышеловку, но с приправой «Пан Ян», и выпил стакан холодной, но при этом затхлой воды. Когда он вернулся в комнату, газовая горелка продолжала гореть, более или менее. Довольно горячая, подумал он, можно даже чайник вскипятить. А теперь – главное событие вечера: запретная чашка чая. Почти каждый вечер он готовил себе чай, чрезвычайно секретно. Мисс Уисбич отказывалась давать своим постояльцам чай на ужин, ибо для неё было бы «слишком обременительно лишний раз греть воду». В то же время, заваривать чай у себя в комнате категорически запрещалось. Гордон с отвращением посмотрел на кучу бумаг на столе. Он решительно сказал себе, что не будет сегодня вечером работать. Выпьёт чашечку чая, выкурит оставшиеся сигареты и почитает «Короля Лира» или «Шерлока Холмса». Его книги стояли на каминной полке, рядом с будильником: Шекспир (издание «Эвримен»), «Шерлок Холмс», сборник стихов Вийона, «Родрик Рэндом», «Les Fleurs du Mal»[13] и стопка французских романов. Но в последнее время он не читал ничего, кроме Шекспира и «Шерлока Холмса». Ну и вот, чашка чая.
Гордон подошёл к двери, приоткрыл её и прислушался. Мисс Уисбич не слышно. Действовать нужно очень осторожно: мисс Уисбич способна прокрасться наверх и засечь вас на месте преступления. Приготовление чая было самым серьёзнам правонарущением, наряду с приглашением женщины. Гордон тихо запер дверь на задвижку, вытащил из-под кровати дешёвый чемоданчик и открыл его. Из чемодана он извлёк шестипенсовый вулвофский чайник, пакетик Лионского чая, баночку сгущёного молока, заварной чайник и кружку. Всё это запаковано в газету, дабы не допустить звяканья посуды.
У Гордона была своя устоявшаяся процедура приготовления чая. Вначале он наполовину наполнял водой из кувшина большой чайник и ставил его на газовую горелку. Затем вставал на колени и расстилал перед собой кусочек газеты. Конечно же, вчерашняя заварка всё ещё оставалась в заварном чайнике. Он вытряхивал её на газету, протирал чайник большим пальцем и заворачивал старую заварку в свёрток. Потом он тайно проносил его вниз. Этот процесс избавления от использованной заварки был самым рискованным этапом. С подобными трудностями сталкиваются убийцы, избавляясь от тела жертвы. Что же касается кружки, то он всегда мыл её в своём рукомойнике уже утром. Грязное дело. Иногда его от всего этого тошнило. Странно, какую тайную жизнь приходилось вести, проживая в доме мисс Уисбич. Возникало чувство, что она постоянно за тобой следит. Она, и право, в любое время могла пройтись на цыпочках туда-сюда по лестнице в надежде застукать жильцов во время какой-нибудь проказы. Это один из таких домов, где ты не можешь даже спокойно пойти в туалет – постоянное ощущение, что кто-то тебя подслушивает.
Гордон отодвинул задвижку на двери и внимательно прислушался. Ни звука. Чу! В самом низу стучат посудой. Мисс Уинбич моет после ужина. Тогда, вероятно, можно безопасно спускаться.
Он пошёл на цыпочках вниз, прижимая к груди влажный свёрток с заваркой. Туалет на втором этаже. У поворота лестницы Гордон остановился, опять прислушался. Вот! Опять стук посуды.
Вот оно как! Гордон Комсток, поэт («исключительно многообещающий», по словам литературного приложения «Таймс»), поспешно проскользнул в туалет, бросил заварку в канализацию и дёрнул за спуск. Затем поспешно вернулся в комнату, запер дверь на задвижку и, предприняв все предосторожности, чтобы не шуметь, заварил себе свежий чай.
Комната уже довольно сносно прогрелась. Чай и сигарета сотворили своё недолговечное волшебство. Гордон немного подобрел и почувствовал, что ему не так уж и тоскливо. Может, чуточку поработать? Конечно, он должен работать. Проведя целый вечер впустую, он потом, впоследствии, всегда начинал себя за это укорять. Без особого желания он пододвинул стул к столу. Нужно было сделать над собой усилие даже для того, чтобы разворошить эти страшные горы бумаги. Он пододвинул к себе несколько грязноватых листов, расправил их и рассмотрел. Боже, какая путаница! Написано, зачёркнуто, написано сверху, снова зачёркнуто. Страницы выглядят как искромсанные раковые больные после двадцати операций. Однако почерк там, где не было перечёркнуто, – аккуратный, «академический». Много трудов стоило Гордону добиться такого «академического» письма, столь отличного от того дурацкого «каллиграфического» почерка, которому учили его в школе.
Может, он бы и поработал… в крайнем случае, недолго. Он порылся в бумажном мусоре. Где же этот отрывок, над которым он трудился вчера? Чрезвычайно длинная поэма… вот она, да-да, будет чрезвычайно длинной, когда будет закончена, две тысячи строк, что-то в этом роде, и строфа королевская,[14] описание одного дня в Лондоне. «Прелести Лондона», так она называется. Огромный амбициозный проект, такого рода вещи могут себе позволить только люди с массой свободного времени. Этот факт Гордон не учёл, когда приступил к созданию поэмы. Но теперь до него дошло. И с каким лёгким сердцем он её начинал два года назад! Когда он всё бросил и спустился в трущобы бедности, концепция этой поэмы была отчасти тому причиной. Тогда он был уверен, что это ему по плечу. Однако по какой-то причине, почти с самого начала, с «Прелестями Лондона» что-то не заладилось. Слишком большая задача для него, вот в чём дело. Поэма практически никак не продвигалась, она просто рассыпалась на части, на серию фрагментов. И после двух лет работы всё, что он мог показать, – это только серия фрагментов; незавершённые сами по себе, они никак не объединяются в одно целое. На каждом из этих листов бумаги только разрозненные клочки стихов, которые были написаны, и переписаны, а потом переписывались опять с перерывами в месяцы. Не было и пятисот строчек, которые с уверенностью можно было бы назвать завершёнными. И у него больше не было сил что-то добавлять. Он только мог возиться с тем или иным отрывком, натыкаясь в разных местах на какой-то сумбур. Теперь это уже не та вещь, которую он создавал, а один ночной кошмар, через который он пытается прорваться.
Что до всего остального, то за целых два года он не написал ничего, кроме горстки коротких стишков; всего, наверно, десятка два. Он редко добивался внутреннего спокойствия, при котором можно работать над поэзией (да и прозой, если уж на то пошло). Зато периоды, когда он «не мог» писать, становились обыденностью. Из людей разного рода только человек искусства берёт на себя смелость заявить, что он «не может» работать. Хотя это абсолютная правда. Действительно, существуют периоды, когда такой человек не может работать. Даньги, снова деньги… всегда деньги! Нехватка денег создаёт дискомфорт, заставляет беспокоиться по мелочам, из-за неё тебе нечего курить, она ведёт к постоянному осознанию собственного провала, а главное – к одиночеству. И как можно не быть одноким, если получаешь два фунта в неделю? А в одиночестве не было написано ни одной достойной книги. Абсолютно ясно, что «Прелести Лондона» никогда не станут поэмой, которую он замыслил; и к тому же, абсолютно ясно, что поэма эта никогда не будет закончена. Гордон признавал эти факты, только когда сталкивался с ними лицом к лицу.
Но он всё равно, и скорее даже именно по этой самой причине, продолжал писать. Ему необходимо было за что-то зацепиться. Способ ответного удара по бедности и одиночеству. Да и были, в конце концов, периоды, когда творческий настрой возвращался, – так, по крайней мере ему казалось. Вот сегодня вечером он вернулся, хоть и ненадолго, хоть и на то время, пока он выкурит две сигареты. Пока дым щекотал лёгкие, Гордон отстранился от убогой реальности мира. Его сознание воспарило в те бездны, где создаётся поэзия. Над головой успокаивающе напевал газовый рожок. Слова становились живыми и значительными. Его взгляд остановился с сомнением на написанном год назад незавершенном двустишии. Он повторял его про себя, снова и снова. Что-то в нём не так. Год назад оно казалось нормальным, а теперь совсем иначе – слегка вульгарным. Он стал рыться в груде дурацкой писанины, пока не нашёл лист, не исписанный на обороте, перевернул его, написал двустишие заново, написал с дюжину новых вариантов, много раз повторяя каждый из них про себя. В конце концов, ни один из них его не устроил. Двустишие не получилось. Оно дешёвое и вульгарное. Он нашёл листок с первоначальным вариантом и замазал двустишие жирными линиями. От этого у него появилось ощущение, что он чего-то добился, что время не потрачено зря, словно разрушение результата больших усилий неким образом обернулось делом созидательным.
От неожиданного стука во входную дверь внизу зажребезжал весь дом. Гордон вздрогнул. Он вернулся с неба на землю. Почта! О «Прелестях Лондона» было забыто.
Сердце Гордона затрепетало. Может быть, Розмари написала. Да ещё были два стихотворения, которые он отправлял в журналы. Правда, одно из них он уже считал провалившимся – он отправил его в Америку, в «Калифорнийское ревью» несколько месяцев назад. Вероятно, они даже не считают нужным отсылать обратно. Ещё одно было в английском ежеквартальном журнале «Примроуз». На это он лелеял смелые надежды. Ежеквартальник «Примроуз» являлся одним из тех отвратительных литературных журналов, в которых модные голубенькие мальчики и профессиональные римские католики шли bras dessus, bras dessous.[15] Однако этот журнал вот уже долгое время сохранял репутацию самого влиятельного в Англии. Будучи напечатанным там хоть единожды, ты уже имел имя. В глубине души Гордон понимал, что «Примроуз» никогда не напечатает его стихотворений. Он не подходил под их стандарты. И всё же, чудеса когда-то, да случаются. Ну, если и не чудеса, так хоть случайности. В конце концов, вот уже шесть недель, как они держат его стихотворение. Стали бы они его так долго держать, если бы не собирались напечатать? Гордон постарался подавить безумную надежду. Но, на худой конец, оставался шанс, что ему написала Розмари. С тех пор, как она писала, прошло целых шесть дней. Если бы она знала, как он расстроен, она бы так не поступала. Её письма – длинные, порой бессвязные, полные абсурдных шуточек и заверений в любви – означали для него гораздо больше, чем он мог себе вообразить. Они являлись напоминанием о том, что в этом мире есть человек, который о нём заботится. Они даже были утешением в тех случаях, когда всякие уроды возвращали назад его стихи. По правде говоря, журналы всегда возвращали его стихи; исключение составлял лишь «Антихрист», редактором которого был личный друг Гордона, Рейвелстон.
Внизу послышались шаркающие шаги. Всегда проходило несколько минут, прежде чем она приносила письма наверх. Перед тем, как отдать письма адресатам, она любила их прощупать, стараясь определить, толстые ли они, прочитать почтовые штемпели, рассмотреть их на свет и попробовать догадаться, что в них написано. Она, в каком-то смысле, практиковала в отношении писем droit du seigneur.[16] Раз уж письма попадали к ней в дом, то, по её представлениям, они отчасти принадлежали ей. Она приходила в негодование, если ты спускался к входной двери и сам забирал свои письма. С другой стороны, она негодовала и по поводу того, что на ее долю выпадает труд нести эти письма наверх. Были слышны её шаги, когда она медленно поднималась по лестнице, а потом, если там оказывалось письмо для тебя, с лестничной площадки раздавалось громкие обиженные вздохи. Всё для того, чтобы ты знал: это из-за тебя мисс Уисбич тащилась по лестнице и теперь задыхается. В конце концов, нетерпеливо кряхтя, она подсовывала письма под твою дверь.
Мисс Уисбич поднималась по ступенькам. Гордон прислушался. Шаги остановились на первом этаже. Письмо Флэксману. Идёт дальше, пауза на втором этаже. Письмо инженеру. У Гордона болезненно заколотилось сердце. Письмо, пожалуйста, Боже. Письмо! Ещё шаги. Поднимается или спускается? Несомненно, шаги приближаются! Но нет. Нет! Их звук всё слабее. Она спускается. Шаги замерли. Писем нет.
Гордон опять взял ручку. Абсолютно бесполезный жест. Он же вообще ничего не написал! Вот паршивец! Не малейшего намерения хоть немного поработать. Да он и не мог. Разочарование выбило у него почву из-под ног. Всего лишь пять минут назад поэма казалась ему живой, теперь же он не сомневался, что это бесполезная чушь. С какой-то нервной брезгливостью он собрал вместе все раскиданные листы, сложил их в одну неаккуратную стопку и задвинул её на другой край стола, под аспидистру. Один их вид стал для него невыносим.
Он поднялся. Ложиться спать слишком рано; по крайней мере, он сейчас не настроен. Хоть бы какое-то небольшое развлечение, – с тоской подумал Гордон, – дешевое и простое. Посмотреть кино, сигареты, пиво. Бесполезно! Денег нет ни на что. Обычно он читал «Короля Лира» и забывал о своём отвратительном веке. Однако под конец он остановился на «Приключениях Шерлока Холмса» – их-то он и взял с камина. Это его любимая книга, потому что он знал её наизусть. Керосин в горелке заканчивался, и становилось зверски холодно. Гордон сдернул с кровати одеяло, обернул им ноги и уселся читать. Положив локоть правой руки на стол и засунув руки под одеяло, чтобы они не мёрзли, он стал читать «Пёструю ленту». Наверху вздыхал газовый светильник, тёплые круги керосиновой лампы становились всё меньше, тоненький браслет её огня давал тепла не больше, чем свеча.
Внизу, в логове мисс Уисбич часы пробили половину одиннадцатого. Ночью всегда слышно, как они бьют. Бум-бом, бум-бом – то рока звон! Снова стало отчётливо слышно тиканье будильника на камине, как напоминание о зловещей поступи времени. Гордон огляделся вокруг. Ещё один вечер потерян впустую. Часы, дни, годы проходят впустую. Один вечер за другим, и всё то же самое. Одинокая комната, кровать без женщины, пыль, пепел от сигарет, листья аспидистры. А ему тридцать, почти тридцать. Исключительно из желания досадить самому себе он вытащил стопку «Прелестей Лондона», разложил запачканные листы и посмотрел на них как смотрят на надпись memento mori.[17] «Прелести Лондона» Гордона Комстока, автора «Мышей». Его magnum opus.[18] Плод (и в самом деле, плод!) двух лет работы… вот этот самый беспорядочный лабиринт слов! И достижение сегодняшнего вечера: две вычеркнутые строчки. На две строчки вернулся назад, вместо продвижения вперёд.
Горелка слабо икнула и погасла. Гордон заставил себя подняться и сбросить одеяло на кровать. Лучше, наверно, забраться в кровать, пока не стало холоднее. Он побрёл к кровати. Чуть не забыл, завтра работа. Завести часы, поставить будильник. Ничего не получилось, ничего не сделано. Незаслуженный ночной отдых.
Прошло какое-то время, прежде чем он собрался с силами, чтобы раздеться. Примерно с четверть часа он пролежал в кровати одетый, заложив руки за голову. На потолке была трещина, похожая на карту Австралии. Туфли и носки Гордон умудрился снять не садясь. Он поднял одну ногу и посмотрел на неё. Тонкая нога, и размер маловат. Неважная нога, как и руки. И грязная к тому же. С тех пор, как он принимал ванну, прошло почти десять дней. Устыдившись своей грязной ноги, он принял сидячую позу и, согнувшись, разделся, бросив одежду на пол. Затем выключил свет и пролез под одеяло, дрожа от холода, так как разделся догола. Он всегда спал голым. Его последняя пижамная пара закончила свой жизненный путь более года назад.
Часы внизу пробили одиннадцать. Когда перестал чувствоваться холод простыней, Гордон мысленно вернулся к стихотворению, которое начал сегодня утром. Он шёпотом повторил первую, законченную им строфу:
Здесь ветра злобного порывыНагие клонят тополя.Его бичи хлестают трубы,Завесы дымные стеля…Холодным звуком отдаётся......Плакат рекламный бьётся, рвётся…Рифмы прыгали туда-сюда. Тик – ток, тик – ток! Их ужасная, механическая пустота его ужаснула. Похоже на бесполезную маленькую машинку, которая тикает сама по себе. Рифма к рифме, тик-ток, тик-ток. Как кивающая заводная кукла. Поэзия! Полная бесполезность. Он лежал без сна, думая о собственной бесполезности, о своих тридцати годах, о том тупике, в который он сам завёл свою жизнь.
Часы пробили двенадцать. Гордон вытянул ноги. Кровать согрелась и стала удобной. Луч от машины, проходившей по параллельной Уилоубед-роуд улице, проник через штору и упал на листья аспидистры, отбросившие тень, напоминающую по форме меч Агамемнона.
III
Довольно противное это имя – Гордон Комсток, но тогда уж и семья, в которой родился Гордон, тоже противная. Гордон – эта часть имени, конечно же, шотландская. Преобладание таких имён в наши дни – это просто часть «шотландификации» Англии, которое продолжается все последние пятьдесят лет. «Гордон», «Колин», «Малькольм», «Дональд» – всё это миру подарила Шотландия, и в придачу гольф, виски, овсяную кашу, и труды Барри и Стивенсона.
Комстоки принадлежали к самой унылой социальной прослойке – к середине среднего класса, к безземельному дворянству. При своей жалкой бедности они даже не могли утешиться, причислив себя к «старым» семьям, которые потерпели крах в трудные времена, так как и вовсе не были никакой «старой» семьёй, а всего лишь одной из тех семей, которая поднялась на волне Викторианского процветания, а потом вновь опустилась, быстрее, чем сама волна. Они прожили почти пятьдесят лет в состоянии относительно благополучном. Это время пришлось на годы жизни деда Гордона, Самуэля Комстока, – дедушки Комстока, как учили Гордона его называть, хоть старик и умер за четыре года до того, как родился Гордон.
Дедушка Комсток был одним из тех людей, которые даже из могилы оказывают мощное влияние. При жизни он был ещё тем негодяем. Грабил пролетариат и так нажил пятьдесят тысяч фунтов, построил себе особняк из красного кирпича, прочный как пирамида, и произвёл на свет двенадцать детей, из которых выжили одиннадцать. В конце концов умер он совершенно неожиданно, от кровоизлияния в мозг. На кладбище Кенсал Грин дети водрузили над ним монолит со следующей надписью:
В знак вечной памяти и любви
Самуэлю Иезекиилю Комстоку,
преданному мужу, нежному отцу и
стойкому, благочестивому человеку,
родившемуся 9 июля, 1828 и
ушедшему из жизни 5 сентября, 1901,
воздвигнут этот памятник
скорбящими детьми.
Покойся с миром в объятиях Иисуса.
Нет нужды повторять богохульские комментарии к последнему предложению, которые оставлял каждый, кто знал дедушку Комстока. Стоит однако подчеркнуть, что гранитная глыба, на которой была начертана эта надпись, весила что-то около пяти тонн и, определённо, была поставлена туда с намерением, хоть и с неосознанным вполне намерением, убедиться, что дедушка Комсток больше из-под неё не поднимется. Если вам хочется узнать, что на самом деле думают родственники об умершем, простым и хорошим тестом является вес надгробия. Комстоки, насколько знал их Гордон, были исключительно унылым, потрёпанным, полуживым-полумёртвым, неудачливым семейством. Им не доставало жизненной силы до такой степени, что это просто удивляет. И это, конечно же, было делом рук дедушки Комстока. К тому времени, как он умер, все дети выросли, а некоторые уже достигли среднего возраста, а к этому моменту ему удалось выбить из них все душевные силы, если они таковыми когда-либо обладали. Он прошёлся по ним как садовый каток по ромашкам, и у их растоптанных личностей не осталось шанса подняться вновь. Все они, как один, превратились в вялых, безвольных неудачников. Ни один из мальчиков не приобрёл подходящую профессию, потому что дедушка Комсток всё преодолел, но добился, чтобы направить каждого из них на такую профессию, которая ему абсолютно не подходила. Только один из них, отец Гордона, превзошёл в храбрости самого дедушку Комстока и осмелился жениться ещё во время жизни последнего. Невозможно было представить, что хоть один из них оставит после себя какой-то след во вселенной; что-нибудь создаст или разрушит, или будет счастливым, или отчаянно несчастным, или будет жить полной жизнью, или даже будет иметь достойный доход. Все они просто плыли по течению, воспринимая свои неудачи в полублагородной манере. Они были одним из тех удручённых семейств, столь типичных для средней прослойки среднего класса, у которых ничего никогда не происходит.