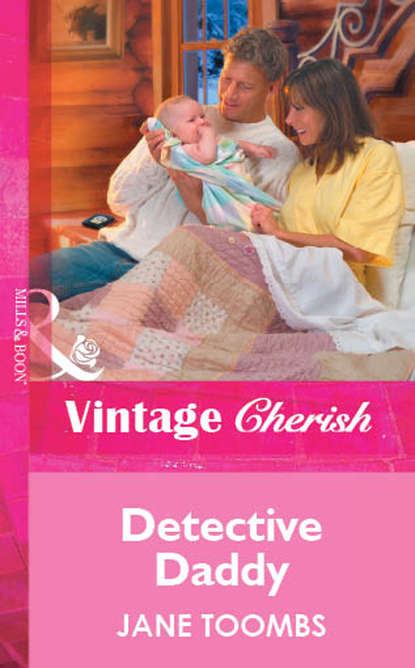Доктор Торндайк. Безмолвный свидетель

- -
- 100%
- +
По пути домой я зашел на участок и сообщил инспектору о своих новых открытиях; он все старательно записал и заверил меня, что дело будет расследоваться. Но его манеры свидетельствовали об откровенном недоверии и были даже слегка враждебными, и его настойчивые советы никому об этом не говорить, показывали, что он считает мои слова заблуждением, если не сознательным розыгрышем. Соответственно, хотя впоследствии не раз себя в этом упрекал, я ничего не сказал о безделушке и, уходя из участка, унес ее в кармане.
Полиция ничего не сообщала мне об этом загадочном деле. Позже я узнал, что она провела поверхностное расследование, о чем будет рассказано ниже. Но о деле ничего не сообщалось, и у меня не требовали никакой новой информации. Что касается меня, то я, естественно, не мог забыть о таком таинственном происшествии, но время и многочисленные жизненные интересы все дальше отодвигали эти воспоминания, и они там бы и оставались, если бы их снова не извлекли на свет последующие события.
Глава 3. «Кто такая Сильвия?»
В больнице начался зимний сезон, но в Хэмпстеде октябрь – это нечто вроде возвращения лета. Конечно, деревья отчасти теряют свою роскошную листву, и тут и там среди зелени появляются рыжие и золотые пятна, как будто оркестр природы настраивается перед исполнением последней симфонии. Но солнце яркое и теплое, и, если день за днем оно все дальше отходит от зенита, об этом ничего не говорит, только удлиняются полуденные тени и розовыми становятся облака, передвигающиеся по голубому небу.
Иные и более талантливые перья описывали очарование осени и красоту Хэмпстеда – короля пригородов всемирного метрополиса, поэтому воздержусь от описания и замечу только, так как это имеет отношение к рассказу, что часто в те дни, когда в больнице кипела работа, я прогуливался по неистощимому Хиту или по прилегающим к нему аллеям и полям. По правде сказать, в последний год обучения я не очень прилежно трудился; до этого очень много работал, а сейчас был еще молод и только через несколько месяцев мог поступить в Коллегию хирургов. Я обещал себе, что, когда погода ухудшится, засяду за зимнюю работу.
Я уже упоминал, что Миллфилд Лейн – один из любимых маршрутов моих прогулок; от моего дома это самый прямой путь в Хит, я проходил по нему почти ежедневно и теперь всегда вспоминал ту дождливую ночь, когда нашел мертвого – или потерявшего сознание – человека, лежащего поперек узкой тропы. Однажды утром, когда я снова проходил мимо, мне пришло в голову, что стоило бы нарисовать это место в альбоме, чтобы была память об том событии. Живописная привлекательность этой местности не слишком велика, однако, стоя на повороте, там, где увидел тело, я смог нарисовать простую, но достаточно удовлетворительную композицию.
Я не художник. Точный и вразумительный рисунок – это все, на что я способен. Но даже такое скромное достижение может быть полезно, как я не раз убеждался во время работы в палатах и лабораториях. Меня часто удивляло, что учителя нашей молодежи уделяют так мало внимания возможностям графического выражения; и сейчас оно тоже помогло мне, хотя и непредвиденным образом и не было вполне оценено в тот момент. Я точно изобразил изгородь, столбы, стволы деревьев и другие четко очерченные формы и начал менее успешно изображать листву, когда услышал быстрые легкие шаги со стороны Хэмпстед Лейн. Интуиция – если таковая вообще существует – нарисовала очертания личности и оказалась права: из-за поворота тропы вышла девушка примерно моего возраста, просто и удобно одетая и несущая коробку для печенья и раскладной стул. Она не была мне совершенно незнакома. Я так часто встречал ее на аллее и в Хите, что мы узнавали друг друга, и я гадал, кто она и что делает с этой коробкой.
Я отступил, пропуская ее, и она прошла мимо, бросив один быстрый вопросительный взгляд на мой альбом, и двинулась дальше; выглядела она очень оживленной и деловитой. Я смотрел, как она шла по тропе, затем между столбами и исчезла в солнечном свете снаружи за стволами вязов, потом вспомнил о своем рисунке и попытках изобразить листву так, чтобы она не напоминала березовый веник.
Закончив рисунок, я бесцельно пошел, в сотый раз размышляя о своих открытиях на этой самой аллее. Возможно ли, что человек, увиденный мною, был не мертв, а только без сознания. Я в это не верил. Все обстоятельства – поза и вид лежащего, пятно на изгороди, след в траве и непонятная золотая безделушка – все противоречило такому предположению. Но, с другой стороны, человек не может исчезнуть незаметно. Это не безымянный бродяга. Это священник, человек, известный очень многим; его исчезновение было бы немедленно замечено и вызвало бы многочисленные строгие вопросы. Но, очевидно, никто никаких вопросов не задавал. Я не видел никаких упоминаний в прессе об исчезнувшем священнике, и полиция ничего не знает, иначе немедленно обратились бы ко мне. Все это дело окутано глубокой тайной. Тот человек совершенно исчез, и мертвый он или живой, загадка остается неразгаданной.
В таких размышлениях я почти неосознанно подошел к еще одному своему любимому маршруту – к красивой тропе от Хита к Темпл Фортчун. Поднялся по ступенькам и приготовился разглядывать прекрасную картину, когда мое внимание привлекли несколько полосок чуждого цвета на листьях лопуха. Наклонившись, я увидел, что это следы масляной краски, и предположил, что кто-то очищал палитру, вытирая ее о траву. Мое предположение мгновение спустя подтвердилось: из крапивы торчало что-то похожее на ручку кисти. Но когда я поднял ее, это оказалось не кистью, а очень своеобразным ножом в форме маленького заостренного мастерка, хвостовик которого закреплен в короткой прочной ручке и обвязан промасленной нитью. Я положил найденный предмет в наружный карман и пошел дальше, думая, не оборонила ли его моя прекрасная знакомая; эта мысль по-прежнему была у меня в голове, когда, повернув, я совершенно неожиданно увидел девушку. Она сидела на раскладном стуле в тени изгороди с раскрытым альбомом для рисования на коленях и работала с таким трудолюбием и сосредоточенностью, словно укоряла меня в безделье. Она была так поглощена своим занятием, что не замечала меня, пока я не сошел с тропы и не приблизился к ней с ножом в руке.
– Возможно, – сказал я, протягивая нож и приподняв шляпу, – это ваш. Я только что подобрал его в крапиве вблизи амбара.
Она взяла у меня нож и посмотрела на него.
– Нет, – ответила она, – мастихин не мой, но думаю, я знаю, кому он принадлежит. Думаю, он принадлежит художнику, который много работает здесь в Хите. Вы могли его видеть.
– Я летом видел здесь нескольких художников. О каком вы говорите?
– Что ж, – улыбнулась она, – он очень похож на художника. Очень похож. Настоящий традиционный художник. Широкополая шляпа, длинные волосы и растрепанная борода. И он носит очки для рисования, знаете, с линзами в форме полумесяца, и детские перчатки, что не совсем традиционно.
– Думаю, это очень неудобно.
– Не очень. В холодную погоду или когда так мешают мошки, я сама работаю в перчатках. К ним привыкаешь, и человек, о котором мы говорим, не сочтет их неудобными, потому что работает с мастихинами – ножами для соскребания краски. Поэтому я и подумала, что мастихин принадлежит ему. У него их несколько, я знаю, и он пользуется ими очень искусно.
– Значит, вы видели, как он работает?
– Да, – призналась она, – я раз или два играла в «ищейку». Меня интересовал его метод работы.
– Могу ли спросить, что значит «ищейка»? – поинтересовался я.
– Не знаете? На студенческом сленге так называют человека, который подходит к вам под каким-нибудь предлогом, лишь бы посмотреть на вашу работу.
На мгновение мне показалось, что это удар по мне, и я торопливо сказал:
– Надеюсь, вы не считаете меня такой «ищейкой».
Она негромко рассмеялась.
– Не похоже. Но, учитывая вашу находку, предоставляю вам презумпцию невиновности. А находку лучше сохраните для ее настоящего хозяина.
– А вы не хотите ее взять? Вы знаете вероятного владельца по внешности, а я не знаю, и тем временем можете поэкспериментировать с ней.
– Хорошо, – сказала она, ставя мастихин в лоток для кистей. – Возьму его на время.
Наступила короткая пауза, потом я заговорил:
– Ваш рисунок выглядит очень перспективным. Что получится в результате?
– Я рада, что вам понравилось, – очень просто ответила она, глядя на свою работу. – Хочу, чтобы он получился хорошим, потому как это заказ, а маленькие картины маслом заказывают очень редко.
– Маленькие картины маслом трудно бывает продать? – спросил я.
– Не трудно, а, как правило, просто невозможно. Но я и не пытаюсь. Я копирую свои картины маслом в акварели, с видоизменениями по требованиям рынка.
Снова наступила пауза; девушка протянула кисть к палитре, и я подумал, что задержался настолько долго, насколько позволяют приличия. Соответственно я приподнял шляпу и, выразив надежду, что не слишком помешал ей, приготовился уходить.
– Вовсе нет, – сказала она, – и спасибо за мастихин, хотя он не мой – не был моим до сих пор. Доброго утра.
С легкой улыбкой и кивком она отпустила меня, и я задумчиво пошел дальше.
Это была очень приятная встреча. Всегда интересно познакомиться с человеком, которого какое-то время знаешь по внешности, но который в других отношениях тебе совершенно незнаком. Голос, манеры, небольшие проявления характера, подтверждающие предварительное впечатление или противоречащие ему, – все это очень интересно и постепенно заполняет пустые места в вашем представлении о человеке. Как уже говорил, я часто встречал эту трудолюбивую девушку во время своих прогулок, и у меня сложилось впечатление, что она хорошая – возможно, такое мнение сформировалось под влиянием ее приятной внешности и изящной осанки. И эта хорошая девушка оказалась очень достойной и выдержанной, но в то же время простой и откровенной, хотя, вероятно, ее любезное отношение объяснялось наличием у меня альбома для рисования: она приняла меня за художника. У нее приятный голос и безупречное произношение, с легким оттенком благородной леди в манерах, и мне все это очень нравилось. И имя у нее, вероятно, красивое, если я верно его угадал: на крышке коробки была частично прикрытая лежащей палитрой надпись «Сил»[1], и какое более очаровательное и соответствующее имя может носить красивая молодая девушка, которая проводит дни среди лесов и полей моего любимого Хэмпстеда.
Потешив себя этой мелочью, я пошел по длинной травянистой аллее между живыми изгородями, летом покрытыми дикими розами, а сейчас радовавшими крупными овальными ягодами, гладкими, блестящими и алыми, как коралловые бусы, – пошел по полям к Голденз Грин, а оттуда на Миллфилд Лейн к моему дому в «Евангельском дубе» и к моей домовладелице и хозяйке, которая встретила меня словами о катастрофических последствиях отсутствия пунктуальности (и жары) для бараньих котлет с жареным картофелем.
Утро было беззаботное и как будто лишенное значительных событий, однако когда я вспоминаю о нем, вижу отчетливую причинно-следственную связь от его простых происшествий и понимаю, что неосознанно наткнулся на одну из бусин в ожерелье моей судьбы.
Глава 4. Септимус Мэддок, покойный
Была уже середина ноября, когда я однажды днем зашел в музей больницы не с определенной целью, а скорее просто в поисках занятия. В течение последних нескольких дней у меня слегка оживилось стремление к труду – как ни странно, это совпадало с резким ухудшением погоды, – и поскольку патология была моим слабым местом, музей призывал меня (хотя, боюсь, не очень громко) побродить среди его многочисленных сосудов и высушенных препаратов.
В большом зале находился только один человек, но это был очень значительный человек – не кто иной, как наш лектор по вопросам юриспруденции доктор Джон Торндайк. Он сидел за небольшим столом, на котором стояло несколько сосудов и лежало множество фотографий, и он как будто составлял каталог всего этого; но как он ни был занят своим делом, когда я вошел, он поднял голову и встретил меня самой искренней улыбкой.
– Что вы думаете о моей маленькой коллекции, Джардин? – спросил он, когда я почтительно подошел.
Прежде чем ответить, я посмотрел на группу объектов на столе и никакого объяснения не получил. Поистине это была странная коллекция. В плоском сосуде пять мышей разной окраски, в других сосудах три крысы, человеческая нога, рука, заметно деформированная, четыре птичьи головы и несколько фотографий растений.
– Похоже, – сказал я наконец, – на то, что аукционер назвал бы разнообразными лотами.
– Да, – согласился доктор Торндайк, – в определенном смысле это разнообразная коллекция. Но есть и связующая идея. Все это демонстрирует феномен наследственности, открытый и описанный Менделем.
– Мендель! – воскликнул я. – А кто это такой? Никогда о нем не слышал.
– Я так и знал, – произнес Торндайк, – хотя он опубликовал свои результаты до того, как вы родились. Но важность его открытия начинают осознавать только сейчас.
– Вероятно, – предположил я, – тема слишком значительная и сложная, чтобы было возможно краткое объяснение.
– Конечно, тема очень значительная, – ответил он, – но если говорить о сути, то великое открытие Менделя сводится к следующему: некоторые характеристики наследуются лишь частично и постепенно ослабевают при переходе от поколения к поколению, но другие характеристики наследуются полностью и переходят от поколения к поколению без изменений. Возьмем в качестве иллюстрации несколько примеров. Если негр женится на европейке, потомки рождаются мулатами – это форма, промежуточная между негром и европейцем. Если мулат женится на европейке, потомки будут квартеронами – еще один промежуточный вид. Следующее поколение дает нам окторонов – промежуточный вид между квартеронами и европейцами. И от поколения к поколению негритянская характеристика постепенно ослабевает и окончательно исчезает. Но есть другие характеристики, что наследуются целиком или не наследуются вовсе, и такие характеристики проявляются в парах, которые позитивны или негативны по отношению друг к другу. Примером таких характеристик является пол. Мужчина женится на женщине, и их потомки будут либо мужчинами, либо женщинами, промежуточных видов не бывает. Наследуется пол только одного родителя, и наследуется полностью. Мужской или женский пол не меняется при переходе от поколения к поколению, он не исчезает и не сливается с другим. Таково понимание Менделем наследственности.
Я посмотрел на коллекцию и остановил свой взгляд на ненормально выглядящей ноге, белой и сморщенной, висящей в чистом спирте. Я поднял сосуд и впервые заметил, что у этой ноги лишний палец. Я спросил, что иллюстрирует данный образец.
– Шестипалая нога, – ответил Торндайк, – пример деформации, которая без всяких изменений передается от поколения к поколению. Другой пример – брахидактильная рука. Брахидактилия проявляется у потомков полностью, либо не проявляется вовсе. Промежуточных случаев не бывает.
Он поднял сосуд, протер тряпкой и показал заключенную в нем руку, и то была необычно выглядящая рука, широкая и коренастая, как лапа крота.
– Кажется, у пальцев только два сустава, – сказал я.
– Да, это все большие пальцы. Только у большого пальца два сустава. Сустав в каждом пальце подавлен.
– Это делает руку очень неловкой и бесполезной, – заметил я.
– Так можно подумать. Конечно, с такой рукой не станешь Листом или Паганини. Но не нужно предполагать слишком многое. Я однажды видел в Люксембурге безрукого мужчину, копирующего картины, и копирующего очень хорошо. Он держал кисть пальцами ноги и так хорошо владел ногами, что не только искусно рисовал, но очень картинно снял ногой с головы шляпу перед дамой. Так что, Джарвис, дело не в руке, а в мозге, который ею руководит. Если центр движения правильный, будет действовать даже очень несовершенная рука.
Он поставил сосуд на стол, потом, после короткой паузы, повернулся ко мне и спросил:
– Чем вы сейчас занимаетесь, Джардин?
– В основном бездельничаю, сэр, – замялся я.
– Не такое уж плохое занятие, – сказал Торндайк с улыбой, – если делать это тщательно и не очень долго. Не хотите ли на неделю или две заняться практикой?
– Не знаю, сэр. Кажется, не очень хочу, – ответил я.
– Почему? Это было бы полезным опытом и дало бы вам полезные знания; рано или поздно вам все равно понадобятся эти знания. Вы знаете, что больничные условия ненормальные. Общая практика – нормальное медицинское занятие, и чем раньше вы узнаете условия в большом мире, тем лучше для вас. Чем дольше будете работать в палатах, тем больше будете походить на сестер, которые другого не знают. Весь мир больница, а люди в нем актеры.
Я на несколько минут задумался. Это все правда. Я квалифицированный врач, но об обычной медицинской практике не имею ни малейшего представления. Для меня все пациенты либо стационарные больные, либо вообще не пациенты.
– Вы имеете в виду какую-то конкретную практику? – спросил я.
– Да. Я только что встретил одного из наших старых студентов. Он должен уехать сегодня вечером или завтра утром, но не нашел никого, кто бы присмотрел за его работой. Не хотите его заменить? Думаю, это нетрудная практика.
Я подумал и решил согласиться.
– Хорошо, – сказал доктор Торндайк. – Вы поможете собрату по профессии и приобретете некоторый опыт. Нашего друга зовут Бэтсон, и он живет на Джейкоб-стрит, Хэмпстед-Роуд. Сейчас запишу вам адрес.
Он протянул мне листок бумаги с адресом и пожелал успеха, и я сразу ушел из больницы. Настроение у меня было приподнятое, как всегда у молодого человека в начале нового пути.
Помещение доктора Бэкстона на Джейкоб-стрит оказалось скромным до стадии унылости. Но и сама Джейкоб-стрит и вся округа унылая, район больших старых грязных домов, которые видали лучшие дни. Однако сам доктор Бэкстон выглядел щеголеватым джентльменом. Он мне явно обрадовался, что стало очевидно, когда он вошел с сердечным приветствием, распространяя легкий запах шерри.
– Рад познакомиться, доктор, – громко воскликнул он. Это «доктор» было дипломатическим ходом с его стороны: к новичку в больнице не обращаются «доктор». – Я утром встретил Торндайка и рассказал ему о своем затруднении. Занятой человек наш Великий Знаток, но никогда не бывает настолько занят, чтобы не помочь другу. Можете начать сегодня вечером?
– Могу, – подтвердил я.
– Сделайте это. Мне нужно в восемь тридцать уйти с Ливерпуль-стрит. Заходите в шесть тридцать, немного поедим. К тому времени я закончу дневную работу, и вам достанутся вечерние консультации.
– Есть ли больные, которых я должен осмотреть с вами? – спросил я.
– Нет, – ответил Бэкстон несколько беззаботно, как мне показалось. – Все случаи легкие. Есть больной тифом, но там все хорошо, идет четвертая неделя, и он выздоравливает; есть тонзиллит и псоас абсцесс – это скучно, но состояние улучшается; еще старуха с больной печенью. С ними у вас не будет особых трудностей. Есть только один необычный случай – сердце.
– Порок клапанов сердца? – спросил я.
– Нет, это я точно знаю. Не знаю, что это, но знаю, чем оно не является. Еще мужчина, жалуется на боль, затруднение дыхания, слабость, но никаких причин не могу найти. Звучание сердца нормальное, пульс хороший, отеков нет, ничего нет. Похоже на симуляцию, но не понимаю, зачем ему симулировать. Думаю, вам сегодня вечером нужно взглянуть на него.
– Вы держите его в постели? – спросил я.
– Да, – сказал Бэкстон, – хотя общее состояние как будто этого не требует. Но один или два случая потери сознания, а вчера он упал в спальне, когда там никого не было, и, чтобы еще осложнить положение, он упал на бутылку с лекарством, и она разбилась. Он мог убить себя, – огорченно добавил Бэкстон, – длинный осколок от дна бутылки попал ему в спину и оставил глубокий порез. Поэтому я уложил его в постель, чтобы не стало хуже. И он лежит, ужасно жалеет себя, но, насколько могу судить, без единого ощутимого симптома.
– Никаких лицевых признаков? Ни перемен в цвете или выражении?
Бэкстон рассмеялся и постучал по своим очкам в золотой оправе.
– Ага! И вы туда же! Когда у вас минус пять диоптрий и нерегулярный астигматизм, который не исправляют очки, все люди кажутся вам одинаковыми, немного фрагментарными. Я ничего необычного в его лице не увидел, но вы можете увидеть. Время покажет. Теперь можете сходить за своими вещами, а я позабочусь о страдальцах.
Он вывел меня на унылую Джейкоб-стрит и пошел в направлении Камберленд Маркет, а я отправился к себе в «Евангельский дуб».
Идя по полным народа улицам Кэмден Тауна, я думал об открывающемся передо мной новом опыте и с юношеским самомнением уже видел, как ставлю замечательный диагноз в непонятном случае сердечной болезни. Я также с удивлением думал о том, как спокойно относится Бэкстон к состоянию своего зрения. Я заметил, что некоторые художники считают плохое зрение ценным качеством, позволяющим им устранять тривиальные подробности, что оказывает благотворное влияние на картину. Но для врача такой самообман вряд ли возможен. Зрительные впечатления для него наиболее важны.
Я затолкал в большой кожаный саквояж вещи, необходимые на неделю жизни, вместе с несколькими незаменимыми инструментами, сел в грохочущую конку тех дней до электричества и поехал на Джейкоб-стрит, Хэмпстед Роуд. Когда я приехал, доктор Бэкстон еще не вернулся из обхода, но через несколько минут он вошел, напевая мелодию из «Микадо».
– Ага, вы уже здесь! Пунктуальны до минуты. – Он повесил шляпу на вешалку, положил на раздаточный прилавок список посещений и начал с ловкостью фокусника подбирать лекарства, продолжая непрерывно говорить. – Это для старой леди с больной печенью, миссис Мадж, Камберденд Маркет, предписание найдете в ежедневнике. Возможно, вы не знаете, как заворачивать бутылочку с лекарствами. Следите за мной. Вот так. – Он положил бутылочку на квадратный лист бумаги, сделал несколько ловких движений пальцами и протянул мне для осмотра маленький белый пакет, как саркофаг покойной медицинской бутылочки. – После некоторой практики это очень легко, – сказал доктор Бэкстон, ловко опечатывая концы воском, – но вначале вы будете делать ужасные ошибки.
Это его пророчество подтвердилось тем же вечером.
– Когда мне лучше всего увидеть сердечного больного? – спросил я.
– О, вы его совсем не увидите. Он умер. Я получил сообщение полчаса назад. Жалко, правда? Мне хотелось бы услышать, что вы о нем скажете. Должно быть, ожирение сердца. Напишу свидетельство, когда подумаю немного. Мэгги! Где записка, которую оставила миссис Сэмвей?
Он крикнул это в открытую дверь, и в результате появилась тощая служанка с открытым конвертом.
– Вот оно, – сказал Бэтсон, доставая листок из конверта и открывая книгу свидетельств. – Имя покойного – Септимус Мэддок, пятьдесят один год, адрес 23 Гейтон-стрит, причина смерти – вот что я хотел бы знать: основная причина, побочные причины; я бы хотел, чтобы эти проклятые правительственные клерки нашли себе занятие получше, чем заполнять печатные бланки глупыми головоломками. Напишу «болезнь сердца» – для них этого достаточно. Миссис Сэмвей – его хозяйка, наверно, вечером пришлет за свидетельством.
– Вы не осмотрите тело? – спросил я.
– Боже, нет! Зачем это мне? В этом нет необходимости. Я не могильщик. Хотел бы им быть. Мертвые гораздо выгодней живых.
– Но ведь смерть нужно подтвердить! – воскликнул я. – Может, тот человек совсем не мертв.
– Знаю, – ответил Бэтсон, продолжая строчить, словно писал стихи, – но это не мое дело. Это дело закона. Закон отнимает ваше время, нагромождая глупые незначительные вопросы, но задает и вопросы, имеющие значение. Укажите точное время, когда в последний раз видели его живым – это неважно, но меня не спрашивают, видел ли я его мертвым. Шмель был прав: закон – осел.
– Тем не менее, – настаивал я, – если оставить в стороне требования закона, разве вы не должны для собственной уверенности и ради общественного блага подтвердить смерть? А что, если тот человек на самом деле не умер?
– Это было бы очень неловко для него, – заметил Бэтсон, – и для меня тоже, если бы он перед погребением ожил. Но в реальной жизни так не бывает. Преждевременные похороны бывают только в романах.
Его легкомысленная уверенность раздражала меня. Как может он или кто-нибудь другой знать, что произошло?
– Не понимаю, как вы пришли к такому выводу, – сказал я. – Доказать это можно только полной эксгумацией. И остается фактом: если вы не подтверждаете смерть, у вас нет никакой страховки от преждевременного погребения или кремации.
Бэтсон вздрогнул и посмотрел на меня, его широко открытые светло-голубые глаза выглядели нелепо маленькими сквозь вогнутые линзы очков.
– Ей-богу! – воскликнул он. – Очень рад, что вы об этом упомянули. О кремации, я имею в виду, потому что скорее всего она произойдет. Несколько дней назад я как свидетель подписал его завещание и помню, одно из его условий – кремация тела. Поэтому мне придется подтвердить его смерть для получения свидетельства о кремации. Давайте немедленно пойдем и взглянем на него.