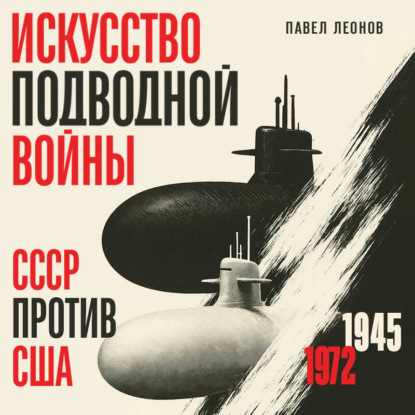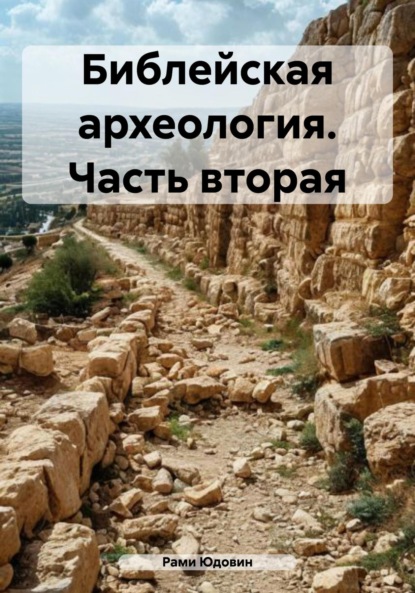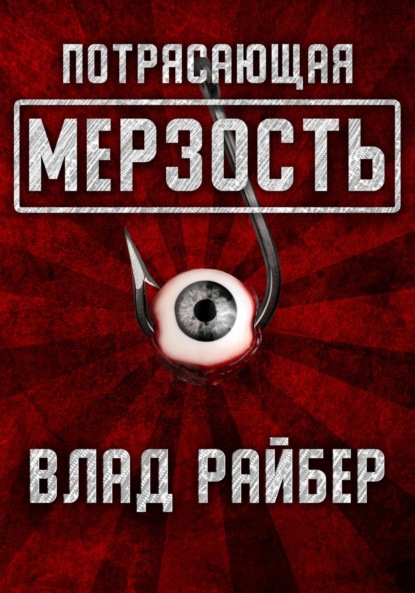Искусство подводной войны. СССР против США, 1945-1972
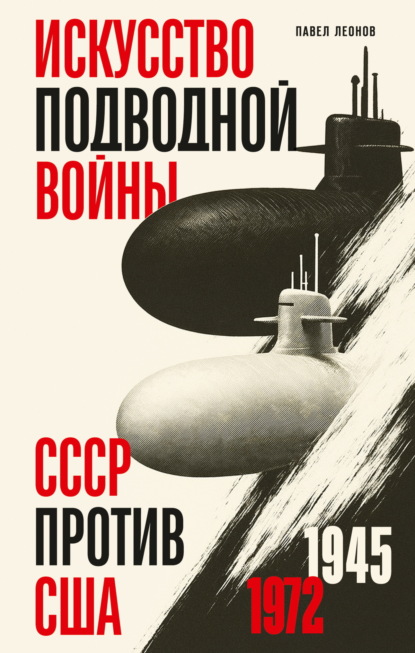
- -
- 100%
- +
Поскольку вся операция была проделана с нарушением субординации, в обход начальников Хаймана Риковера, это, вероятно, вызвало у них изрядное раздражение. Но, если отбросить неизбежные эмоции, все понимали, что документ содержит важнейшие положения. В меморандуме был сформулирован запрос для Бюро кораблестроения (организация, в которой в тот момент служил Риковер) и Комиссия США по атомной энергии на организацию взаимоприемлемой процедуры для разработки, проектирования и постройки атомной подводной лодки (АПЛ).
Впрочем, не нужно думать, что все сразу побежали создавать реактор для АПЛ. Внутри клубка, в котором переплетались интересы гражданских (Комиссия по атомной энергетике), военных (ВВС, флот, армия, спорящие за распределение ядерного оружия) и ВПК (корпорации-производители, борющиеся за бюджет и выручку), хватало и бюрократии, и споров. Но тут Риковера выручили разведсводки из Советского Союза.
В начале 1948 года капитан Арли Бёрк подготовил доклад на тему возможного развития военных действий в ближайшее десятилетие. В этом докладе утверждалось, что интенсивность холодной войны будет расти, что США и СССР будут основными антагонистами в любом будущем конфликте, упоминалось о важности не только политических, но и экономически-производственных факторов. В апрельском докладе Нимица Объединенному комитету начальников штабов в 1948 году подчеркивается, что у СССР к настоящему моменту в пять раз больше подводных лодок, чем было у Третьего рейха к началу Второй мировой войны. Другой доклад утверждал, что у СССР имеется не менее двадцати лодок типа XXI[9], большое число технических специалистов, которые строили такие лодки, и возможность их производить в больших количествах. Американские военные признавали угрозу от таких подводных лодок весьма значительной для своих военных доктрин и дальнейших планов. Именно эти доклады, опирающиеся на разведывательные донесения «закрытого» Советского Союза, и помогли с проталкиванием интересов атомного реактора. Превосходство над вероятным противником надо было сохранять.
В начале 1948 года флот, в лице Миллса и Риковера, по-прежнему настаивал на постройке сухопутного прототипа лодочного реактора. Комиссия же настаивала на широком изучении вопроса, по-прежнему более руководствуясь научными, нежели практическими интересами. В течение полугода работа практически не продвинулась, но к августу 1948 года Риковера назначили главой нового отдела Бюро кораблестроения – сектора ядерных реакторов. 2 августа 1948 года на подпись Миллсу было подано письмо от Риковера, в котором утверждалось, что стиль работы Комиссии не позволит построить подводную лодку в сроки, требуемые и допустимые национальной безопасностью, и что, если Комиссия откажется действовать, у флота не останется выбора, кроме прямого подписания договора с представителями промышленности. В подтверждение того, что Бюро действует в интересах флота и страны, был приложен подписанный меморандум министра ВМС Салливана министру обороны Форрестолу (копию которого Риковер получил меньше чем за 48 часов, что тоже намекает на круговую поруку офицеров-подводников).
В Комиссии началось суетливое движение, но его суть не устраивала Риковера, поэтому при поддержке Миллса он разработал свой подход, подкрепив его существенными аргументами.
В первую очередь он добыл письмо, в котором «Дженерал Электрик» подтверждала свою готовность спроектировать и построить флотский реактор и гарантировала, что это не повлияет на прогресс других проектов.
Во вторую очередь он получил согласие компании «Вестингауз» создать новое подразделение для работы с флотским реактором и отправить шесть лучших специалистов на годичное обучение ядерной инженерии в «Дженерал Электрик».
С подачи замминистра обороны, принимавшего участие в решении этих проблем (после предъявления меморандума для министра обороны возможности отказаться у него не было), был найден компромисс. Комиссия идет навстречу флоту и позволяет флотским подбирать подрядчиков, по-прежнему контролируя физико-теоретические основы проектирования.
В этот период корпорация «Дженерал Электрик» поменяла свой настрой и решила продать флотским «белого слона», предлагая им реактор на быстрых нейтронах вместо предыдущего проекта «Джинн». Он больше подходил для изготовления радиоактивных материалов, нежели для силовой установки корабля, и был предложен корпорацией потому, что та не хотела терять свои инвестиции в этот проект. Это вызвало предсказуемое отторжение у Миллса и Риковера, которые почувствовали, что процесс переговоров и работы с «Дженерал Электрик» затянется на долгие месяцы. В результате 25 августа 1948 года Риковер встретился с представителями корпорации «Вестингауз».
Тут тоже все пошло не так гладко, потому что выяснилось, что только два инженера из пяти имеющихся (напомню, в первоначальной заявке фигурировало шесть человек) смогут обучаться в «Дженерал Электрик». Риковер немедленно напомнил представителю «Вестингауза» Уиверу, что он использовал материалы компании, чтобы «продать» Комитету идею контракта с «Вестингаузом», и компания не может просто так отыграть назад. Спустя две недели в «Вестингаузе» создают новое подразделение атомной энергетики для работы «отдельной и независимой от всех остальных подразделений и отделов компании».
К октябрю 1948 года проект начинает приобретать более-менее четкие очертания. За теоретическую часть будет отвечать Аргоннская национальная лаборатория (общий проект, выработка критериев, сертификация частей и самого реактора), а «Вестингауз» как подрядчик Комиссии будет отвечать за инженерное проектирование и строительство. Это был неплохой способ организации плодотворной дискуссии между Комиссией, флотом, Аргонном и «Вестингаузом».
26 октября 1948 года в Аргонне состоялась встреча всех четырех сторон. Уолтер Зинн постарался объяснить присутствующим, что не планировал втягивать свою лабораторию в инженерные аспекты разработки реактора, но напомнил, что Комиссией на него возложена ответственность за общий проект силовой установки и это означает, что за фундаментальные исследования (научные изыскания ядерной энергетики, скажем так, общая теория процесса), практические исследования (как теория будет реализована в конкретном практическом случае) и развитие реактора будет также отвечать он. «Вестингауз» будет отвечать за инженерную часть и инженерно-технический проект. Что касается критериев, то, как подразумевал Зинн, Аргоннская лаборатория, выбранная Комиссией для проектирования, будет изучать все технические чертежи и спецификации, подготовленные «Вестингаузом». Все это, естественно, относится только к первому реактору, которым, без сомнения, будет наземный прототип будущего лодочного. Остальные реакторы будут построены полностью под ответственность компании «Вестингауз». Возражений у присутствующих это не вызвало.
В тот момент Зинн и Аргоннская лаборатория обладали безусловным преимуществом и в авторитете, и в практическом опыте. При их участии было разработано шесть действующих реакторов, а вот «Вестингауз» не построил ни одного. Флот тоже не имел опыта работы на реакторе.
10 декабря 1948 года был подписан предварительный контракт, закреплявший озвученные выше договоренности.
Таким образом, благодаря наглости Риковера, его уверенности в себе и прекрасной теоретической и практической подготовке, менее чем за два года удалось создать условия для постройки атомной подводной лодки. Понятно, что Риковер изрядно раздражал некоторых участников Комиссии по ядерной энергетике, не говоря уж о непосредственном окружении в Бюро кораблестроения, которое отнюдь не в полной мере оценило перспективы атомного движителя для подлодок. Однако теперь Хайман Риковер как представитель Бюро кораблестроения в Комиссии (отдел Военно-морских реакторов) и представитель Комиссии в Бюро кораблестроения (сектор ядерных реакторов в Бюро кораблестроения, «Код 390») мог, когда ему это требовалось, лавировать между гражданскими и военными службами, внося еще больше сумятицы в бюрократические умы.
К этому моменту под Чикаго, где и находилась Аргоннская лаборатория, появились двое инженеров-практиков из Манхэттенского проекта: Альфонсо Таммаро (Alfonso Tammaro) и Лоутон Гейгер (Lawton D. Geiger), которые начали работу над строительством лодочного реактора и в дальнейшем пользовались поддержкой Риковера и его доверием.
3 декабря 1948 года Зинн подписывает приказ о создании в Аргоннской лаборатории подразделения по морским реакторам и назначает его начальником упомянутого выше Гарольда Этерингтона, который к этому моменту изучил возможности реактора с водой под давлением (PWR). Хотя он и его коллеги, изучавшие теоретические возможности проекта, нашли проблемные места, они считали его самым многообещающим. Но теоретические возможности двух других проектов (газового и жидкометаллического) тоже должны были быть досконально изучены.
В это время Риковер заручался поддержкой «Вестингауза». Компания, помимо того что становилась первым подрядчиком флота, еще могла стать и первой на гражданском рынке ядерных силовых установок и реакторов. Так что «Вестингауз» приступил к строительству своего завода в бывшем аэропорту Питтсбурга, Беттис Филд (Bettis Field).
Понятно, что из предварительного контракта между Комиссией и «Вестингаузом» нельзя было выжать много в плане технических подробностей, и представители от бизнеса вступили в сложные переговоры с представителями науки. Переговоры, шедшие на протяжении полугода каждый день, закончились беспрецедентными на тот момент договоренностями. Обе стороны увидели возможность от предыдущих контрактов между правительством и подрядчиками перейти к новым, более взаимовыгодным формам сотрудничества.
Важно отметить, что блестящим молодым поверенным представителем «Вестингауза» в переговорах с Комиссией был Джеймс Рэми (James T. Ramey). Понятно, что ожидать точных данных от Аргоннской лаборатории, как и спецификаций от «Вестингауза», чтобы включить их в соглашение сторон, можно было очень долго, поэтому он написал, что «соглашение должно выполняться в духе партнерства и дружеской кооперации, с максимальной отдачей и здравым смыслом для достижения их общей цели».
Эта фраза в итоге стала стандартной для всех договоров Комиссии. Подписанный контракт ограничивал общие и административные расходы в пределах 5,1 %, как и обычные договоры подрядчика «Вестингауза» с Военно-морским флотом, и предусматривал прибыль в 5 % с первых пяти миллионов трат заказчика, плюс 4 % со вторых пяти миллионов трат заказчика, плюс 3 % со следующих десяти миллионов долларов. Таким образом, с суммы 2 431 430 долларов на 1950 бюджетный год прибыль подрядчика в лице «Вестингауза» составляла 121 570 долларов. 15 июля 1949 года контракт между сторонами, тщательно согласованный по всем возможным позициям разночтений, был подписан.
К этому моменту Риковер уже понял, что наилучшим подходом будет подавать себя не как безликого представителя государственной бюрократии, а как «покупателя», и пусть этот покупатель выбирал не вырезку в магазине, он был вправе требовать за свои деньги полной отдачи. Такой подход принесет ему и славу, и известность, но в то же время и проблемы в конце карьеры.
В марте 1949 года от Аргоннской лаборатории, благодаря проведенной Риковером предварительной подготовке, было получено письмо за подписью Зинна, в котором говорилось, что на данный момент реактор с водой под давлением кажется самым перспективным. С этой бумагой Риковер приступил к выполнению ключевой задачи своего плана – нужно было заставить «Вестингауз» и Аргоннскую лабораторию начать что-то делать, а не изучать теоретические возможности (которые на самом деле манили и ученых, и инженеров-теоретиков).
В течение 1949 года обе стороны пытались выработать позиции взаимодействия через комитеты и заседания, к нетерпению Риковера, который не видел в этом никакой практической пользы.
23 сентября 1949 года в любимую игру топ-менеджеров решительно вмешалась мировая политика в лице СССР. Президент Трумэн объявил об успешном испытании в Советском Союзе атомной бомбы. Американские ученые и инженеры не могли больше наслаждаться монополией и просто ждать технического задания от флота. Они теперь напрямую конкурировали с советской научно-промышленной мощью.
4 октября 1949 года Лоуренс Хафстад собрал совещание с целью ускорения проекта флотского реактора. Изучив вопрос и поняв, что разработка флотского реактора у ученых Аргоннской лаборатории не в приоритете, он настоял на том, чтобы сделать его создание первым пунктом, на случай если война разразится в течение ближайших пяти или десяти лет.
В период 1949–1950 гг. ведется ожесточенная политическая борьба внутри Комитета, с привлечением участников из Сената США, ученых и лоббированием промышленностью своих интересов (корпорация «Дженерал Электрик» еще раз попыталась протолкнуть свое детище). В этот период Риковер знакомится с правилами использования сенаторов США в корыстных целях (понятно, что выгода получается обоюдная). Позднее, уже на пике карьеры, он использовал атомный подводный флот США в войне с бюрократами как мощное орудие продвижения: всякий раз, когда очередного конгрессмена катали на атомной лодке, ВМС США получали дополнительное финансирование.
Когда Риковера спросили, почему атомные подводные лодки начали получать названия в честь городов, а не всяких обитателей морей, он ответил: «Рыбы не голосуют!»[10]
Кстати, «Дженерал Электрик» также получила финансирование создания своего типа реактора – жидкометаллического. Ожидалось, что он будет разработан и построен в течение десяти лет.
К 1950 году усилиями Риковера создается структура, в которой подразделения подрядчика находятся ближе и в большей зависимости от «Кода 390», нежели от головного офиса. Любой из участников процесса мог быть опрошен Риковером или офицерами его группы на предмет технических данных. Затем эти данные все равно будут перепроверены. Персональная ответственность каждого исполнителя подразумевается. Никакой аспект деятельности подрядчика и ученых не может избежать проверок или критики.
Создание атомной подводной лодки требовало напряжения всех ресурсов, привлечения всех возможных талантов и полной отдачи всех участников. Система управления, которую создал Риковер, отвечала всем этим требованиям.
Ядерный менеджмент по-флотски
Я никогда не думал, что я умный.
Я просто считал, что люди, с которыми работаю, – тупые.
Из интервью Хаймана Риковера, 1984Новая система управления предоставила Риковеру решать множество проблем, самой насущной из которых был поиск кадров. Нужно было набрать персонал для «Кода 390».
К решению Хайман подошел сразу с двух концов. Во-первых (благо это дозволялось начальством и обстановкой), он начал отбор одаренных специалистов и фанатов атомной энергетики из университетов, лабораторий и частных компаний. Во-вторых, в марте 1950 года вместе с директором по исследованиям лаборатории Оак-Ридж Элвином М. Вайнбергом, который предложил идею реактора с водой под давлением, он основал Школу реакторных технологий Оак-Ридж, в которой начались работы над водо-водяным[11] реактором для подводных лодок (S1W – Submarine 1 generation Westinghouse, подлодочный 1-го поколения «Вестингауза»). Люди, отобранные Риковером и обученные Вайнбергом, занялись проектированием прототипа атомной подводной лодки.
Тогда же проявился важнейший принцип Риковера в работе с кадрами: подбирать лояльных, поощрять инициативных и всех нагружать такой ответственностью, которую только они в силах вынести: «Назначают верных, а требуют как с умных». Риковеру нужны были люди талантливые, равно как верные и умные. Он отбирал людей с психологией подводников: не паникующих в любых ситуациях, обращающих внимание на любую деталь и столь же дотошных, как и он сам.
Не стоит думать, что Риковер был идеальным руководителем. На протяжении многих лет подчиненные с ужасом вспоминали общение с ним. Если же они умудрялись досадить ему чем-то, злопамятный Риковер при первой возможности создавал им неудобства любым возможным способом – действием или бездействием. Другое дело, что его работоспособность, умение обрабатывать большие массивы информации и переносить большие нагрузки, а также умение находить интересные (и верные) технические решения (в силу огромного опыта и знаний) служили ему защитой от нападок враждебного окружения, да и посредственностей, с которыми он тоже сталкивался.
Первым, кого Риковер нанял в новую организацию, стал Джек Кайгер, гражданский, защитивший докторскую по химии в Массачусетском технологическом университете в 1940 году. Риковер посчитал его ценным приобретением, поскольку тот всю войну проработал в Оак-Ридж и в 1946 году был начальником отдела в лаборатории, отвечая за подбор и эксплуатацию материалов. А подбор материалов для проектирования и строительства был одной из следующих сложных проблем.
Чем же отличался американский подход к проектированию и строительству атомной подводной лодки от советского?
Богатая американская экономика середины ХХ века могла себе позволить роскошь дорогих экспериментов, содержания нескольких экспериментальных площадок и огромные затраты ресурсов на разные направления проектов. Советская послевоенная экономика такого богатства ученым и исследователям предложить не могла (впрочем, эта ситуация не менялась с годами, СССР отставал по доступным ресурсам на протяжении всего периода существования).
В 1950 году в США одновременно велось проектирование и строительство двух типов реакторов – водяного (Mark I) и с жидким натрием в качестве теплоносителя (Mark A).
Напомню, что научными школами тех лет разрабатывались три типа реактора – с водяным теплоносителем (водо-водяные реакторы СССР и кипящего типа США), с жидкометаллическим теплоносителем (натрий США, свинец-висмут СССР) и газоохлаждаемые реакторы.
Риковер, верный себе, привлекает всех возможных специалистов и выпускает два справочника за своим авторством: «Жидкие металлы», июнь 1950 г. (Liquid-Metals Handbook), и «Разработка защиты реактора» (Reactor Shielding Design Handbook) – второй при участии Германа Мёллера (Hermann J. Muller), лауреата Нобелевской премии (1946 г., «За открытие появления мутаций под влиянием рентгеновского облучения») и, между прочим, руководителя крупной советской лаборатории по вопросам медицинской и радиационной генетики. Он работал в ней с 1932 по 1934 год вместе с Вавиловым в Берлине, потом перебрался в Москву, но уехал из СССР в 1937 году.
Помимо этого, Флотский центр разработки реакторов («Код 390») становится крайне сведущим в физике реактора, металлургии и компьютерной обработке информации и открывает для американских промышленников цирконий и бериллий – материалы, используемые для строительства реактора. И с невероятной скоростью организует их промышленное производство в нужных количествах. Завод по производству циркония построили, например, за двенадцать недель.
Надо отметить, что «Код 390» воспринимал любую проблему как кризис, требующий немедленного решения, что зачастую было совсем неверно. Риковер практиковал свой подход въедливого покупателя, а «Дженерал Электрик», к примеру, исповедовал подход «Дайте нам денег, не беспокойте нас, и мы сделаем всю работу», чего Хайман не мог принять, поскольку знал, что при таком подходе не всегда получается надежная техника. С «Вестингаузом» он, напротив, достиг больших успехов в совместной работе (впрочем, у постоянного присмотра были и свои минусы).
Поскольку обычно государственные надзорные органы недостаточно компетентны в технических вопросах, они отдают технические решения на откуп подрядчику. В случае установления сжатого графика работ и использования новых технологий для постройки реактора и лодки это было невозможно. Именно создание внутригосударственной организации с более чем достаточным уровнем технической грамотности для работы с подрядчиками было головоломной задачей, с которой Риковер не просто справился, но и сделал на нее ставку для будущего строительства атомных подводных лодок. Он создал условия для длительного функционирования организации с самоподдерживающимся высоким уровнем теоретического образования (школы при научных сообществах), практических навыков (офицеры флота) и навыков работы с подрядчиками (ежедневная работа). Именно это на десятилетия вперед предопределило успех и безаварийность практической эксплуатации американских лодочных реакторов. Ведь для допуска на атомную подводную лодку весь личный состав знакомился с особенностями работы лодочных реакторов и имел представление, что делать, если что-то пойдет не так.
Риковер надеялся, что его методы будут хотя бы частично использованы гораздо более консервативным Бюро кораблестроения, перед которым стояла задача спроектировать атомную лодку как полноценный боевой корабль.
Начиная с 1949 года в Бюро велись подготовительные работы для проектирования и строительства атомной подводной лодки.
А почему именно атомной? Почему бы не развивать уже имеющиеся технологии?
Конференция в Бюро, прошедшая 18 мая 1949 года, подтвердила, что перспективы двигателей подводных лодок предыдущего поколения даже со шноркелем[12] уступают подводным лодкам с атомным движителем. Лодка с атомной силовой установкой будет быстрее двигаться под водой, сможет оперировать на любых возможных скоростях под водой (потому что не будет связана ограничениями по запасам ресурса или мощности), будет защищена от имеющейся противолодочной тактики (которая в настоящий момент рассчитана на подводную скорость лодок до 8-10 узлов) и сможет выполнять поставленные задачи при любой погоде. Такие подводные лодки «изменят всю суть военно-морских действий». К этому моменту первая силовая установка планировалась к монтажу на подводную лодку к 1955 году. А почему к 1955 году, только через пять лет? Министерство обороны США к этому моменту уже перешло на пятилетние планы развития, следуя примеру Советского Союза, и у него на руках было мнение Оппенгеймера, который в 1948 году утверждал, что через пять лет будет построен тестовый реактор, через десять лет он будет функционировать на специально построенном корабле, а суда с атомной силовой установкой будут строиться серийно через пятнадцать лет.
Именно поэтому Бюро кораблестроения принялось модернизировать имеющиеся у США дизельные подводные лодки и проектировать новые с учетом программы «Гуппи» (GUPPY – Greater Underwater Propulsive Power – Увеличенные возможности подводного хода). Подводные лодки США до 1958 года, кстати, именовались названиями рыб или морских животных.
В рамках этой программы на субмарины устанавливали заметно более мощные аккумуляторные батареи. Это ухудшало обитаемость лодок и требовало перестройки внутренней системы вентиляции. Для достижения лучших гидродинамических характеристик демонтировались все имеющиеся выступы на корпусах и переделывались сами очертания корпусов. Менялись электромоторы и дизеля. Убирали артиллерийскую установку с палубы (создает излишнее сопротивление в подводном положении) и запас снарядов для нее. В проектах также было добавление шноркеля и изменение технического наполнения лодок (радиоэлектронная аппаратура). Первая субмарина, на которой протестировали эту программу, SS 486 «Помодон», достигла скорости в 18,2 узла под водой против показателя в 8,7 узла до модернизации.
Понятно, что у офицеров-подводников, понявших потенциал атомных подводных лодок, такие меры не вызывали особого восторга, ибо все равно были ясно видны модернизационные ограничения. Но поскольку подрядчики еще даже не приступали к закладке на верфях лодок нового поколения, приходилось мириться с имеющимися ограничениями Бюро.
В целях минимизации издержек (капитализм) Бюро кораблестроения в неявном виде способствовало появлению связок «подрядчик—верфь». В частности, поэтому строящиеся и модернизируемые субмарины в Портсмуте, штат Нью-Гемпшир, комплектовались оборудованием «Вестингауза», а те, что строились в Гротоне, Коннектикут, – оборудованием «Дженерал Электрик». К началу 1950 года компания «Электрик Боут» (Electric Boat) при участии Риковера начала сотрудничество в части, касающейся проектирования подводных лодок, с «Дженерал Электрик». Началось взаимное обучение инженеров и проектировщиков. Для «Электрик Боут» это было спасением, поскольку до конца войны она поставила флоту шестьдесят четыре подводных лодки – больше, чем любая другая верфь, а с 1946 года сидела на голодном пайке – мелких заказах, в частности, строила автомобильные мосты на автострадах.
В Портсмуте же избалованные вниманием и подрядами государства госслужащие верфи без энтузиазма отнеслись к предложениям Риковера и вежливо указали на то, что строительство нового класса дизельных подводных лодок «Тэнг» (венец опыта подводного флота США, скрещенный с немецким опытом лодок серии XXI) отнимает у них почти все время. Верфь в 1948 и 1949 годах еще работала над переделкой дизельных лодок по программе «Гуппи», проектировала лодку арктического класса (для плавания среди льдов), а также над проектами переделки дизельных лодок в лодки радиолокационного дозора (проекты «Мигрень 1» и «Мигрень 2» (Migraine)). Нагрузка была слишком велика.