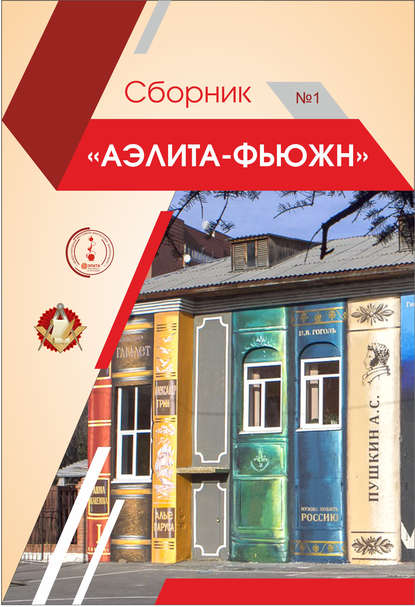Поехавшие крыши Питера

- -
- 100%
- +

Поехавшие крыши Питера
– И вот, после стольких дней ползания с рулеткой по старинному зданию, я начинаю догадываться, что Ева что-то искала. Охрана памятников? Чушь.
Я допиваю виски и двигаю пустой «тумблер» Бармену. Он бросает два кубика льда, подливает бурбон с колой и двигает стакан обратно:
– Скрытое помещение?– Бармен снимает очки, чтобы между нашими взглядами не было преград.– И что, ты нашёл секрет?
Я некоторое время держу виски во рту, делая вид, что смакую, хотя на самом деле соображаю, как увести тему в нужное мне русло:
– Дело не в этом. Параллельно началась вся эта история, что я тебе рассказывал. С самого начала Ева играла со мной какую-то игру.
– Может, в этой тайной комнате спрятан ответ?
– Это здание было лишь поводом удержать меня.
Ветер трясёт ставни и заглядывает в окна в поисках меня. Я посматриваю в сторону выхода. Меня постепенно накрывает. Бармен ходит вдоль стойки в глубокой задумчивости. Потом он приближается и говорит полушёпотом, хотя народа в зале ещё не было:
– Но ты же догадался, что там что-то спрятано?
– Да к чёрту это здание, проблема же не в нём. Ева разрушила мою жизнь.
– Слушай, а где это здание находится?
Вырулить из этой темы уже не получится. Бармен инфицирован секретами готовящегося к сносу здания. Помочь найти решение спасти мою жизнь он уже не способен. Я тоже пойду под снос.
К вечеру, как обычно, мир признаётся в отвращении ко мне. Я стою у окна, и оно похоже на окно приёма анализов в больнице. Грязно-жёлтые от осенней сырости дома напоминают выстроенные в ряд банки с мочой. Чёрные, как пакет для трупов, тучи постепенно затягивают свой узел над городом. Я ложусь на кровать в позе эмбриона из кунсткамеры, погружаясь в формалин бессознательного.
***
– Всё спишь целыми днями?
Я ползу на голос в красной темноте. Скользкие стенки сна обволакивают меня, я задыхаюсь, но продолжаю ползти, пока мне не протягивают руку.
– Эдик, ты хоть на улицу выходишь?– священник хлопает меня по плечу.
– Здравствуйте, отец Никанор,– я протираю слипшиеся глаза.
Священник подсаживается ко мне на кровать, осматривая квартиру:
– Как ты тут устроился? Соседи ведут себя культурно?
– Спасибо, что нашли мне жильё. Я в порядке.
– Ну и славненько,– он продолжает держать руку на моём плече.– Я навёл справки про твою контору хлебомакаронной фабрики. На месте этого здания раньше был лазарет старообрядческой общины. Но я не нашёл сведений, что большевики снесли лазарет, чтобы построить контору. Возможно, лазарет перестроили – тогда понятно, почему Ева хотела, чтобы здание включили в реестр памятников.
– А про Еву удалось что-то узнать?
– Увы, человека с таким именем в комитете охраны памятников нет.
– Потому что Ева не совсем человек в привычном понимании.
Отец Никанор неодобрительно и обречённо смотрит на меня, потом встаёт с кровати:
– Не волнуйся, Ева тебя здесь не найдёт. Я ещё зайду тебя проведать через пару дней. Храни тебя Господь.
***
Чтобы дойти до бара, не нужно выходить на улицу. Идёшь по коридору до второй лестницы, спускаешься, открываешь железную дверь – и вот ты в тамбуре бара. Даже тапочки снимать не нужно.
– А где Бармен?– спрашиваю я у Бариста, который возится с кофейным аппаратом.
– Он теперь в другую смену выходит.
Причина, по которой я хожу в этот бар – желание структурировать события в моей голове. Я прихожу в то время, когда в баре пусто, чтобы никто не мешал высказаться. Но была и другая причина.
Я подсаживаюсь к Бариста и прошу бурбона с колой. Мнусь, прежде чем спросить. Бариста видит, что я сконфужен отсутствием Бармена, и сам начинает разговор:
– Вижу, у тебя настроение не очень. Какие-то проблемы?
– Можешь вызвать мне такси?
Бариста удивлён, ведь он видел, что я пришёл в тапочках:
– Что, уже всё?
– Нет. Мне… в смысле… нужно вызвать… колёса.
Бариста соображает, скрывается за дверью и, спустя пару минут, возвращается. Он двигает мой стакан к себе, кладёт что-то под подставку и двигает виски обратно. Я достаю оттуда пакетик, вытаскиваю таблетку, кладу на язык и запиваю большим глотком.
– Ты живёшь в этом здании?– Бариста бросает взгляд на мой домашний наряд.
– Да, я живу на верхнем этаже, там у нас что-то вроде сквота.
– Сквот? Это типа коммуны, где живут творческие люди?
– Ага, хозяин квартиры переехал за границу, и пустил пожить друзей.
– Тут один художник к нам ходит, случайно не ваш? Молодой, лет восемнадцати.
– Да, граффити и муралы на стенах рисует.
– А ещё кто там живёт?
– Киношник, по всей видимости, сценарист. Учёный, кажется, физик-ядерщик. Ещё писатель там живёт, но он неразговорчивый. Слушай, я там особо ни с кем не общаюсь, в основном сплю.
– А ты кто по профессии?
– Фотограф.
– Что снимаешь?
Каждый раз, когда я вспоминаю прошлое, приходится вновь проходить эволюцию от самохвальства до самоненависти.
ТФП-съёмка – это договор между моделью и фотографом о взаимозачёте. Я фотографировал моделей бесплатно, но забирал права на фотоматериал. Потом продавал фотосеты и стримы со съёмок. На пике карьеры – до пяти тысяч платных подписок в месяц. Объездил всю страну. Воркшопы, мастер-классы, видеокурсы, продажа пресетов, выставки, сюжеты на каналах Культура и Москва 24. Несколько тысяч заявок, больше тысячи отснятых моделей – и все без одежды.
Поначалу я снимал простых случайных девчонок, чтобы изучить женскую анатомию, узнать, как мышцы способны придавать нужную форму, как скелет образует акценты, как жир формирует свето-теневую поверхность. В итоге так и снимал обычных, потому что мне нравилось находить их секреты, о которых они сами не знали. Я был способен майнить красоту даже там, где её, казалось бы, нет. Заявки на съёмки росли как снежный ком, тысячи простых девчонок хотели открыть себя заново. Тысячи простых парней хотели поверить в силу обычной красоты. Девчонки повышали самооценку, парни понижали требования. Все в выигрыше.
Я обладал врождённой способностью видеть плоско. Тень, свет, глубина пространства, предметы интерьера – всё это теряло трёхмерность, и уже на этапе взгляда становилось сеткой координат на фотобумаге, куда оставалось правильно вписать модель. В моих кадрах всегда соблюдено равновесие, поэтому они так располагают к себе, внушая спокойствие и доступность. Я сокращал дистанцию между смотрящим и показывающим. Я продавал реальность происходящего – обычных девушек в обычных квартирах. Я продавал осуществимость. Я вдохновлял и буквально говорил им встать с инвалидной коляски неуверенности и идти. Неправдоподобные модели глянцевых журналов были всё равно что трупами с посмертным макияжем фотошопа. Мои модели пропагандировали продолжение жизни.
– Чел, ты крут,– Бариста одобрительно кивает головой, потом чешет в задумчивости бороду и спрашивает, – мне всегда было интересно: когда фоткаешь голых женщин, нужна же нереальная сила воли?
– Знаешь,– я претенциозно отпиваю из стакана,– в этом деле сила воли только мешает.
– Да ну!– Бариста всем весом наваливается на стойку,– ты не сдерживался?
Я подмигиваю ему и опускаю взгляд на стакан с алкоголем. Мои воспоминания о славном прошлом и есть алкоголь, вытаскивающий из меня это гадливое чувство тщеславия, которое обратится с похмельем в чувство стыда.
– Но это уже в прошлом.
– Причина?
– Одна женщина.
– Дай угадаю – она не хочет делить тебя с твоими моделями?
– Можно и так сказать.
***
После изматывающего тура я вернулся в Питер, где у меня оставалась ещё пара заказов. Сил уже не было, и я решил сразу добить оставшиеся заказы, пока вся аппаратура в сборе, чтобы потом откисать несколько дней дома. Прилетел я раньше назначенного времени, поэтому наудачу позвонил следующей заказчице из списка. Она согласилась перенести время на пораньше, однако ещё не закончила смену в пиццерии, и я решил подождать её там. Это стало первой причиной, почему у меня после неё больше никогда не было съёмок. Эльвира работала за кассой в чёрной брендовой кепочке, время от времени улыбаясь мне, пока я доедал пиццу. Я никогда не проводил время со своими моделями, поэтому данный опыт сыграл со мной злую шутку. За те два часа, пока я наблюдал за ней в пиццерии, начал постепенно складываться её психологический портрет, что могло отрицательно повлиять на фотосессию. Я создавал характеры с нуля, и детали биографии всё портили.
Второй причиной стала съёмка, точнее, невозможность её продолжать после того, как девушка разделась. Два страшных шрама в области живота вывели меня из равновесия. Я снимал девушек со шрамами после операции, со следами порезов и сигаретных ожогов от самоповреждения, но с ножевыми ранениями девушек у меня ещё не было. Бывший парень два раза воткнул в неё нож по самую рукоятку, после чего она потеряла почку и веру в отношения.
– Кажется, я понял,– Бариста с умным видом перекладывает кофейные чашки из шкафчика на стойку,– это называется «синдром спасателя». Ты встретил травмированного человека и захотел её спасти, чтобы привязать к себе.
– Нет,– я отрицательно мотаю головой, отпиваю глоток виски и начинаю крутить стакан на подставке.– У меня тогда не было и мыслей заводить отношения. Я верил в то, что я абсолютно самодостаточен. Меня вывело из себя такое отношение к женщине.
– Потому что ты художник, а женщина – это произведение искусства?
– Это как плеснуть кислотой в «Данаю» Рембрандта. Знаешь, мы тогда занялись сексом. Это часто помогало моделям войти в роль, чтобы на кадрах чувствовался скрытый смысл. Но в тот раз не получилось у меня.
– У тебя не встал, или что?
– Согласись, сложно представить что-то более интимное, чем секс. Тем удивительнее то, что сексом можно скрывать свои тайны, понимаешь? Личность в жизни и личность в сексе – это разные состояния. В жизни можно прикинуться кем угодно, но себя не обмануть. А во время секса себя обмануть можно. Вот почему я часто использовал секс в качестве инструмента. Для них я был ненастоящим – я культовый медийный персонаж, в котором каждая девушка видела проекцию своих фантазий и целей. А для меня личность модели должна была оставаться неизвестной, меня интересовало только её перевоплощение в персонажа, в которого она бы поверила, а значит, поверил бы зритель.
– Ты невольно рассмотрел личность Эльвиры, когда был в пиццерии?
– Да, снимки не работали, в них не было тайны, я как будто фотографировал какую-то знакомую. Мы отложили съёмку. Я перенёс все заказы на неопределённый срок. И, раз уж я начал раскрывать её личность, я решил провести с ней какое-то время, узнать Эльвиру, чтобы подобрать ключики к фотосессии.
Бариста вытирает руки о полотенце, висящее на плече:
– А в итоге привязался.
– Да, но для меня это ещё не было поворотным моментом.
– И когда произошёл этот момент?
– Всё наслаивалось постепенно. Знакомство затянулось на несколько недель. Забегая вперёд, мы так и не сделали фотосессию. Пока мы тусовались, я всегда имел при себе камеру – маленькую плёночную Олимпус Mju II, знаешь такую? Королева «мыльниц». Цена как у стартовой зеркалки Кэнон. Плёнку я зарядил, как сейчас помню, двадцать пятую Тасму, которая для аэросъёмки.
– Вы тоже в Сельцо ездили на аэродром?
– Что? Нет, никуда мы не летали, мне просто нравится контрастность этой плёнки – при своей аутентичной зернистости, она хорошо показывает детали. Это же военная плёнка! Плюс, она тонкая, и, бывает, краями слипается в бачке, из-за чего неравномерно проявляется, а я очень люблю такие случайные вещи.
– Божественное вмешательство.
– Это ты хорошо сказал!
Я поднимаю стакан в честь случайного тоста, на минуту задумываюсь и продолжаю:
– Так и случилось – божественное вмешательство помогло Эльвире. Когда мы были в Гатчине, Эльвира забрала у меня эту камеру и стала снимать меня на фоне дворца. Какой-либо эстетической ценности снимки не имели и были примитивны – я на фоне дворца, я на фоне озера, я на фоне подстриженных кустов, ну, ты понял. Потом, когда я напечатал фотки, я обнаружил аномалию. На одном из снимков, там, где я позировал на фоне дворца, присутствовала еле различимая размытость, и это не было браком. Я долго не мог понять, что это за разводы. Оказалось, Эльвира сфотографировала потоки воздуха. Представляешь, она поймала ветер!
У Бариста гримаса удивления и недоумения:
– У тебя есть эта фотка в телефоне?
– Я выбросил телефон в канал.
– Нафига?
– Я в сквоте не просто так зависаю, я там прячусь.
– Криминал?
– Нет, меня преследует сталкер.
– Что случилось?
Я ставлю пустой стакан на подставку и кивком головы прошу повторить.
– Я недорассказал про Гатчину. Ветер в кадре – это, конечно, чудо, но прикол не в этом. Меня никто никогда не фоткал. Проклятье профессии – всегда оставаться за кадром жизни. Снимая меня в Гатчине, Эльвира показала своё отношение ко мне – я тоже достоин быть в кадре, я тоже важен. Для неё важен.
– А чем Эльвира занимается, кто она?
– Она вэбкамщица. Причём довольно успешная.
– Ну, вы нашли друг друга: ню-фотограф и вэбкам-модель,– смеётся Бариста.– Выходит, она тоже никогда никого не снимала, ведь снималась сама. У неё появился человек, которого она захотела сфотографировать.
– А у меня появился человек, который захотел сфотографировать меня.
– И тогда вы поняли, что влюбились?
– Мы никогда не влюблялись и не любили друг друга, мы сразу перешли к дружбе.
– По-твоему, дружба сильнее любви?
– У всех по-разному, но нам подходила только эта форма отношений. Я говорил, что Эльвира зареклась заводить отношения?
– Да, они закончились поножовщиной, и с тех пор она избегала прямых отношений с мужчинами, уйдя на удалёнку, в вэбкам.
– Не так. Элька не рассказывала, что случилось, но у них была сильная любовь. Было слишком много эмоций в этих отношениях, они как будто специально раскачивали друг друга эмоционально, чтобы любовь чувствовалась острее.
– Типичный случай – после ссоры горячее страсть.
– Ну да, в итоге качели привели к трагедии. После ранений она стала бояться не мужчин, она боялась этого эмоционального состояния – любви.
– А ты?
– Профдеформация. Я влюблялся раз пятьсот и просто перестал верить в это чувство. Для меня оно давно обесценено. Поэтому и в любовь, как в область чувств, потерял способность верить.
– Ты уж извини, но, по-моему, вы оба себя обманывали, у вас были те же отношения, что у всех, без разницы, как их называют – любовью или дружбой.
Я делаю один большой глоток виски. Хочу закинуть ногу на ногу, но не получается. Ноги будто онемели. Таблетка Бариста действует иначе. Мне бы поскорей лечь в постель, однако необычайная ясность ума подкупает. После колёс, что давал мне Бармен, я чувствовал прилив сил, но плохо соображал, а сейчас слова сыплются из меня, как леденцы из опрокинутой вазы.
– По сути, ты прав. Мы себя обманули. Мы оба были в западне из-за нашего прошлого, и нам нужен был некий концепт, который позволил бы нам перешагнуть через барьер, и при этом не чувствовать, что мы сломали себя. Просто мы не вели себя эмоционально, как типичные влюблённые. Наши отношения имели деловой характер.
– У вас были свободные отношения?
– Я понимаю, что ты имеешь в виду. Мы и правда, ни в чём друг другу не клялись и ничего не запрещали. По одной простой причине, что это было не нужно: у нас разные судьбы, но проблема общая – мы не могли жить дальше, не покончив с прошлым. Мы итак понимали, что случайный секс не имеет смысла. И заводить новых друзей не нужно – мы оба устали от новых знакомств, потому что это наркомания – ты без конца ищешь новых ощущений от знакомств, меняя людей. В итоге каждый ушедший знакомый откусывал от тебя кусок памяти. Нам скоро по тридцать – а мы до сих пор пустые. Любовь нас не интересовала, как и всё, что основывается на чувствах, нам нужна была рациональная дружба.
– Под которой вы маскировали любовь, но не хотели признавать это, иначе на ваши отношения упала бы тень прошлого, в которой любовь обесценена.
– Так выпьем же за это гениальное решение!– я допиваю напиток и громко ставлю тумблер на стойку.
– Повторить?
– Нет, я скоро домой. Забавно получается – максимальный уровень дружбы достигается только в совместной жизни. Обычная дружба, когда вы встречаетесь на тусовках, рано или поздно упирается в разницу развития, а если ты живёшь с другом, то вы синхронизируетесь. Вы не только становитесь хранителями общей памяти, вы становитесь свидетелями развития личности. Хочешь не хочешь, но ваши личности всегда выравниваются, вы будете единым целым всегда.
– Хранители памяти. Хорошо сказано.
– Можно, конечно, хранить память и в одиночестве, но ценность памяти состоит во взгляде со стороны свидетеля. Ты никогда не сможешь доверять самому себе, своим принципам и мыслям, потому что, говоря юридическим языком, ты заинтересованное лицо. Человеку нужно доверенное лицо – партнёр, через которого он сможет отзеркалить всё это на себя. Когда мы с Эльвирой, пьяные, сидя в баре, пришли к этому выводу, мы для себя всё поняли – у нас общая цель, значит, мы можем быть поручителями друг для друга.
– Она употребляла алкоголь с одной почкой?
– В то время она ещё не уважала себя и не ценила свою жизнь.
– Вы сразу съехались?
– Да, я как раз недавно купил квартиру, мы начали её обставлять с нуля. И обставлять с нуля свою совместную историю. Чтобы наши судьбы приобрели, наконец, смысл.
– Ну а почему вы расстались?
– Пожалуй, мне пора, что-то меня развезло. Завтра зайду и расскажу.
***
Коридор вытягивается в длинный узкий тоннель и закручивается – я касаюсь пальцами стен, чтобы тело определяло, где верх и где низ. Открывая дверь в квартиру, я молюсь, чтобы дома кто-то был. Разговоры соседей, как включённый телевизор, позволяют мне держаться недалеко от реальности, когда я улетаю в воспоминания. Я хватаюсь за спинку кровати и переворачиваю комнату на девяносто градусов.
«Карлсон не был плодом фантазии Малыша»,– говорит, видимо, Сценарист. «Но он не был реален»,– возражает, наверное, Учёный. «Всё наоборот, именно Малыш являлся плодом фантазий Карлсона» – «Ха-ха, почему ты так думаешь?» – «Пропеллер – это аллегорический способ возвращения в прошлое. Карлсон застрял в детстве, и его никто не понимает, поэтому он разговаривает со своей детской проекцией» – «Ну, да, хвастается и дурачится» – «Веселье – это ширма, за которой он прячет своё разочарование в жизни. Они с Малышом отыгрываются на неудачах. Знаешь, что означает сцена, где они воруют плюшки у фрекен Бок? Карлсон – альфонс, живущий за счёт фрекен Бок» – «Хочешь сказать, он женился на ней?» – «Да, поэтому в фантазиях она домоправительница – милфа-деспот. Зато он таскает у неё плюшки-деньги» – «Интересная версия» – «А сам мечтает о большой, чистой любви. О чём намекает Малышу» – «И в кого же он влюблён?» – «Альтушка с синими волосами» – «Которую по телевизору показывали?» – «Да, блогерка из Ютюба»…
Беседа соседей превращается в белый шум, и я лечу на пропеллере к ранней версии себя. Но мне нечем похвастаться, я просто возвращаюсь в то время, где не было Евы. Я прячусь от Евы в воспоминаниях.
Мы порядочно напились с Эльвирой где-то на «Ваське» и забрели в район хрущёвок на Беринга. На одном из домов я увидел пожарную лестницу – а мы как раз планировали погулять по питерским крышам. Нас это развеселило: крыши хрущёвок – совсем не те питерские крыши, по которым хочется гулять. И полезли по лестнице. Даже под алкоголем было страшно и, если бы я лез первым, то передумал бы, но Эльвира поднималась первой, и она не останавливалась. Была зима, перчатки прилипали к перекладинам и скользили ноги, но Эльвира ползла, словно гусеница в своём длинном пальто, уверенно и обречённо, как будто её жизнь не имела никакой ценности. И я полз за ней, собирая лицом ледяную крошку, сыпавшуюся из-под её ног, боясь упустить момент, когда она сорвётся, чтобы поймать её и придать её жизни ценность.
Мы залезли на крышу, и там была огромная куча снега, так что погулять по крыше не удалось. Впрочем, мы сильно устали, пока поднимались, поэтому упали в снег, чтобы отдышаться. Так и валялись в снегу, смотрели на Смоленское кладбище и делились пьяными философствованиями. Потом Эльвира задала вопрос, который всё это время пытался найти выход из подкорки моего мозга, но я его игнорировал:
– Эдик, а у тебя не возникала мысль кардинально изменить свою жизнь?
– А зачем мне что-то менять, я хорошо устроился.
– То есть, ты ещё не начал подозревать что-то неладное?
– Ты о чём? Про то, чем я занимаюсь?
Я положил ледышку Эльвире на лоб, ледышка скатилась ей за шиворот. Эльвира приподнялась, чтобы вытряхнуть ледышку, продолжая размышлять:
– У меня эти мысли всё чаще и чаще.
– У тебя тоже дела идут хорошо, денежка капает.
– Но я не чувствую, что принадлежу себе.
– Все на кого-то работают. Ты показываешь себя, тебе платят.
– Я чувствую себя музыкальным автоматом, в который засовывают пятаки.
– Тебя просят сыграть, ты играешь. Нет проблем.
– А может, я устала играть то, что они просят. Допустим, меня просят играть на скрипке, а я, может, вообще клавишник!
– Такая профессия, ты сама её выбрала.
– Да, но я не выбирала садиться на смычок! Это уже не музыка.
– Зато при деньгах.
– Они просят, чтобы я плевала на свои шрамы от ножа.
– В смысле, чтобы не стеснялась их?
– В смысле, чтобы по шрамам стекала слюна.
– Фу… Но с другой стороны, ты смогла монетизировать свой дефект.
– В том то и проблема, что деньги зарабатывают шрамы. Была бы я нормальной, я бы на фиг никому была не нужна. Мой дефект завладел мной. То, что меня должно было убить, продолжает издеваться надо мной.
На экране телефона появилось сообщение от одной из моделей, которая всё ещё ждала съёмок. Я устал отвечать, что съёмки откладываются, и заблокировал её. Где-то внизу проехала машина с сиреной, её было слышно минуты три.
– Эдик, ты ведь тоже себе не принадлежишь. Они покупают твоё имя, и всем пофигу, кто ты на самом деле. Значимость твоей фигуры застилает тебе глаза точно так же, как твоим клиенткам. Даже сам ты живёшь своей фигурой, а не собой. И твой секс с ними ненастоящий.
– С чего ты взяла, что у меня бывает секс с моделями?
– Ты меня трахнул на первой же съёмке, думаешь, я не догадывалась о твоих методах и секретах? Я подписана на твой Бусти, я смотрела стримы со съёмок, я замечала взгляд этих девчонок, это же очевидно.
– Ну, я не прям всех подряд трахал.
– Проблема в том, что ты их не трахал.
– Трахали меня, ты хочешь сказать?
– Тебя там вообще не было. Трахали только твою значимость. Нужен ли ты кому-то без этой значимости, как я без своих колотых ран? Ты вообще знаешь, какой ты на самом деле?
Тот момент, когда ты во всех случаях послал бы человека на три буквы, кроме одного случая – когда ты неравнодушен к нему. Вместо обиды и раздражения, я вдруг начал искать оправдания её словам. Я – манекен, на который проецируют образы своих фантазий. Кто я? Чего хочу? В моём творчестве давно нет развития, я как конвейер обслуживаю нескончаемый поток клиентов. А ведь когда-то я мечтал стать кинооператором, планировал снимать короткометражки. Или фотографировать архитектуру. Я совсем не знаю, как это делается. Я застрял на месте, мой талант – моё проклятие. Как шрамы на животе Эльвиры.
***
Я чувствую, как у меня останавливается сердце. Каждый следующий удар всё реже и реже. Я скидываю одеяло и пытаюсь сползти с кровати. В комнате выключен свет, все спят. Не могу выдавить из себя ни звука, чтобы позвать на помощь. Я ползу по полу, одеяло ползёт за мной, цепляясь за ногу. Удар сердца и ожидание – будет ли следующий? Вдруг я снова оказываюсь в кровати и не могу пошевелиться. Сердце перестало стучать, свежего воздуха в лёгких давно нет. Я понимаю, что я на кладбище, и вижу оградку могилы. Из темноты ко мне выходит старуха с впалыми щеками и выпуклыми глазами. Старуха-смерть, вместо косы, держит закоптившийся на костре чайник. Из моего трупа выходят жидкости.
Я не понимаю – проснулся ли я, или сонный паралич ещё продолжается. В комнате уже светло. Писатель бьёт по клавишам печатной машинки. Я ощущаю сырость простыни, значит, я вышел из паралича. Чувство ужаса постфактум вдруг сменяется на оптимистическое настроение, ведь в ту ночь, когда я сбежал из дома, вероятно, тоже был паралич.