Все хотят умереть завтра. Честная книга о хирургах и пациентах
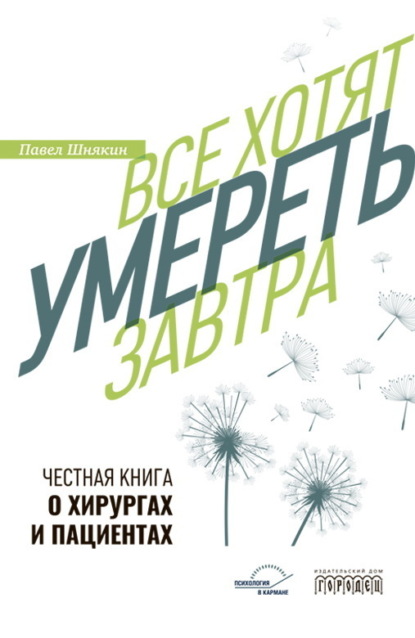
- -
- 100%
- +
– То есть вылечить это нельзя?
– В вашей ситуации на полное излечение рассчитывать нельзя. Мы рассматриваем, как с помощью комбинированного лечения продлить вам жизнь, при этом не ухудшив ее качество.
Обычно после этого возникает пауза, пациенту нужно время, чтобы принять услышанное. Еще минуту назад была надежда, и вдруг все рухнуло. Кто-то понимающе кивает головой, кто-то молчит, уставившись в одну точку, кто-то нервно стучит пальцами по столу. Некоторые начинают плакать – не только женщины. Когда плачут мужчины, становится как-то особенно тяжело, и немного стыдно, что являешься свидетелем их слабости. Но без осуждения. Какие вообще тут могут быть осуждения. Никто из нас не знает, как себя поведет в подобной ситуации.
Через некоторое время, совладав с собой, пациенты начинают задавать уточняющие вопросы:
– Сколько я могу еще прожить?
– А если поехать лечиться за границу?
– Есть какие-то другие способы лечения?
– Я буду испытывать боль?
Когда пациенты выходят из кабинета после подобного разговора, всегда выглядят растерянными, глаза затуманиваются, все их движения становятся медленными, плечи опускаются под давлением груза постигнутого. Они путают, в какую сторону открывается дверь, поворачивать налево или направо по коридору. Они забывают, на каком находятся этаже. Они забывают свои вещи у меня в кабинете. А вместе с забытыми вещами в кабинете остается их прошлая жизнь, ведь за дверями их ждет новый, не дивный мир. И в этот момент я для них не просто доктор, не только тот, кто будет стараться им помочь. В эти мрачные минуты я тот, кто принес плохую весть.
Я разворачиваюсь к пациенту. Молниеносный взгляд, попытка по моему лицу и глазам узнать все раньше, чем я начну говорить.
– Я посмотрел снимки, у вас все в порядке, никакой операции не потребуется.
Короткая, весьма короткая пауза. А потом улыбка. У некоторых слезы – от счастья. Кто-то облегченно выдыхает, кто-то говорит: «Слава Богу!» Жизнь продолжается. Солнце снова светит. Счастливейший день. В эти минуты для них я не просто доктор, и даже не нейрохирург, а тот, кто принес радостную весть. Ежедневно врачи, как когда-то почтальоны, разносят адресатам радостные и печальные вести.
Вспоминается страх из детства – ночной звонок в дверь. Кто там? Почтальон. Ночной почтальон, как правило, об одном. Выдает телеграмму и просит расписаться. Когда отец расписывается, я вижу, что у него дрожит рука. Никаких праздников и дней рождений в ближайшие дни нет, а значит, в телеграмме дурная весть. Текст телеграммы короток, но отец уже несколько раз пробегает по ней глазами и вдруг улыбается, и, значит, все обошлось. Старый друг будет проездом в нашем городе, о чем и извещает. И почтальон из зловещего тут же становится приятным и милым человеком.
Сейчас никто не посылает телеграмм. И почтальоны уже не страшны. А врачи все так же изо дня в день продолжают разносить хорошие и плохие вести своим пациентам. Ну как их не бояться?
А не хочется, чтобы боялись. Страх пациентов не делает нас могущественными или важными, а только отдаляет и мешает установить контакт.
Недавно я стал замечать, что испытываю особый душевный подъем от радости пациента, которому сказал, что операция не нужна и все с ним будет хорошо. Бывает, что пациент уже вышел из кабинета, а мне все радостно. И это может продлиться на весь день. Я ничего особого не сделал – просто посмотрел снимки и донес до пациента добрую весть. Такой огромный подарок, который мне не стоил особого труда. Мне даже показалось странным, что я меньше радуюсь хорошо выполненной операции, которая помогла пациенту или даже спасла ему жизнь. Странно? Да нет, все верно, все как нас учили: лучшая операция – та, которой удалось избежать.
Медицина страшна, больница страшна, врачи страшны? – Нет, не слышал об этом.
Теперь поговорим о нечастой, но существующей категории пациентов, которые не только не боятся врачей, но, наоборот, – очень охотно выискивают у себя симптомы разных заболеваний, жаждут быть обследованными и даже прооперированными.
Речь не о тревожных и ипохондричных людях, у которых где что кольнет, и они уже бегут обследоваться. Эти тоже боятся врачей, но еще больше они боятся за свое здоровье. Один страх перебарывает другой.
Есть особая категория пациентов, у которых объективно нет серьезных проблем со здоровьем и даже жалоб, но есть какое-то необъяснимое влечение к обследованиям, лечению, операции. Они не боятся врачей, напротив, хотят, чтобы врачи их лечили, и иногда даже искусственно вызывают у себя те или иные симптомы. Это уже рассматривается как патология и в медицине называется «синдром Мюнхгаузена».
За свою профессиональную жизнь хирурги не раз встречают таких пациентов. Они прямо лезут под нож, убеждая врача, насколько страдают от тех или иных симптомов, поэтому на их теле можно увидеть немало послеоперационных рубцов. На самом деле, бывает не так просто понять, что у пациента не телесная болезнь, а психическая.
Врач в недоумении: по снимкам есть небольшие изменения, но страдания пациента такие невыносимые, что никак не вяжутся с ними. Первая мысль – пациент является симулянтом и разыгрывает спектакль, имея какие-то скрытые цели. Но вопрос о симуляции отпадает сразу, когда речь заходит об операции. Любой симулянт на этом этапе дает задний ход. А эти «мюнхгаузены», напротив, с радостью воспринимают весть об операции, счастливы возможности прооперироваться.
Как недобро иногда совпадают звезды: пациент с «синдромом Мюнхгаузена» находит «своего хирурга», у которого излишне чешутся руки. Хорошим это заканчивается редко.
Закон хирургии гласит: хирург должен бояться пациентов, которые не боятся операции. Страх – это адекватная реакция на хирургию. И с этой понятной реакцией врачу и пациенту нужно работать, чтобы понизить ее от первичного ужаса до легкого волнения. Если же после известия о необходимости операции пациент сияет от радости и счастья, то хирургу не стоит торопиться радоваться вместе с ним – реакция пациента неадекватна ситуации, и нужно еще раз хорошенько подумать: правильная ли выбрана тактика и не «мюнхгаузен» ли перед вами?
Что у вас болит?
Я посмотрел на часы – 17.45. Через 15 минут заканчивается прием в платной клинике. Последний на сегодня пациент должен был явиться в половине шестого, но его до сих пор нет. У меня возникает легкая надежда, что он не придет, и я через пять минут уйду домой, и может, еще проскочу самый пик дорожной пробки – она начинается в шесть.
В 17.50 надеваю пальто, проверяю, закрыл ли окно, и уже собираюсь выйти, как вдруг после короткого стука в кабинет входит высокий молодой человек. Он сутул, бледен и длиннонос. На нем растянутый свитер и джинсы, а волосы, достигающие плеч, не мыты, наверное, неделю. Так может выглядеть непризнанный поэт или IT-специалист.
– Доктор, я кое-как успел к вам, – говорит он, запыхавшись.
– Вообще-то не успели. Мой рабочий день заканчивается через десять минут, и я уже не могу вас принять.
– Доктор, мне очень нужно, я с большим трудом к вам попал.
Надежда добраться домой без пробок рушится, я снимаю пальто, надеваю белый халат, сажусь в кресло и, пытаясь скрыть недовольство, спрашиваю пациента:
– Что с вами случилось?
– Доктор, у меня очень непростая ситуация. Я болею достаточно долго, и проблем со здоровьем у меня много. Я волновался, что, когда приду на прием, что-нибудь важное обязательно забуду. Поэтому я все заранее записал на листочке. Вы меня извините, но можно я вам просто зачитаю?
Я сглотнул и попытался не выказать нарастающее раздражение. Записал жалобы на листочке? Тебе сколько лет? Ты что, не можешь просто их перечислить? Но, естественно, я ответил:
– Да, конечно, никаких проблем.
– Спасибо, – сказал пациент и достал из сумки два альбомных листка, исписанных с обеих сторон мелким почерком.
Меня начинало потряхивать.
Прежде чем начать читать, он еще раз пробежался глазами по тексту, видимо, проверяя, не упустил ли чего. Потом перевел взгляд на меня, выдержал небольшую паузу и стал читать:
«Меня беспокоит… а еще… бывает и так… особенно часто такое случается после… я не могу найти удобного положения… порой боль распространяется… возникает дискомфорт… обостряется весной… и такое ощущение, как будто… и прямо жжет… а в последнее время…». Он читал монотонно, иногда ненадолго останавливался и смотрел мне в глаза, видимо, акцентируя внимание на особо важном.
К концу чтения первого листка я понял, что пациенту ничем помочь не смогу, что это еще один ипохондрик, погрязший в своих надуманных проблемах со здоровьем. Нужно его скорее прервать и послать обратно в регистратуру, где ему вернут деньги, так как его проблемы вне зоны моей компетенции.
– И вот когда я пытаюсь присесть и немного влево разворачиваю туловище, у меня как будто немеет задняя часть бедра и…
– Послушайте, я выслушал ваши жалобы и понял, что вы пришли не по адресу. Я нейрохирург, и ваши проблемы я не решу. Вам вернут деньги за прием.
– Но вы даже не дослушали меня, – с обидой в голосе произнес пациент и опустил глаза.
Он как будто уличил меня в чем-то нехорошем, и я вновь испытал прилив раздражения и даже гнева. Тем не менее, извинился и попросил, чтобы он продолжил. Но было видно, что пациент растерялся, как будто заранее репетировал другой сценарий и сейчас не знает, как себя вести.
Он начал читать вновь. Но теперь сбивчиво и невнятно, как будто торопясь дочитать страницу, уже не видя в этом особого смысла. Чувствовалось, что он перескакивал и пропускал какие-то строки, так как жалобы звучали еще более бессвязно. Под конец он просто что-то бормотал себе под нос. И тут я заметил, что лист в его руке дрожит, а он не бормочет, а едва сдерживает слезы.
Редко в жизни мне было так стыдно за себя. Все мое раздражение и нервозность смыло в один миг. Передо мной стоял не ипохондрик, из-за которого я не успел уехать домой до пробки, а несчастный молодой человек, который пришел к врачу в надежде на помощь. Он готовился к встрече со мной, записывал свои жалобы, наверняка дома их неоднократно перечитывал. А мне было важно поскорее закончить прием.
Я приоткрыл окно. Кабинет наполнил прохладный вечерний воздух и звук машин. Пододвинув кресло поближе к пациенту, я попросил передать мне его записи. Он неуверенно протянул мне листы, видимо, не рассчитывая их кому-то показывать. Я отметил, что у пациента красивый почерк. Он явно старался, когда записывал свои жалобы. Я пробежался еще раз по тексту и окончательно убедился, что имею дело с психосоматическими проблемами, а не с нейрохирургией. Но это не значило, что я совсем не смогу ему помочь.
Я провел общий осмотр пациента и внимательно оценил неврологический статус. Отклонений не было. Просмотрев имеющиеся у него анализы и обследования, я заключил, что пациент соматически здоров. При этом он не симулянт. Ему действительно плохо, и он ищет помощи.
– Простите, если я вас обидел своей поспешностью, – аккуратно начал я длинный разговор. После чего не торопясь и насколько можно доходчиво попытался объяснить ему, что ничего страшного со здоровьем я у него не нахожу, что его жалобы не вызваны какими-то серьезными отклонениями или заболеванием. Я сказал, что он просто родился особо восприимчивым к своим телесным ощущениям и при этом еще имеет повышенную тревожность (не знаю, как лучше было обозначить его ипохондрию). Нужно просто научиться с этим жить. А если не получается самому, большую помощь могут оказать психотерапевты.
Пациент слушал очень внимательно и иногда кивал головой. Не слишком веря в успех своего предприятия, напоследок я спросил у него:
– Все ли я понятно объяснил? Есть ли у вас ко мне еще какие-то вопросы?
Пациент улыбнулся и сказал:
– Спасибо доктор, вы мне очень помогли.
Я не ожидал этого услышать, поэтому немного смутился. Перед уходом пациент пожал мне руку и еще раз улыбнулся.
Когда я уходил из клиники, дорожное движение было свободным, пробка «рассосалась», девятый час. Я ехал домой и думал о том, что утром я прооперировал пациента со сложной патологией, днем проконсультировал нескольких нейрохирургических больных, кому-то назначил лечение, кому-то рекомендовал операцию. Но именно контакт с последним пациентом наполнил меня каким-то приятным и едва не забытым чувством. Чувством, что я в первую очередь врач, а уже потом узкий специалист-нейрохирург. Я просто выслушал пациента, поговорил с ним, что-то посоветовал, и ему стало получше. Может, ненадолго, но получше. И мне показалось это искусством более высоким, чем виртуозное владение скальпелем. Помогать, даже не прикасаясь к пациенту.
Я ехал домой и был наполнен прекрасными чувствами и гордостью, что я врач, и моя помощь не ограничивается только рассечением и сшиванием органов и тканей. Это было удивительно – это было открытие. Всю дорогу я улыбался и даже что-то напевал.
Контакт пациента с врачом всегда начинается вопросом: на что вы жалуетесь? Что вас беспокоит? Что у вас болит? Наверное, это самые частые слова, которые врач произносит каждый день. И каждый день слышит десятки жалоб, а за неделю – сотни, а за все годы работы вообще трудно представить сколько. Иногда подумаешь, что уже слышал все, и ничему не удивишься, но очередной пациент опровергает эту самоуверенность.
Скорая помощь доставила алкоголика, которому в пьяном угаре сожительница проломила табуреткой голову. Треть ножки табуретки была внутри головы пациента, две трети – снаружи. Единственная его жалоба или, точнее, просьба: «Вытащите это у меня из головы, мне мешает». То, что убивает обычного человека, делает алкоголика сильнее!
На приеме молодые супруги. Пару месяцев назад мужчина прооперирован по поводу опухоли спинного мозга. «На что жалуетесь?» – спрашивает доктор. Мужчина пожимает плечами. Приходится брать инициативу жене: «Видите ли, после операции у моего мужа развилась усиленная эрекция. Поначалу это казалось даже хорошо, но извините, пожалуйста, у меня больше нет сил».
Седовласый мужчина лет семидесяти жалуется: «Доктор, у меня проблемы со спиной. Когда я пробегаю больше двенадцати километров, спина начинает ныть и мышцы как бы стягиваются». Я ловлю себя на том, что у меня такое случится на середине его дистанции, но молча записываю жалобы и озадаченно киваю.
Среди жалоб пациентов самая частая – боль. Болеть у человека может вообще все: кожа, кости, мышцы, связки, органы, нервы. Даже ампутированные конечности болят – это «фантомные боли». Такое ощущение, что без какой-либо боли вообще нельзя жить. Боль – как экзистенция. «Я болею, следовательно, существую».
«Болит вот здесь и отдает сюда, а отсюда туда и еще вон туда», – говорит пациент и пальцем показывает ход боли. Это очень важно, чтобы пациент показал, желательно одним пальцем, где у него болит, потому что анатомические представления у пациентов не всегда совпадают с врачебными. Например, у каждого пациента свои границы поясницы. Желудок почти всегда где-то в области пупка. Если боль отдает «в ляжку», то врач не должен быть уверен, что точно понимает, где это место у пациента. А если пациент жалуется на боль в плече, пожалуйста, пусть он покажет это место пальцем. Для пациентов «плечо» – это там, где погоны, то есть от шеи до руки. Для докторов это надплечье, а плечо как раз часть руки до локтя.
Очень важно уточнять у пациента, как болит. Характер боли может многое подсказать о ее причине. Беда в том, что иногда пациенты подбирают такие описания боли, которые только больше запутывают докторов. Кроме классических: ноет, ломит, давит, распирает, рвет, колет, режет, пульсирует, стреляет, жжет, можно услышать: карябает, холодит, свербит, свистит, грызет, сосет, ползет, щемит, мозжит. Один пациент, пытаясь описать свою боль, сказал: «как-то шмурдит». Вот и понимай как хочешь. Однако не менее часто пациенты говорят так: «Ну, как болит… Ну, вот как-то так вот болит, не знаю, как объяснить».
Головная боль – одна из самых частых жалоб пациентов, которые приходят в поликлинику или вызывают скорую помощь. Голова болит у всех, ну, или почти у всех, поэтому особо никого не пугает. В настоящее время известно более 100 причин головной боли. И каждая требует своего подхода к лечению. А теперь представьте терапевта в поликлинике, к которому каждый день приходят пациенты с жалобами на головную боль. За каких-нибудь десять минут, отведенных на прием, врач должен выявить причину головной боли и назначить лечение. Реально это? При очевидной причине боли и достаточном опыте врача часто это возможно. Однако также возможно пропустить какую-то серьезную причину головной боли. Например, иногда головная боль может быть симптомом опухоли головного мозга, воспалительных заболеваний или разрыва аневризмы.
Переместимся из поликлиники на скорую помощь. Каждый день на подстанции поступают звонки от пациентов с головной болью. Доктора приезжают на вызов, измеряют давление, и у многих оказывается гипертонический криз. Верхнее давление 200! Конечно, заболит голова. Пациенту ставят укол, давление снижается, головная боль утихает, и врач уезжает на следующий вызов. И так по нескольку раз в день.
Разрыв аневризмы также вызывает головную боль и часто сопровождается повышением артериального давления. И это мимикрирует гипертонический криз, потому что симптоматика очень похожа: головная боль плюс повышение артериального давления. Конечно, есть небольшие различия, но в целом спутать легко. Поэтому, когда у предшествующих 99 пациентов действительно оказался обычный гипертонический криз, сотого пациента с разрывом аневризмы, к сожалению, легко пропустить. И пропускают.
Мужчина 50 лет вызвал скорую помощь, потому что ему как-то «нехорошо с головой» и давление «скакануло». Приехал фельдшер, измерил давление, выставил гипертонический криз, сделал укол и уехал. Но головная боль не проходила, и на следующий день пациент опять вызвал скорую. Приехал врач, измерил давление, которое снова оказалось повышенным. Снова укол, снижение давления – и всего доброго. На следующее утро голова просто раскалывалась от боли. Мужчина набрал номер скорой помощи и вновь рассказал свои жалобы. Но на этот раз диспетчер отказала ему в вызове врача, сославшись на то, что он уже два дня подряд обращается с одним и тем же. Она рекомендовала ему сходить в поликлинику на прием к терапевту, который распишет лечение.
– Ничего жизнеугрожающего у вас нет, – заключила она.
Вечером лежащего на полу без сознания мужчину нашла пришедшая с работы дочь. Скорая помощь доставила его в стационар в глубокой коме, на искусственной вентиляции легких. На компьютерной томографии выявили массивное кровоизлияние в мозг вследствие разрыва аневризмы – вероятно, повторного этим вечером. Пациент не пережил ночь.
Я знаю этот случай, потому что от дочери пациента поступила жалоба на скорую помощь, и мне необходимо было разобраться в правильности действий медперсонала. Я изучал медицинскую документацию, оформленную фельдшером и врачом скорой помощи, прослушивал записи разговоров пациента с диспетчером. Зная, отчего болела голова и впоследствии умер пациент, легко было найти виновных и указать пальцем. Но это рассуждения задним числом. А по сути, все было сделано правильно: скорая выезжала дважды, выставлялся весьма вероятный по данной симптоматике диагноз. Виновата ли диспетчер? Тоже трудно винить. Ее задача принимать решения так, чтобы не перегружать необоснованными вызовами бригады скорой помощи. Попробуйте, поработайте на ее месте хоть день, потом осуждайте.
Когда я разбирал этот случай с врачами скорой помощи и их администрацией, все понимающе кивали и соглашались, что пропустили патологию, и нужно постараться избежать этого впредь. Поэтому закономерно задали мне вопрос, которого я ожидал и боялся, потому что не знал ответа:
– Если достоверно разграничить разрыв аневризмы от гипертонического криза с головной болью на этапе скорой помощи невозможно, то, значит, нужно всех таких пациентов привозить в стационары, и пусть там разбираются?
Я понимал, что если дать такую отмашку, то через полдня приемные покои всех больниц заполнят пациенты с головной болью, доставленные скорой, чтобы исключить разрыв аневризмы. Это совершенно нереально. Пришлось остановиться на том, что продолжаем работать как раньше, но чуть чаще вспоминаем про возможность разрыва аневризмы и проверяем у пациентов более характерную для этого симптоматику.
Вернемся в поликлинику для другого примера. При поясничном остеохондрозе беспокоит боль в нижней половине спины, она часто отдает в ногу. Таких пациентов каждый день на приеме терапевта полным-полно: болит спина и нога, болит спина и нога… Ну и выставляется: остеохондроз. И снова остеохондроз.
– У меня болит спина и нога, – говорит пожилая женщина терапевту поликлиники. Доктор что-то уточняет, после чего выставляет диагноз: остеохондроз, люмбоишиалгия – то есть болит спина и нога. Назначается лечение, приглашается следующий пациент, у которого тоже «спина и нога».
Вечером скорая помощь доставила эту пожилую пациентку в стационар, поскольку боль в ноге стала нестерпимой. Когда дежурный невролог снял с нее брюки, то едва не охнул от увиденного: правая нога пациентки была раза в два толще левой и имела багрово-синий цвет – венозный тромбоз. Жизнеугрожающее состояние. Срочная госпитализация. А спина у пациентки могла болеть сама по себе от остеохондроза. Для постановки правильного диагноза на этапе поликлиники достаточно было попросить пациентку снять брюки.
Здесь так же как с головной болью и разрывами аневризм. У 99 пациентов при такой симптоматике действительно будет остеохондроз с люмбоишиалгическим синдромом (спина + нога), а у сотого пациента будет вообще что угодно, например, тромбоз вен, как у этой пациентки. Поэтому, когда врачи ошибаются, часто имеется много предпосылок для ошибки, в том числе схожая симптоматика у редкой и частой патологии. А наш мозг так устроен, что в первую очередь старается найти наиболее простые и часто встречающиеся закономерности, и на этом допускает ошибки. Вы это прекрасно и сами знаете, наверняка решали разные задачи с когнитивными ловушками. Например, если весь лист исписан мелкой цифрой «8», которой там может быть двести штук, то очень легко пропустить среди них цифру «6», особенно если не знать, что она есть на картинке.
Как было сказано, боль – самая частая жалоба. Вторая по частоте – нарушение какой-то функции организма: снижение зрения или эрекции, например. И если боль пугает и нередко заставляет срочно звонить в скорую, то к нарушению функции отношение более спокойное – кроме эрекции, конечно. К примеру, при инфаркте миокарда боль так сильна и страшна, что пациенты обычно не медлят. А вот инсульт в большинстве случаев не сопровождается болью, а в первую очередь вызывает нарушение функции: повисла рука, отказала нога, нарушилась речь. Иногда пациенты полдня мажут парализованную конечность мазью и делают компрессы, прежде чем обратятся за помощью.
На плановый прием пришла супружеская пара пенсионного возраста. Когда супруги приходят на прием вдвоем, в 90 % случаев это значит, что жена привела мужа, а не наоборот. Так было и в этот раз. Женщина уверенно села напротив меня, а ее муж устроился на стуле сбоку. Не успел я уточнить, кто из них пациент, как она начала рассказывать о проблемах у мужа со спиной.
Женщина подробно рассказывала, где и как болит у ее мужа, что усиливает и облегчает боль. Даже как простреливает у него от спины в ногу, она продемонстрировала на себе.
Я перевел взгляд на мужа. Он выглядел каким-то отстраненным, как будто речь вообще шла не о его проблемах со здоровьем. Я подумал: очередная доминирующая жена, которая за долгие годы брака полностью подмяла под себя мужа. Наверняка она сама покупает ему одежду, выдает деньги на сигареты и раз в год разрешает съездить с друзьями на рыбалку. В ее глазах муж так несамостоятелен и беспомощен, что даже обозначить свои жалобы врачу она ему не доверила.
Видимо, сыграла мужская солидарность или мне просто стало жаль ее затюканного мужа, поэтому я довольно резко перебил супругу и спросил у него:
– Может быть, вы сами мне все расскажете?
Но пациент не ответил. Я посмотрел на него с недоумением и даже упреком, но он продолжал молчать.
– Доктор, не старайтесь, он с утра отчего-то перестал говорить.
– Что вы сказали – перестал говорить?!
Я быстро встал напротив пациента и громко спросил:
– Можете назвать ваше имя?
Пациент молчал. Тут я заметил, что правый уголок рта у него опущен.
– Господи, да у него же инсульт! – только и вырвалось у меня.
Пациента прямо из моего кабинета экстренно повезли на компьютерную томографию. Инсульт подтвердился, и пациента госпитализировали в неврологическое отделение.
Я немного посмеялся про себя, как напридумывал о «затюканном муже», которому даже жалобы нельзя самому рассказать, а все оказалось намного проще. Но непросто было понять, отчего супругу не насторожило, что он перестал говорить? Это что – нормально? В порядке вещей? И наверняка же это любящая и заботливая жена, которую волнует здоровье мужа, ведь она сама его привела на прием и очень подробно рассказывала о проблемах со спиной. Часто я не нахожу объяснений действиям пациентов и их родственников.

