Все хотят умереть завтра. Честная книга о хирургах и пациентах
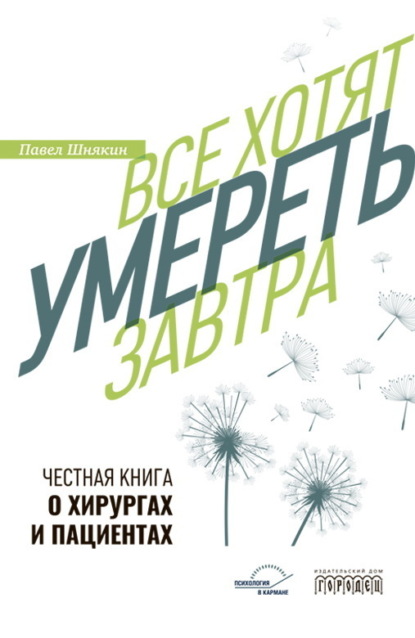
- -
- 100%
- +
Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать,—
Спаси тогда нас, добрый гений,
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь…
Пожелаю всем врачам в определенном возрасте, когда «дряхлеющие силы» начнут изменять, чтобы «добрый гений» их спас и помог уйти вовремя.
А некоторые, напротив, оставляют хирургию слишком рано. По разным причинам. Не всем известно, что Николай Иванович Пирогов закончил активную хирургическую деятельность, когда ему было около пятидесяти лет. В то время он находился на пике своей формы и своей славы, и прекращение широкой практики до сих пор вызывает споры и дискуссии. Оставшуюся жизнь он занимался разными вопросами, связанными с образованием и воспитанием молодежи. Точные причины его раннего ухода из большой хирургии неизвестны. По одной из версий, он проанализировал результаты хирургической деятельности во время Крымской войны, и они его разочаровали – слишком много было смертей за счет инфекционных осложнений, ведь все происходило до открытия антибиотиков, а асептика и антисептика только начинали широко внедряться в хирургию. В это можно поверить, учитывая, каким нравственным, совестливым и честным человеком был Николай Иванович Пирогов.
Я видел несколько достойных примеров своевременного ухода из хирургии. Иногда этому способствовала череда не вполне успешных операций, и честный перед собой хирург, понимая, что сдает позиции, принимал непростое решение уйти. У других пожилых коллег не было череды неудач, и они продолжали оперировать на высоком уровне, но в какой-то момент признавались себе, что стало тяжело, появилась усталость, и в целом они уже «наоперировались» за свою жизнь, и пора уйти на более легкий труд. Очень хорошо, когда хирургу есть куда уйти: на консультативный прием, в поликлинику, на кафедру. А если нет?
А если нет, то пожилому хирургу, в том числе, чтобы прокормиться, необходимо продолжать работать, пока не упадешь. И падают! И умирают от инфаркта миокарда прямо на работе. Сколько таких.
Вспоминаю одного пожилого нейрохирурга. С возрастом он перестал самостоятельно оперировать, но, активно ходил на ассистенции к молодым докторам. Операции в нейрохирургии бывают длительными, и пожилой доктор начал падать прямо во время операций. То ли сознание терял, то ли засыпал, то ли валился без сил. Один, второй, третий раз упал. А потом умер.
Хирургическая жизнь насыщенна, ярка и интенсивна. Глазом не моргнешь, как из молодого станешь очень пожилым хирургом.
Врачи остепененные
В медицине написание диссертации и защита ученой степени практическим врачом – дело обычное. В других специальностях защита диссертации больше связана с работой в вузе и научной карьерой. Трудно представить инженера, который кроме основной работы по вечерам пишет диссертацию. Для чего?
Чем же уникальна медицина, и зачем врачи пишут диссертации?
Причин несколько.
Первая, редкая и благородная – искренний интерес к научной работе, желание реализовать свои идеи и внедрить их в практику. Нередко такие диссертационные работы являются новаторскими и поэтому трудно защищаются. Хочешь защититься – играй по правилам и не делай революций.
Вторая немногочисленная причина – самоутверждение. Рассуждения по типу: «Вот посмотрите, я уже не хухры-мухры, а целый кандидат медицинских наук». «Папа говорил, что из меня ничего толкового не выйдет, а вышел к. м.н.!» Знакомая на вопрос о том, зачем ей диссертация, ответила: «С приставкой к. м.н. я буду завидной невестой». Такие после защиты едва ли не на входную дверь квартиры крепят табличку – «к.м.н.». Один мой товарищ фантазировал, что, когда защитится, набьет на груди татуировку «к.м.н.», чтобы на пляже все знали, кто он и что. В итоге, защитился, но не набил.
На самом деле, написание диссертации по большей части не является высокоинтеллектуальным трудом и доказательством особых умственных способностей диссертанта. В первую очередь, диссертация – аналитическая и методическая работа, которая требует больше упорства, чем ума.
Третья причина самая понятная и практичная – повышение авторитета среди пациентов и коллег, повышение конкурентоспособности, возможность увеличения заработка. За ученую степень прибавляют к зарплате, правда, не так уж много. Но три заветные буквы «к.м.н.»/«д.м.н.» позволяют увеличить стоимость консультаций на частном приеме или стоимость платной операции. На это есть старая шутка: «Диссертация – длинное заявление на повышение заработной платы».
Про повышение авторитета неоднозначно: у пациентов, скорее всего, да, но среди коллег – очень не всегда. Коллеги редко радуются чужим защитам и обычно рассуждают в курилке о коллеге: «Ну, защитился, и что?», «Какой смысл?», «Ничего нового в работе нет», «Знаем мы этих кандидатов». Зато если какой-нибудь молодой кандидат наук допустил оплошность, то держись крепче: то, что простят обычному врачу, вдвойне спросят с остепененного. «Ну как вы могли это допустить, вы же ученый!» – упрекнут коллеги, даже не пытаясь скрыть злорадство.
Четвертая причина защиты диссертации звучит так: «На перспективу». Разноплановую перспективу. Во-первых, это возможность карьерного роста. При прочих равных условиях наличие ученой степени является существенным бонусом при назначении на административные должности, начиная с заведующего отделением. Кроме того, наличие ученой степени – несгораемая опция в портфолио, которая может быть полезной, когда вы решите сменить место работы или жительства. Ученая степень как минимум доказывает, что вы амбициозны, целеустремленны, работоспособны и умеете достигать результата.
Ну и наконец, ученая степень – возможность когда-нибудь перейти работать на кафедру. Например, на пенсии, когда сил оперировать уже нет, но работать еще хочется, это очень неплохой вариант. А на кафедрах нужны преимущественно остепененные сотрудники.
В общем, как ни крути, а в защите диссертации одни плюсы. И не нужно слушать тех, кто говорит, что диссертация ничего, кроме геморроя, не приносит. Я не встречал среди защитивших диссертацию тех, кто об этом горько сожалел.
Если врачи понимают, что значит и чего стоит «к.м.н.» и «д.м.н.», то пациенты, как правило, имеют не очень верное представление. Большинство свято верят, что приставка «к.м.н.» делает врача более грамотным, а «д.м.н.» возносит в светила медицины.
Пациентам надо знать, что диссертационное исследование – углубленное изучение узкой, специфической проблемы. И в этой проблеме врач действительно может разбираться лучше коллег. Но специальность намного шире, и нет гарантии, что диссертант – высококлассный специалист во всех направлениях.
В то же время, чтобы глубоко погрузиться в узкую проблему, приходится глубже познать специальность целиком и даже ряд смежных дисциплин. Поэтому написание и защита диссертации в целом повышают общий уровень врача и его компетентность. Кроме того, научная работа приучает врача к строгости суждений, критическому подходу к анализу информации, к использованию принципов доказательности в повседневной работе.
И все же бывает, что в одном человеке сосуществуют значительный ученый и посредственный врач. Блестящий аналитический ум, генератор идей, подвижник науки при нехватке необходимых для лечения пациентов внимательности, чуткости, эмпатии, сострадания.
До сих пор вспоминаю лекцию профессора-невролога, хотя прошло много лет. Профессор рассказывал про эпилепсию и привел в пример пациента, которому он вызывал судорожный приступ, посветив в глаза мигающим фонариком. Фонарик гас – приступ затихал. Профессор сказал, что это было так удивительно и легко воспроизводимо, что он повторил «эксперимент» несколько раз: зажигал фонарик – приступ, зажигал – приступ, зажигал – приступ. В научных исследованиях качество эксперимента оценивается по его воспроизводимости и повторяемости результатов. Здесь все было представлено в наилучшем виде.
Профессор рассказывал так увлеченно и даже с задором, как будто о каком-то научном открытии. Все в аудитории понимающе кивали и улыбались, и даже послышался смех, когда он признался, что едва смог остановиться и убрать фонарик. Научный азарт. Меня же тогда сильно взволновала возникшая в голове картина. Я представил молодого эпилептика на больничной койке, которому светят в глаза фонариком, и его сводит судорогой. Вновь и вновь. Я всегда был особо впечатлительным.
Мы немного отвлеклись от того, насколько диссертация делает врача более грамотным специалистом. Остановились на том, что уровень диссертанта неизбежно повышается.
А если врач защищается не по своей специальности? Например, нейрохирург может защитить диссертацию по патофизиологии: что-нибудь про молекулярные основы возникновения опухолей головного мозга. Стоматолог может защитить диссертацию по анатомии: особенности строения резцов у лиц монголоидной расы, кардиохирург – по организации здравоохранения: организация кардиохирургической помощи в условиях протяженной и малонаселенной территории. Пациенты даже не предполагают, что так можно, и, естественно, никто им ничего не расскажет. Ну, может, в какой-то параллельной вселенной, где люди говорят только правду, на платный прием к челюстно-лицевому хирургу с приставкой «к.м.н.» приходит пациент, и доктор его предупреждает: «Вы заплатили большую сумму за мой прием, потому что прочитали, что я кандидат медицинских наук, но я должен вас уведомить, что тема моей диссертации «Влияние лунного света на форму живота у беременных», и она никак не пересекается с моей текущей практической работой и вашими проблемами со здоровьем. Вы по-прежнему согласны на прием?»
Вернемся в нашу вселенную, где такие глупости не говорят. Как я уже попытался обрисовать, одна из главных проблем ученых степеней в медицине – нередкий диссонанс между ученой степенью и практической грамотностью. Причин может быть несколько. Например, хирург пять лет писал диссертацию и уделял этому все свое время, поэтому меньше оперировал, меньше принимал пациентов, реже выезжал на учебу и повышал квалификацию. В это же время его ближайший коллега был с головой погружен в практическую хирургию, и за этот период существенно вырос в профессиональном плане. Может, тот, что писал диссертацию, впоследствии догонит и даже перегонит коллегу по навыкам и мастерству, а может быть, нет.
Или ситуация с некоторыми пожилыми доцентами и профессорами. В свое время они были «на коне», блестяще оперировали, проводили консилиумы, принимали пациентов. Но с годами не поспевали за освоением новых технологий, подходов, методов лечения. И остались в прошлом – уважаемыми, но за прошлые заслуги.
Поэтому опытный врач без ученой степени может быть грамотнее иного профессора и доктора наук и более мастеровитым в хирургии. Такое встречается сплошь и рядом. И все же скажу, что многие кандидаты и доктора наук, доценты и профессора, которых знаю лично, имеют очень высокий уровень знаний и умений и оправдывают на 200 % свой ученый статус. Благодаря таким коллегам ученые степени еще что-то да значат.
Ну и напоследок дам простой совет читателям-немедикам: не ослепляйтесь званиями и регалиями врачей, а просто посмотрите их портфолио и отзывы пациентов – и многое станет ясно. В отрытом информационном обществе все сложнее укрыться дутым идолам.
Комплаентность и балбесы
«Да пошел ты на…» – первое, что услышал рентгенхирург от пациента, которому только что удалил из мозговой артерии тромб.
Мужчину средних лет скорая помощь доставила с подозрением на инсульт. Около двух часов
назад его, лежащего на полу в туалете, обнаружила жена. Лицо было перекошено, правые конечности не двигались, говорить он не мог, только неразборчиво мычал. Сначала жена подумала, что он просто пьян – пахло алкоголем, но все же заподозрила инсульт и вызвала скорую.
В приемном покое после проведения компьютерной томографии у мужчины подтвердился инсульт, и выявилась его причина – тромб перекрыл крупную мозговую артерию. Экстренно на консультацию вызвали рентгенхирурга, который посмотрел снимки и коротко сказал: «Подавайте в операционную».
Через артерию на ноге микрокатетером врач достиг сосудов головного мозга, и специальным инструментом удалил закупоривший артерию тромб. По сосуду вновь потекла кровь, питая пострадавшие, но еще жизнеспособные структуры мозга.
«Да пошел ты на…» – первое, что услышал рентгенхирург от пациента после удаления тромба, но не рассердился, а, напротив, – весело прищурился и показал большой палец вверх. Пациент не послал его, пациент заговорил! Эффект операции достигнут.
В ближайший час у мужчины полностью восстановилась не только речь, но и сила в правой ноге и руке. В дальнейшем он проходил лечение в неврологическом отделении, где при дообследовании у него выявили причину инсульта – фибрилляцию предсердий. При этой патологии в левом предсердии образуются тромбы, которые могут оттуда «стрелять» в мозговые сосуды. Это называется «эмболия». Тромбы перекрывают сосудистый просвет и вызывают инсульт, что, собственно, и произошло с пациентом. Для профилактики таких осложнений назначаются специальные препараты – антикоагулянты, которые человек должен принимать пожизненно.
Перед выпиской пациент выслушал подробные рекомендации врача и заверил, что будет ежедневно принимать таблетки, перспектива второго инсульта его не радует. Он сдержал слово и ежедневно принимал препараты. Целых два месяца.
Примерно через год скорая помощь привезла его к нам вновь, но на этот раз тромбом закрылась мозговая артерия с другой стороны, поэтому парализовало левые конечности. И опять все удачно сложилось для пациента: рентгенхирурги смогли удалить закупоривший артерию тромб, и сила в левых конечностях полностью восстановилась. Счастью пациента не было предела. На этот раз он уже не посылал докторов, а сказал: «Спасибо, мужики, второй раз спасли».
Через несколько часов, когда пациент уже находился в палате интенсивной терапии, рентгенхирург зашел оценить его состояние. Пациент чувствовал себя хорошо и активно требовал, чтобы ему принесли обед.
– Почему вы перестали принимать препараты, которые мы рекомендовали? Их необходимо принимать пожизненно. Если бы вы пили таблетки, ничего бы не случилось.
– Не знаю, доктор. Вроде себя неплохо чувствовал и подумал: зачем травить организм таблетками.
Вариации на тему «перестал пить таблетки, потому что ничего не беспокоило» доктора слышат ежедневно. А еще бывает такой вариант: «решил сделать перерыв в приеме таблеток, чтобы организм немного отдохнул». Регулярно в стационары поступают пациенты с обострением заболеваний или развитием осложнений после того, как устроили себе «медикаментозные каникулы».
Перед выпиской, после долгого разговора о важности ежедневного приема препаратов для профилактики третьего инсульта, пациент буквально поклялся врачу, что теперь он дважды научен и осознал, что его не просто пугали в первый раз.
Больше он к нам не поступал. Может, действительно все осознал, регулярно пьет таблетки и здравствует, а может, давно забросил и просто не успел к нам попасть на третью спасительную операцию.
Доктора старой формации про таких пациентов говорят: «У него низкая приверженность к лечению». Ну, это из интеллигентных, а некоторые выражаются короче: «Вот балбес!» Молодые доктора, которые ходят в яркой медицинской форме, носят блестящие бейджики и читают современные книжки, выражаются изящнее: «У пациента низкая комплаентность».
Комплаентность происходит от английского словосочетания «patient compliance» – приверженность к лечению, то есть соблюдение пациентом всех рекомендаций врача по приему лекарственных препаратов и изменению образа жизни.
Пациенты имеют разную комплаентность, и многие из них похожи на плохих автолюбителей. Когда ломается машина, они загоняют ее в сервис, где машину чинят и дают рекомендации, как за ней ухаживать дальше, менять масло, свечи. Автолюбитель соглашается, кивает головой, и потом все это забывает до следующей поломки.
После некоторых операций пациенту по жизненным показаниям необходим прием каких-либо лекарств. Без лекарств весь эффект от операции будет потерян либо разовьются серьезные осложнения, вплоть до самого неблагоприятного исхода.
Пациенту с инфарктом миокарда в коронарную артерию установили стент и спасли жизнь. Стент состоит из металла, и, чтобы на нем не образовался тромб, пациент должен принимать специальные препараты – антиагреганты. Через три месяца этот же пациент поступает с повторным инфарктом, на снимках – тромбоз стента. Что произошло? Пациент неделю назад перестал пить таблетки, что привело к тромбозу.
– Почему вы перестали принимать лекарства? – спрашивает доктор.
– Я прочитал инструкцию, эти препараты на желудок плохо действуют.
– Вы могли умереть!
– А если бы у меня язва образовалась?
Типичный пинг-понг с пациентом. Один пожилой доктор в таких случаях говорил: «Не надо дуракам делать умные операции». Звучит жестко, соглашусь. Но в этих словах я слышу не оскорбление пациентов, а отчаяние врача.
Нередко пациенты самовольно отменяют прием лекарств после того, как прочитают их побочные эффекты или соседка расскажет жуткую историю: «Ну да, мой Колька точно такие же таблетки пил, царствие ему небесное».
Если назначаете препараты мужикам, тут сразу надо знать два главных ограничения их приема: несовместимы с алкоголем и могут снижать потенцию. Тогда сразу – нет! Хотя если сказать тому же мужику, что алкоголь снижает потенцию не меньше, он, конечно же, вам не поверит. Там таблетки – химия, а тут алкоголь – натуральный продукт!
Раз в месяц, а то и чаще с судорожным приступом к нам поступает один и тот же пациент. Мы хорошо его знаем, он длительно страдает эпилепсией, при этом пропускает прием противоэпилептических препаратов и периодически пьет водку. В истории болезни мы так и отмечаем: пациент не привержен к лечению и рекомендациям врача постоянно принимать препараты и отказаться от алкоголя, поэтому у него случаются повторные судорожные приступы. Иногда он госпитализируется в отделение неврологии, иногда из-за серии непрекращающихся приступов («эпилептический статус») попадает в реанимацию, бывает, что на фоне приступа он падает и разбивает себе голову и с черепно-мозговой травмой лечится у нейрохирургов.
Каждый раз, когда я вижу этого пациента, понимаю: он никогда не откажется от алкоголя и так же будет пропускать прием таблеток, какие бы беседы мы с ним ни проводили. Это неблагополучный одинокий человек, много лет страдающий эпилепсией. У него нерадостная жизнь, которую немного скрашивает алкоголь. Представишь, как он живет, и самому захочется выпить. Какая уж тут комплаентность.
Привержены к лечению те, у кого есть смысл, кто видит какую-то цель, строит планы, да просто хочет жить. Жизнь некоторых наших пациентов столь мрачна и бесперспективна, что трудно взывать к их сознательности в соблюдении наших рекомендаций. Но мы все равно продолжаем сизифов труд и каждый раз повторяем: «Андрей, тебе нельзя пить и попускать прием таблеток…».
А еще, прежде чем заключить, что у пациента низкая приверженность к лечению, недостаточная комплаентность или он просто балбес, нужно оценить, насколько сам врач сделал все необходимое, чтобы убедить пациента в важности рекомендаций. Комплаентность определяется и тем, как доктор подал рекомендации.
Если пациенту за пять минут перед выпиской объяснить, что теперь ему необходимо принимать какой-то препарат всю жизнь, то нужно быть наивным человеком, рассчитывая, что он так и сделает. Пять минут разговора и пожизненный прием лекарств несоизмеримы. Да и звучит это страшно: «Принимать пожизненно».
Поэтому очень важны регулярные беседы пациента с врачом уже после выписки из стационара, на амбулаторном приеме в поликлинике. Не нужно говорить: «Он взрослый человек и сам все должен понимать и заботиться о своем здоровье». Мамы очень долго напоминали нам, что, придя с улицы, нужно мыть руки. Пациенты тоже не всегда осознают реальную опасность своего положения.
А еще нужно уточнять, чего пациенту ни в коем случае не следует делать.
Скорая помощь доставила пациента с черепно-мозговой травмой. Нейрохирург выставил сотрясение головного мозга, объяснил, что госпитализация не требуется, назначил лекарства и постельный режим на несколько дней.
Через пять дней пациент вновь обратился в приемный покой с жалобами на общее плохое самочувствие, головную боль и тошноту. Весь он был какой-то помятый и отечный. Доктор недоумевал: обычно пациентам с сотрясением мозга через пару дней становится значительно лучше.
– Вы все выполняли, что я сказал?
– Да, пил все таблетки, которые рекомендовали.
– А постельный покой? Вы соблюдали постельный покой?
– Пять дней не вставал с дивана, все как советовали.
– И что, наверное, пять дней смотрели телевизор, зрение напрягали?
– Да нет, вы же сказали, что это тоже нужно ограничить, почти не включал телевизор.
– И что же вы делали, лежа на диване пять дней? – изумился доктор высокой комплаентности пациента.
– Да ничего не делал, пиво пил.
«Мы по договоренности»
– Здравствуйте, мы от Дмитрия Владимировича.
– Добрый день! Пожалуйста, заходите.
– Здравствуйте, мы от Марины Юрьевны.
– Добрый день! Проходите, прошу вас.
– Здравствуйте, мы от Сергея Витальевича.
– Добрый день! Вы опоздали на целый час. Ну, ничего страшного, конечно, проходите.
– Здравствуйте, мы от Алексея Владимировича!
– Добрый день! Но он меня не предупреждал. Наверное, заработался и забыл. Пожалуйста, присаживайтесь.
– А вы от кого? А, от Кузьмы Петровича! Так чего же скромно стоите в коридоре, смело открывайте дверь с ноги. Кузьма Петрович – уважаемый человек!
Помимо основной работы и курации поступивших пациентов, врачи ежедневно принимают пациентов «по договоренности». Попросить «посмотреть пациента» может бывший одноклассник, коллега, директор школы, где учатся дети, чиновник из Минздрава или вообще какой-нибудь очень крупный и важный начальник, какой-нибудь Кузьма Петрович. Отказывать не принято, и врачи с пониманием относятся к таким просьбам: надо так надо, ничего особенного.
В основе таких просьб устойчивый миф, что только по договоренности можно: а) попасть к нормальному специалисту; б) этот нормальный специалист посмотрит «нормально», тот есть с особым вниманием и человечностью.
Никого не критикую, сам живу внутри этого мифа и своих родных и близких также иногда пристраиваю «по договоренности». Не то чтобы не доверяю докторам, а просто так удобнее и быстрее.
Однако не всегда «по договоренности» – оптимальный путь для пациента. Там, где можно было все сделать по прямой и отработанной схеме, «по договоренности» часто становится затяжным крюком. Крюком как для врача, так и для пациента. Но не скажешь же Дмитрию Владимировичу, что проще направить пациента прямиком в поликлинику, или Сергею Витальевичу, что сначала нужно, чтобы пациента посмотрел другой специалист. Все мы друг друга уважаем и очень боимся расстроить.
Да все бы ничего, если бы просьбы «посмотреть пациента» ограничивались только этим, без сопутствующих наставлений. Как просто и хорошо звучит просьба: «надо посмотреть пациента». И все просто и понятно. Но когда с придыханием начинают говорить: «Это очень серьезный человек… это родственник самого… знаете, кто его сын… по поводу него звонили сверху… он вам еще очень пригодится», от этого немного корежит. Что это – дополнительная мотивация? Устрашение?
Звонит вам Кузьма Петрович и говорит: «Дорогой мой, пациента к тебе направлю, ты уж займись им как следует, это очень важный человек». И ты ему отвечаешь: «Конечно, Кузьма Петрович, сделаю все наилучшим образом, не беспокойтесь». Кладешь трубку и чувствуешь себя каким-то оплеванным. «Займись как следует»? Получается, что к обычным пациентам я не проявляю всего рвения и внимания, и только по наставлению Кузьмы Петровича могу заняться пациентом в полный рост? Поэтому после таких просьб иногда непроизвольно проникаешься легким раздражением к пациенту «по договоренности», хотя его вины в этом совсем нет.
Пациенты «по договоренности» ведут себя очень по-разному. Кто-то скромен, вежлив, пунктуален. И неважно – от Кузьмы Петровича он или от работницы пищеблока больницы. А вот некоторые не понимают, что «по договоренности» – это еще не повод вести себя нахально и требовательно:
– Ну, нет, это мне не подходит.
– Этого я делать не буду.
– А можно все поскорее решить?
– Мне так будет неудобно.
– Мне сказали, что вы сами все решите.
Тут, конечно, больше дело в воспитании, а не в договоренности. Если человек по натуре хамоват, ему только дай зеленый свет.
Есть особая категория пациентов «по договоренности» – «блатные». Несмотря на то что понятие «блатные» исходно относится к тюремной иерархии, у врачей так принято называть всех особо социально значимых пациентов. Это может быть крупный чиновник, директор строительной компании, топ-менеджер, бизнесмен, а может, и правда «блатной» – в первозданном понимании этого слова.

