Все хотят умереть завтра. Честная книга о хирургах и пациентах
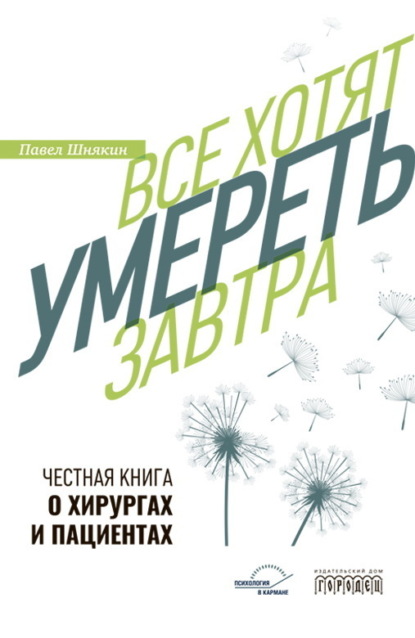
- -
- 100%
- +
Принципиальное различие между пациентами «по договоренности» и «блатными» в том, что последние всегда приходят в сопровождении, их к вам доставляют под белы рученьки. Второе различие в том, что люди, их приведшие (администраторы, чиновники, а нередко и охрана), часто уведомляют вас, что будут присутствовать при осмотре. Ну, чтобы избежать любых недоразумений, мало ли что вы наплетете уважаемому человеку. Это часть программы, потому что перед «блатными» нужно совершить не просто осмотр, а настоящее театральное представление. Оно включает в себя несколько требований:
1. Должно быть много народу (администраторы плюс врачи).
2. Этот народ должен совершать с «блатным» разные действия: высказывать мысли, стучать молоточком по коленке, просить показать язык, делать задумчивый вид.
3. По времени это должно быть протяженное действо, все же уважаемый человек, а не какая-то замухрышка.
4. «Блатной» должен остаться доволен.
5. Его сопровождающие должны остаться довольны.
6. Довольства остальных участников не требуется.
Мне запомнился разговор с одним высокопоставленным местным чиновником, который всегда ездил лечиться в соседний город, хотя возможности нашей больницы были ничуть не хуже. Меня это удивляло, и однажды я спросил его об этом. Он ответил, что в нашем городе его все знают, и стоит только лечь в больницу, как тут же соберут всех профессоров-академиков и будет по три консилиума в день, и подключат всех-всех самых лучших специалистов, и сделают все-все обследования, и возьмут все-все анализы, и как потом полечат-полечат. Короче, резюмировал он, устроят танец с бубном, а мне нужно просто спокойно подлечить поясницу.
Я никого не обвиняю и прекрасно понимаю всех администраторов и чиновников, которые приводят таких «блатных». Все мы не свободны и должны выполнять просьбы и поручения вышестоящих. Тут как раз проблемы нет. Проблема в том, что после такого осмотра становится как-то обидно, а иногда даже гадко на душе, потому что нельзя ко всем пациентам относиться как к «блатным». Ведь даже «театральное представление» не так плохо по своей сути. Часто это позволяет здесь и сейчас решить все проблемы пациента: и медицинские, и организационные. Но со всеми так нельзя, ресурсы ограничены. Возвращаемся к истокам: многое имеет тот, кто имеет доступ к ресурсам.
И все же нередко стремление сделать для «блатного» все быстро и наилучшим образом приводит к тому, что начинают нарушаться правила и стандарты. Иногда это выходит боком для самого «блатного». Там, где обычному пациенту предлагаются отработанные схемы, «блатных» пытаются провести через «черный ход». Но суть работающих схем в том – сюрприз! – что они работают.
Я был свидетелем, когда «блатному» не выполнялись некоторые обязательные обследования – с формулировкой «чтобы лишний раз не мучить». В итоге затягивались постановка верного диагноза и лечение. Поэтому и «блатные» тоже плачут.
Врачи это хорошо знают, и когда вдруг сами поступают с какой-то болезнью, то первым делом говорят коллегам: «Делайте для меня все так же, как для обычных пациентов». Я даже знаю случаи, когда врачи обращались за помощью не в свою больницу, а в соседнюю, чтобы их лечили «нормально», как всех, без чрезмерности или эксклюзивности. Без всякого блата.
Историй про «блатных» пациентов так много, и все они так похожи друг на друга, что на этом я и закончу. Тем более в дверь стучат. Должно быть, подошел пациент от Кузьмы Петровича.
После выписки
После выписки пациента из стационара для врача в большинстве случаев «эпизод закрывается». Хотя некоторые пациенты будут поступать вновь и вновь в силу прогрессии или рецидива заболевания. Как сейчас говорят – это «клиенты на всю жизнь». Уточняю – на всю жизнь пациента.
Обычно с каждым последующим поступлением состояние пациента прогрессивно ухудшается, и однажды наступает момент, когда дальнейшее лечение или операция не показаны или невозможны. Тогда врач берет за руку своего давнего пациента, грустно смотрит ему в глаза и говорит: «Мы прошли вместе долгий путь, но пора расставаться». И часто, очень часто пациент отвечает доктору: «Спасибо за все, что сделали для меня». Попрощавшись с пациентом, теперь уже навсегда, доктор в последний раз посмотрит ему вслед, и сердце на мгновение защемит, и слезы выступят, и в горле ком, но раз… два… три… четыре – и все в порядке, работа продолжается, другие пациенты ждут.
Нейрохирурги выполняют широкий спектр операций. После некоторых вмешательств пациенты быстро возвращаются к своей обычной жизни. Например, после удаления грыжи межпозвонкового диска на пояснице у большинства пациентов боль проходит уже на следующие сутки. Они так рады и счастливы, что им совсем не до рекомендаций врачей о том, что надо на месяц ограничить нагрузки. Разве имеют силу рекомендации, когда на даче не выкопана картошка! Вот и привозят к нам скрюченных пополам прямо с дачи, и врачи всегда слышат какое-то неубедительное оправдание: «Да там совсем небольшой участок».
В других случаях, в силу тяжести заболевания или травмы, либо осложненного течения операции, пациенты имеют какой-то неврологический дефицит: паралич конечностей, нарушение речи, ухудшение зрения, расстройство координации. Часто им требуется длительная реабилитация для возвращения к прежнему образу жизни. Часть из них останется инвалидами. Кто-то покинет больницу в вегетативном состоянии.
Кого-то мы выписываем домой умирать.
«Status incurabilis»
Некоторые пациенты в силу прогрессирования или первичной запущенности заболевания становятся некурабельными, то есть неизлечимыми, и врачи коллегиально принимают решение о том, что любое лечение или операция не принесут какой-либо пользы и не облегчат страдания. Обычно за этим следует, что дальнейшее нахождение пациента в стационаре не имеет смысла. Койки должны занимать пациенты, которым врачи могут помочь. Для некурабельных есть два пути: хоспис или дом.
В таких случаях мы вызываем родственников на разговор и объясняем ситуацию. Это всегда тяжелый разговор. К нему нужно заранее подготовиться, в первую очередь эмоционально, ведь вопросы родственников всегда однотипны.
В начале разговора такие: «Неужели нельзя больше ничего сделать?», «А может, перевести в какую-то другую клинику?», «Есть хоть какой-то шанс?»
В конце разговора другие: «Сколько ему осталось?», «Он будет мучиться?», «Как избавить его от боли?», «Он будет умирать в сознании?»
На основании известной статистики мы можем предоставить родственникам примерные интервалы, сколько может прожить пациент с определенной патологией, но все, конечно, индивидуально.
Относительно боли и мучений все также зависит от заболевания. В нейрохирургии, при запущенных опухолях головного мозга и других заболеваниях мы можем немного успокоить родственников тем, что пациент, вероятно, сильно мучиться не будет и умрет в бессознательном состоянии. Его сознание будет прогрессивно угнетаться, сначала он загрузится до сопора, потом до комы, и в какой-то момент произойдет остановка дыхания и кровообращения.
В любом случае, наблюдать, как медленно умирает близкий человек, – это серьезное испытание, и к нему готовы не все. Поэтому не всегда родственники соглашаются забирать безнадежных и умирающих пациентов домой. Если не удается перевести такого пациента в хоспис, он умирает в больнице. Иногда угасание растягивается на недели, иногда на месяцы.
Не хочу и не имею никакого морального права обвинять людей, которые оставляют своих родственников умирать в больницах. Однако нужно отметить, что так было не всегда, что это в последнее время произошли перемены в нашем обществе, когда мы стали максимально дистанцироваться от всех негативных проявлений жизни и, тем более, ее окончания. Традиционно у русских было принято, чтобы человек умирал дома, в кругу семьи. Это было естественное завершение жизни.
Раньше люди не только умирали дома, родственники сами обмывали покойников и приготавливали к похоронам. И это было еще не так давно, это поколение моих бабушек и дедушек. Родственники приходили и помогали помыть умершего, переодеть его. Сейчас это все выполняется ритуальной службой. И мы очень благодарны им за это! Однако возникает ощущение, что какие-то сакральные вещи мы передали коммерческому конвейеру.
«Status vegetatiсus»
Чтобы мозг нормально функционировал, необходимы координированные действия трех его систем: коры головного мозга, подкорковых ганглиев и ствола. Все высшие функции нервной системы – сознание, мышление, речь – связаны с корой головного мозга. Однако все жизненно важные центры расположены не в коре, а в стволе головного мозга. Там находится центр дыхания и кровообращения. Поэтому человек может жить без коры головного мозга, но не без ствола.
Иногда в силу тяжелого заболевания или травмы происходит массивное поражение коры головного мозга и ее разобщение с подкорковыми ганглиями и стволом, при этом последние остаются жизнеспособными. Это приводит к тому, что пациент остается жив, но при этом у него нарушаются высшие корковые функции, и он переходит в разряд «вегетатиков» – людей, находящихся в «растительном» состоянии.
Бывает такая последовательность событий: тяжелая черепно-мозговая травма – операция – длительное нахождение в коме на искусственной вентиляции легких. На этом этапе ряд пациентов умирает от исходной тяжести и массивности поражения головного мозга. Если же пациент переживает острейший период, и врачи-реаниматологи справляются с отеком мозга, то при сохранности работы ствола мозга пациент может жить, даже если вся кора мозга погибла. Однако жизнь таких пациентов будет не похожа на нашу с вами. Это будет, по большей части, существование тела, вегетативное существование.
Если кома характеризуется «неразбудимостью пациента», то есть ни на какие внешние раздражители – прикосновение, звук – пациент не открывает глаза, то при переходе в вегетативное состояние он самопроизвольно начинает их открывать, моргать, у него восстанавливается цикл сна и бодрствования, он может проглатывать пищу при ее попадании в рот. Ключевое в вегетативном состоянии – полное отсутствие любой познавательной деятельности. Вегетативное состояние называют «бодрствующей комой».
Пациент в вегетативном статусе лежит с открытыми глазами и смотрит в одну точку, совершенно бессмысленно. При этом рядом может находиться его самый близкий и дорогой человек, но пациент ни на градус не повернет взгляд, чтобы посмотреть на него. Вегетатик утратил возможности внимания, узнавания, воспоминания. Он утратил мышление и память. Он утратил свое «я».
Это очень трудно понять родственникам. Перед ними на койке лежит их любимый человек, и внешне как будто ничего не изменилось: его лицо, тело, руки. Все такое знакомое и родное. А главное, что все страшное уже позади, ведь пациент начал открывать глаза, и наверняка еще чуть-чуть – и улыбнется, а потом и заговорит. Но почему же он не обращает на них внимания? Почему даже не смотрит на них?
После того как родственники пережили тяжелый период нахождения пациента в коме, на грани жизни и смерти, открывание глаз вызывает у них чрезмерный оптимизм, они воспринимают это как «сознание вернулось». Но сознание вместе с корой головного мозга погибло безвозвратно. Глаза такому пациенту открывает ствол головного мозга. Это бессознательное действие.
Уставшим, измученным бессонными ночами и чувством неопределенности родственникам желаемое начинает казаться действительным. Они говорят: «Доктор, он посмотрел на меня, он моргнул мне, он улыбнулся». А мы видим совершенно неосмысленный взгляд вегетативного пациента с отсутствием нормальной электрической активности на электроэнцефалограмме. Что в таких случаях ответить родственникам?
А потом еще хуже. В вегетативном состоянии происходит растормаживание ряда примитивных рефлексов. Это связано с тем, что пораженная кора головного мозга перестает «подавлять» нижележащие отделы центральной нервной системы. Например, появляется характерный для младенцев хватательный рефлекс, когда прикосновение к ладони вызывает ее непроизвольное сжатие. И радостно взволнованные родственники говорят нам: «Доктор, он пожал мне руку, он сжал кулак!» Что в таких случаях им ответить?
Некоторые пациенты в вегетативном состоянии находятся в стационаре длительное время. В основном это связано с тем, что они за время нахождения в больнице «цепляют» ряд других заболеваний, с которыми борются врачи: пневмонии, циститы, пролежни. Но наступает день, когда мы говорим родным, что сделали все, что можно, в настоящее время состояние пациента стабильно и его нужно забирать домой, он больше не нуждается в специализированной помощи, а только в уходе и заботе. И только тогда у родственников начинают раскрываться глаза и приходит понимание всей серьезности ситуации. «Как выписываете? Так он же еще тяжелый. Он же не говорит и не отзывается. Почему вы прекращаете лечение? Он что, безнадежен?»
И такие разговоры с родственниками вегетативных пациентов у нейрохирургов происходят регулярно. Кто-то оказывается более понимающим. Люди уточняют особенности ухода, иногда просят подержать пациента хотя бы еще неделю, пока не решатся вопросы с работой и новым бытом. В некоторых случаях мы встречаем открытую агрессию. Нам говорят, что будут жаловаться на нас, что мы отдаем домой недолеченного и тяжелого пациента, что нас врачами после такого назвать язык не поворачивается…
Один из частых сценариев таков. Родственники с определенной регулярностью навещают вегетативного пациента, помогают в уходе, ведут беседы с лечащим доктором, звонят по телефону. Но когда речь заходит о том, что пациента нужно забирать домой, посещения резко прекращаются, как и любые другие контакты. В последнем разговоре обычно мы слышим: «Куда я такого заберу? У меня работа, ребенок, кредиты и прочие дела, мне что, все бросить? А на что я буду жить? Кто будет кормить моего сына?»
И все это правда. Когда родные забирают от нас вегетативного пациента, мы говорим, что это минус еще одна жизнь. Жизнь, положенная на уход за таким пациентом. Потому что молодой и физически здоровый человек при достаточном уходе и заботе может в вегетативном статусе просуществовать много лет. Для этого каждый день его нужно протирать, поворачивать, чтобы не было пролежней, мыть, кормить, присаживать и много чего еще. Вегетативный пациент живет столько, сколько за ним ухаживают – бережно и с любовью. Так обычно следят родители за своими больными детьми, чаще мамы.
Я помню одну семью, которая ухаживала за сыном, находящимся в вегетативном статусе после тяжелой мотоциклетной аварии. Мама этого парня не хотела верить, что сын не станет вновь прежним, поэтому кроме общего ухода каждый день с ним разговаривала, читала книги, рассказывала новости. Ей даже казалось, что есть прогресс, и она хвалилась мне, как он кивком правильно отвечает на вопросы ее ежедневных викторин. Столица нашей Родины: Москва или Брюссель! Кивок. Правильно, сынок, Москва. «Мцыри» написал Пушкин или Лермонтов? Кивок. Верно, сынок, Лермонтов.
Я консультировал их несколько лет, и на самом деле видел типичного пациента в вегетативном статусе, никаких признаков познавательной деятельности он не проявлял. При этом всегда опрятно одет, гладко выбрит, подстрижен, и за несколько лет на теле не образовалось ни одного пролежня. Все это требует титанических физических усилий и огромных душевных затрат. Поэтому неудивительно, что ухаживающие быстрее стареют и начинают болеть. Иногда именно они умирают первыми.
Каждый год я отмечал, как еще достаточно молодая мать пациента перестает следить за своим внешним видом, надевает какую-то старую и растянутую одежду, собирает волосы в грустный пучок. При первой нашей встрече она была совсем другой: яркая статная женщина в элегантном костюме. А сейчас все силы и все внимание она отдавала сыну, и на себя ничего не оставалось.
Года через три, не выдержав такой жизни, муж ушел к другой женщине. Она мне об этом рассказала как-то мимоходом, вскользь. Меня удивило, что она не обвиняла его, не проклинала и как будто даже считала, что это нормально в такой ситуации, потому что тепло отзывалась о бывшем муже и была благодарна (так и говорила – благодарна!), что он никогда не отказывает ей, когда нужно помочь отвезти сына на какие-то обследования. Перед такими людьми мне хочется встать на колени, они святые.
Не только родители, но иногда и жены, реже мужья, братья, сестры, готовы оставить работу, карьеру, прежний уклад жизни, только если будут иметь надежду, что когда-то, пусть не скоро, но пациент вновь станет собой, и их труд будет не напрасен. Поэтому перед тем, как забрать его домой, они задают одни и те же вопросы: «Когда он придет в себя?», «Он что, таким и останется?», «Как долго он будет требовать ухода?»
К сожалению, в большинстве случаев ожидать, что пациент, переживший тяжелый инсульт или черепно-мозговую травму и вышедший в классическое вегетативное состояние, очнется, не стоит. Да, могут быть некоторые улучшения, но, скорее всего, родственники больше никогда не увидят своего любимого человека прежним – с его улыбкой, воспоминаниями, мечтами. Скорее всего, он больше никогда не скажет им «доброе утро» и не пожелает спокойной ночи.
А родственники все равно вытягивают из нас надежду: «Ну, а через месяц, через полгода, через год ему станет лучше? Когда он начнет говорить? Может, стоит ему какое-то специальное лекарство купить?»
При таких разговорах у врачей нередко возникает моральная дилемма: сказать всю правду или ровно столько, сколько они смогут вынести?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

