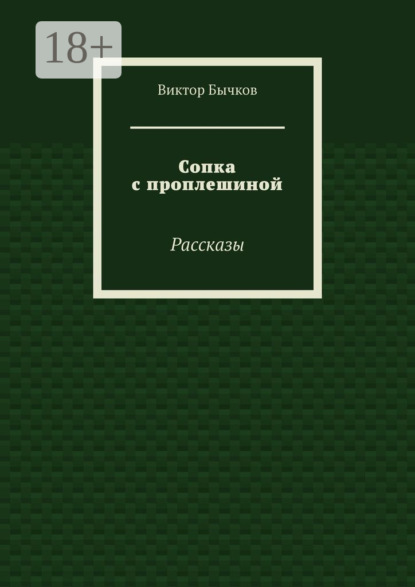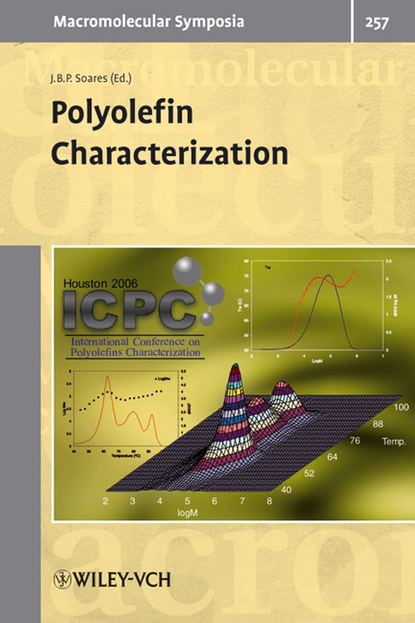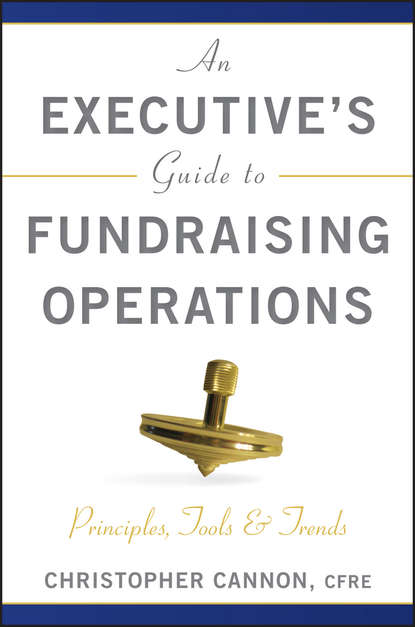Манипулятор

- -
- 100%
- +
– Теперь о нашем госте, – его пальцы легли на бумагу, скользнув по линиям коридоров и комнат. – Томас Дадлез. Мэр города Тау. Человек, любящий комфорт и дорогие удовольствия. – Его палец ткнул в четвертый этаж, отмеченный как «Люкс». – Он не будет ютиться в стандартном номере. Он наверняка здесь. На самом дорогом этаже. С лучшим видом, с максимальной безопасностью. Там же, – Артур провел пальцем по запутанной сети тонких линий, оплетавших план, – находится система вентиляции. Общая для всего этажа. Древняя, довоенная. С чугунными решетками и широкими шахтами.
Он замолчал, изучая план со сосредоточенностью хирурга, высматривающего точку для надреза.
– Я изучил ее вдоль и поперек, – продолжил он, наконец. – Есть технический люк. Он выходит в подсобное помещение на этаж ниже. Доступ туда из подземных тоннелей. И есть главная воздушная магистраль, которая разводит воздух по всем номерам этажа. – Он поднял взгляд на своих сообщников, и в его глазах вспыхнул холодный, безжалостный огонь. – Один точный впрыск. И тихий, невидимый ужас наполнит его комнату. Он вдохнет его. Он пропитает его одежду, его кожу. Он будет дышать им, пока не перестанет дышать совсем.
В подвале повисла тяжелая, звенящая тишина. Они стояли втроем над планом, над чертежами роскошного отеля, и планировали убийство, которое должно было выглядеть как акт Божьей кары. Невидимое, безупречное, идеальное.
И в центре этого плана лежал маленький черный пузырек, полный тихой, беспощадной смерти по имени Диметилртуть.
Глава 6. Эвтаназия уныния
«Всякий повод для лени есть повод для греха.» – Василий Великий
Сумка была маленькой, черной, из грубой кожи, потрепанной по краям. Неприметной. Такая, чтобы не привлекать внимания в толпе или в темноте подземных ходов. Артур методично укладывал внутрь содержимое, каждый предмет – отдельный акт подготовки к ритуалу. Свинцовый кокон с диметилртутью, холодный и неумолимо тяжелый. Упаковка «Покорности», напоминающая ему о матери и ее трагедии. Пистолет с глушителем, отполированный до матового блеска. Свернутый в тугую трубку план «Столицы», испещренный пометками. Он дернул молнию с таким звуком, будто хоронил кого-то живьем. Звук был резким, финальным, словно щелчок затвора фотоаппарата, запечатлевающего последний кадр перед казнью.
Он зашел в свою комнату. Воздух здесь был другим – не спертым и пыльным, как в подвале, а застоявшимся, словно в гробнице. Взгляд его упал на незаконченный портрет матери. Холст все так же смотрел на него пустотой, безымянным укором, слепым пятном в памяти. Он медленно подошел, провел пальцем по шершавой, сухой поверхности, смахнув слой пыли. Под ней скрывалась неуловимая линия щеки, мазок краски, который он когда-то положил с любовью. Теперь это было просто цветовое пятно. Намерение, лишенное смысла.
– Начнем, – выдохнул он, и слова повисли в воздухе не просьбой, а приговором, вынесенным самому себе, этому дому, всему Лимбо. Фраза была лишена пафоса. Это была констатация факта. Точка отсчета.
Комната брата была погружена в синий, беззвучный мрак, нарушаемый лишь мерным тиканьем часов на стене. Даниэль спал, уткнувшись лицом в подушку, его дыхание было ровным и безмятежным, детским. Полная противоположность тому хаосу, что бушевал за стенами этой комнаты. Часы показывали глубокую ночь. Все шло по плану. Он не знал о Кире. Этому овощу, этому пустому сосуду, пока рано было знать что-либо. Знание было ядом, а Даниэль и так был отравлен с рождения – отравлен равнодушием отца и жуткой, неестественной тишиной собственного разума.
На первом этаже, на жестком, продавленном диване в гостиной, спала Кира. Она свернулась калачиком, как бездомный щенок, пытаясь сохранить тепло в холодном доме. Один рукав ее плаща был оторван, и в тусклом, мертвенном свете луны, пробивавшемся сквозь грязное окно, Артур видел бледную кожу, белокурые волосы и темные, фиолетовые следы старых синяков. Она не спала. Ее глаза были открыты – два узких щелочка, полных первобытной настороженности, – и следили за ним, как только он появился в дверном проеме. Взгляд дикого зверя, пойманного, но не сломленного.
– Уходишь? – ее голос был сиплым, будто прокуренным, сорванным от недавнего сна или от вечного напряжения жизни на улице.
– Свобода не ждет, – бросил он через плечо, не останавливаясь, его шаги беззвучно поглощались толстым ковром. – И месть тоже. Они, как голодные псы. Стоит замешкаться – сожрут с потрохами.
Подвал встретил его знакомым, почти уютным теперь запахом сырости, плесени и старого камня. И… духов. Легких, цветочных, неуместных, как смех в морге. Ева стояла у входа в катакомбы, прислонившись к косяку, словно ждала его все это время. Ее темные волосы сливались с тенями, и только лицо, бледное и четкое, плавало в полумраке, как маска.
– Зачем вся эта возня с вентиляцией? – спросила она, и в ее голосе звучала знакомая до тошноты нота снисходительной мудрости, будто она одна видела истинную картину мироздания. – Можно просто взять этого Дадлеза, прижать как следует, выбить из него все, что нужно, а потом уже травить. Быстрее. Надежнее. И… веселее. Разве нет?
Артур остановился, медленно повернулся к ней. Его лицо в темноте было каменной маской, на которой не дрогнул ни один мускул.
– Потому что я не мясник, Ева. Я – хирург. – Он произнес это без злости, без раздражения, просто констатируя факт, как если бы объяснял разницу между молотком и скальпелем. – Ты хочешь грубой силы, криков и крови на стенах. Я хочу тишины. Абсолютной. Чтобы он даже не понял, что его допрашивали. Чтобы его смерть была чистой, незапятнанной твоим любопытством. Безупречным алмазом ужаса.
Он не стал ждать ее ответа, не стал смотреть, как ее лицо исказится от досады. Он развернулся и нырнул в черный, холодный зев тоннеля, оставив ее в одиночестве с ее ненастоящей мудростью. Карта у него была не в руках, а в голове, каждый поворот, каждый выступ неровного камня, каждый шаг был просчитан. Воздух в тоннеле стал гуще, запах плесени сменился запахом земли и ржавчины. Через полчаса, отмерянные точными ударами сердца, он уже стоял перед узкой, почти невидимой железной дверцей, скрытой в нише. Замок, старый, простой, поддался отмычке с тихим, удовлетворяющим щелчком.
Винный погреб «Столицы» пах не просто старым деревом и пылью. Он пах деньгами. Дорогим дубом бочек, десятилетиями выдержанной пылью на бутылках, сладковатым ароматом уксусной кислоты, проступающей сквозь пробки неудачных годов. Запах роскоши, которая медленно, но верно превращается в тлен. Он не стал выбирать, схватил первую попавшуюся бутылку – что-то красное, массивное, с толстым слоем пыли на плечиках – и сунул ее в сумку. Вес груза стал еще ощутимее.
Лестница наверх была пустынна и освещена тусклыми аварийными лампами, отбрасывающими длинные, пляшущие тени. Охрана, как и предполагалось по плану, проходила по строгому графику, и он вписался в его слепую зону идеально, как ключ в замок.
В уборной для персонала, пахнущей хлоркой и чужим потом, он быстро переоделся. Черный костюм, снятый с вешалки, оказался слишком тесным в плечах, ткань натянулась, обещая порваться при резком движении. Но сойдет. Зеркало над раковиной, покрытое трещинами и брызгами, показало ему незнакомца: волосы, собранные в низкий, тугой хвост, скрывали его самый заметный признак, а цветные линзы – болотного, грязного оттенка – делали его взгляд чужим, плоским, неживым. Призрак в чужом костюме, играющий в человека.
Консьерж за стойкой из полированного черного дерева была юной, скучающей и явно не на своем месте. Она что-то жевала и листала потрескавшийся от времени журнал, даже не подняв на него глаз.
– Томас Дадлез? – голос Артура стал выше, с легкой надтреснутостью, совсем не его собственный, лишенный привычной металлической твердости.
– Четыреста пятьдесят первый. Четвертый этаж, – пробормотала она, не отрываясь от ярких картинок. – Вы новый? Кажется, не видела вас раньше.
– Первые дни, – он сделал улыбку, которая была всего лишь механическим движением лицевых мышц, не затронувшим глаза. – Еще не освоился. Спасибо.
– Удачи, – она лениво махнула рукой, снова уткнувшись в чтение, полностью его игнорируя.
Конечно же, четвертый. Конечно же, самый последний.
Четвертый этаж дышал другими деньгами. Не шумными, показными, а тихими, старыми, впитавшимися в ковры, в дерево панелей, в сам воздух. Здесь пахло дорогой кожей, воском и абсолютной, непробиваемой тишиной. У двери 451 стояли двое – здоровенные, сытые увальни в дорогих, но плохо сидящих костюмах, выдававших в них наемников, а не профессиональных охранников. Они перебрасывались какими-то пошлыми, низкими шутками, совершенно не обращая внимания на округу, уверенные в своей неуязвимости.
Артур прошел мимо, не замедляя шага, взгляд его был устремлен куда-то вдаль, поза него – расслабленная, поза человека, который просто возвращается в свой номер. Его периферийное зрение выхватило решетку вентиляции в конце коридора. Как и на плане – никакого сложного замка, простая защелка, ничуть не укрепленная. Идиотизм. Полнейший. Самоуверенность, граничащая с клинической глупостью. Но идеально ему на руку.
Он огляделся, делая вид, что ищет ключ в кармане. «Как глупо», – промелькнуло у него в голове с ледяным удовлетворением. Он дождался, пока охранники, засмеявшись чьей-то пошлой шутке, отвернутся к окну, закурив, и бесшумно, одним движением, отщелкнул решетку. Проход был узким, пыльным, пахнущим металлом и спертым воздухом. Он втиснулся внутрь, чувствуя, как тесная шахта сдавливает грудь, и задвинул решетку на место с тихим, едва слышным щелчком.
Ни хера она не широкая, блядь! А я-то думал!
Ползти пришлось недолго, но каждый сантиметр давался с усилием. Пыль забивала нос, холодный металл скрежетал по спине. Следующий люк вел прямо в номер 451. Артур замер, прислушиваясь. Откуда-то справа, сквозь решетку, доносился приглушенный шум воды, льющейся в ванну. Дадлез был там.
Он бесшумно, как тень, отодвинул заслонку и соскользнул вниз, в комнату. Она была огромной, роскошной и безвкусной до тошноты – золотые акценты, бархат, кричащие картины в позолоченных рамах. Дворец нувориша. Он быстро проверил дверь – массивную, дубовую. Замок исправен, щелкнул язычком с глухим, дорогим звуком. Идеально. Рядом с глубоким кожаным креслом стоял низкий стеклянный столик. Артур поставил на него принесенную бутылку вина – она смотрелась здесь как своя – и аккуратно, в узком луче света от торшера, разместил маленький, зловеще черный пузырек. Сцену подготовили.
Час. Целый час он просидел в темноте, в углу за тяжелой портьерой, не шелохнувшись, слившись с тенями, его дыхание было ровным и бесшумным. Он не думал, не анализировал. Он просто ждал, как хищник у водопоя. Наконец, дверь в ванную открылась, и в комнату, окутанную паром, вышел Томас Дадлез. Он был в белом пушистом халате, с мокрыми, залипшими на лбу волосами. На его распаренном, обрюзгшем лице читалась усталость и легкое, привычное отвращение ко всему происходящему, ко всему миру.
Долго, – мысленно, беззвучно констатировал Артур, и в этой констатации была ледяная ярость. Целая жизнь, потраченная впустую.
Движение было одним, выверенным до миллиметра, отточенным в тысячах часов тренировок и мечтаний о мести. Холодный металл дула уперся в висок Дадлеза с такой силой, что тот аж подпрыгнул. Ладонь в перчатке резко и плотно, с силой, закрыла ему рот, не дав издать ни звука, кроме короткого, подавленного всхлипа.
– Тихо, – прошипел Артур прямо в ухо, его голос был низким, безжизненным, как скрежет камня по камню. Он повел его к креслу, чувствуя, как тот весь дрожит мелкой, предательской дрожью. – Садись. Не дергайся, и твоя смерть будет быстрой. Дернешься – сделаю ее искусством. Понял?
Дадлез, бледный, как полотно на стене, с глазами, полными животного, немого ужаса, позволил усадить себя в кресло. Он был податливым, как воск.
– Кто… кто ты? – выдавил он, когда ладонь немного ослабила хватку, его голос сорвался на шепот.
– Самая главная фигура в шахматах, – голос Артура был низким и безэмоциональным, он присел напротив на корточки, не убирая пистолет, его глаза на одном уровне с глазами жертвы. – Король, которого все считали пешкой. Теперь говори. Где остальные мэры?
– Я… я не знаю… клянусь…
Артур вздохнул, будто устав от глупого, непонятливого ребенка. Он переложил пистолет в левую руку, а правой достал из внутреннего кармана маленький холщовый мешочек – тот самый, с «Покорностью». Резким, точным движением он встряхнул его прямо в лицо Дадлезу. Тонкое, почти невидимое облачко порошка окутало нос и рот мэра. Тот закашлялся, попытался отшатнуться, дернулся, но его взгляд тут же стал стеклянным, мутным и покорным. Воля испарилась, оставив после себя лишь пустую оболочку.
– Повторяю. Где остальные мэры? – спросил Артур, его слова были четкими, как команды.
– Не знаю… точно… – голос Дадлеза стал монотонным, заплетающимся, лишенным всяких интонаций. – Виктор Бачевский… в Зите. Где-то в богатом доме… под усиленной охраной. Где именно… не знаю. Очень секретно… Никто не знает…
Артур замер. Это не сходилось. На собрании мэрам четко приказали оставаться в Лимбо. Нарушить прямой приказ – это немыслимая дерзость. Или признак чего-то большего.
– Стоп, – его голос стал жестче, лезвием врезаясь в наркотический туман в голове Дадлеза. – Почему Бачевский в Зите? Вам всем было приказано не высовывать нос из Лимбо. Его голова настолько плохо держится на плечах, что он решил ее сразу и потерять?
Дадлез помотал головой, его стеклянный взгляд задергался, пытаясь выудить информацию из захламленных закоулков подконтрольного сознания.
– Не знаю… приказ… Его личный приказ. От Амадея. Только для него. – слова шли с трудом, обрывочно. – Боится. Сильно боится. Того, кто режет стражу. Решил, что в Лимбо ему… хана. Считает, что в Зите… безопаснее. Спрятался. Как крыса в норке. Амадей… разрешил. Сказал… чтобы молчал.
Артур медленно кивнул, на лице его не дрогнул ни один мускул, но внутри все холоднее и тверже становилась уверенность. Страх. Вот оно, главное оружие. Они не едины. Они трескаются по швам, парализованные страхом перед невидимым врагом. Бачевский, этот жирный, самодовольный трус, сбежал первым, нарушив собственные же правила. Это была не просто информация. Это была трещина. И в нее можно было просунуть лезвие.
– Что затевают Амадей и Ярослав? – спросил он, его голос снова стал ровным и ледяным, но теперь в нем звучала еще и уверенность охотника, нашедшего слабое место в стаде. – Говори.
– Амадей… готовит Ярослава. К власти. К трону. Ярослав… он тренируется. Использует «Покорность»… на людях. На живых. Убивает их. Экспериментирует. В своем новом доме. Готовится… стать императором… Новым… Новым богом… Я именно это слышал от других.
Артур медленно кивнул. Информации увы было недостаточно. Но еще один кирпичик в стене его ненависти добавлен. Он поднялся, смотря на это жалкое, обмякшее в кресле тело.
– Слушай внимательно. Когда я уйду, ты откроешь этот маленький пузырек, – он ткнул пальцем в черный флакон. – Будешь вдыхать его содержимое ровно пять минут. Глубоко. Не меньше. Потом выпьешь то, что останется на дне. Пузырек выбросишь в окно. Окно не закрывай. Ни в коем случае. После этого выпьешь вот эту бутылку вина. До дна. Понял?
– Понял, – безжизненно, механически откликнулся Дадлез.
Артур развернулся. Еще один взгляд на эту комнату, на эту пародию на роскошь. Он втиснулся обратно в вентиляционную шахту, чувствуя, как холодный металл снова обнимает его. Он исчез так же бесшумно, как и появился, призрак, пришедший за своей данью.
Он уже спускался по лестнице, его шаги были быстрыми и уверенными, когда та же консьержка окликнула его:
– Эй, минутку! А мы раньше не встречались? Кажется, я вас… лицо знакомое…
Артур, не оборачиваясь, не замедляя шага, резким, почти небрежным движением встряхнул руку. Остатки «Покорности» из мешочка тонкой дымкой окутали ее лицо. Она сморщилась, чихнула, потерла нос.
– Мы никогда с вами не встречались, – произнес он четко, властно, вкладывая в слова всю силу своей воли.
– Не встречались… – повторила она за ним, и ее взгляд потух, стал пустым и отрешенным. – Конечно же, нет.
Он уже не слышал ее. Он растворился в винном погребе, сменил одежду на свою, привычную, кожаную куртку, на ощупь холодную от подземного сырого воздуха. И скрылся в подземном ходе, в своей стихии. За его спиной, в роскошном номере 451, уже начинала разворачиваться тихая, невидимая, идеально спланированная драма. Ее режиссером был он. А смерть Томаса Дадлеза должна была стать его самым гениальным, самым безмолвным произведением.
* * *
Томас Дадлез сидел несколько секунд, уставившись в пустоту, пока команда, вложенная в его сознание, не достигла цели. Его пальцы, вялые и непослушные, нашли на столе маленький черный пузырек. Он повертел его в руках, ощущая прохладу стекла.
Пальцы с трудом отвинтили крошечную запаянную крышечку. И тут же воздух наполнился сладковатым, почти фруктовым ароматом. Нежным, обволакивающим, как воспоминание о чем-то хорошем, что было очень давно. Томас глубоко, с наслаждением втянул ноздрями этот запах. Он ему сразу же понравился. Понравился так, как не нравилось уже ничего очень давно. Это был запах из другого мира – мира без страхов, без скучных совещаний, без этого вечного, гнетущего чувства опасности.
– Ах… – выдохнул он с блаженной, глупой улыбкой. – Как же… прекрасно.
Он прильнул к горлышку, как младенец к материнской груди, и начал глубоко, размеренно вдыхать. Сладкие пары заполняли его легкие, пьянили сознание, смывая остатки страха и тревоги. Он засек время по массивным настенным часам с тикающим маятником. Пять минут. Ровно пять минут он сидел, закрыв глаза, и вдыхал этот райский аромат, этот эликсир забвения. Он улыбался, его лицо расслабилось, став почти детским.
Когда время вышло, он послушно, как автомат, опрокинул пузырек и выпил оставшуюся жидкость. На вкус это оказалось не так приятно – металлическая, горьковатая жидкость обожгла язык и горло, заставив его поморщиться. Но приказ был выполнен.
Он встал, пошатываясь, подошел к распахнутому окну. Ночной воздух Лимбо, пахнущий дымом и нищетой, ударил ему в лицо. Он разжал пальцы, и черный пузырек полетел вниз, пропав в темноте.
И тут его глотку сдавило. Сначала легкое першение, потом – резкий, сухой спазм. Он закашлялся, пытаясь вдохнуть, но воздух будто не проходил. Паника, тупая и животная, на мгновение пробилась сквозь химический туман в его мозгу. Он задыхался.
Его взгляд упал на бутылку вина. Спасение. Последний приказ. Он схватил ее дрожащими руками, с трудом вытащил пробку, которую Артур уже заранее извлек и вставил обратно неплотно, и начал жадно, большими глотками пить. Богатый, фруктовый, терпкий вкус старого вина ударил в голову, смывая горечь яда и подавляя кашель. Он пил, захлебываясь, пока темно-красная жидкость не потекла по его подбородку, пачкая белый халат. Он пил, пока в бутылке не осталось ни капли.
Пустая бутылка с грохотом покатилась по полу. Головокружение накатило новой, сокрушительной волной. Комната поплыла, закружилась, краски расплылись в мутное пятно. Но это было приятное головокружение, пьяное, убаюкивающее. Першение в горле прошло, сменилось приятным теплом, разливающимся по всему телу.
Он сделал несколько шагов, пошатнулся и рухнул на широкую кровать, уткнувшись лицом в шелковое покрывало. На его лице застыла блаженная, идиотская улыбка. Он был доволен. Пьян. Счастлив.
Он не чувствовал, как по его нервной системе уже расползается невидимый, безжалостный яд. Он не знал, что это его последняя ночь. Последние ощущения.
Томас Дадлез уснул. Навсегда.
* * *
Особняк стоял на отшибе центрального района, за высоким каменным забором, утыканным битым стеклом. Не дворец, нет – дворец Амадея остался в Лимбо, как брошенная шкура. Это было новое логово. Скромнее, но неприступнее. Бункер, притворяющийся жилищем.
Амадей провел ладонью по холодной, отполированной до зеркального блеска стене в просторном, почти пустом холле. Его шаги гулко отдавались в голом пространстве.
– Смотри, Ярослав, – его голос, привыкший командовать, здесь звучал иначе – приглушенно, с отзвуком паранойи, будто он боялся, что стены услышат. – Видишь эту кладку? Довоенная. Двухметровой толщины. Выдержит прямое попадание. Здесь не будет окон на первом этаже. Только бойницы.
Ярослав, следовавший за отцом на полшага, молча кивал. Его взгляд скользил по голым стенам, по грубым балкам перекрытия, но не видел будущих покоев. Он видел клетку. Новую, улучшенную, но все ту же клетку.
– Править – это не сидеть на троне и принимать дань, – Амадей повернулся к сыну, и в его глазах горел тот самый фанатичный, нездоровый огонек, что сводил с ума всех вокруг. – Править – это предвидеть. Видеть угрозу за год, за два, до того, как она поднимет голову. И выжигать ее каленым железом. Заранее.
Он ткнул пальцем в грудь Ярославу, заставив того вздрогнуть.
– Они все тебя возненавидят. С первого дня. Каждый нищий, каждый торговец, каждый стражник, которому ты пожалеешь лишнюю монету. Их ненависть – это твой главный ресурс. Понимаешь? Они должны бояться тебя больше, чем голода, больше, чем смерти. Только тогда они будут слушаться.
Он прошелся по холлу, его тень, отбрасываемая единственной керосиновой лампой, гигантской и уродливой, металась по стенам.
– Этот дом – не крепость. Это твоя голова. – Амадей постучал себя по виску костяшками пальцев. – Никто не должен сюда войти. Никто! Ни друзья, ни советники, ни наложницы. Друзья предадут, советники обманут, наложницы выведают секреты и воткнут нож в спину. Ты будешь править один. Ты и твоя воля. Все остальное – инструменты. Расходный материал.
Он подошел к массивному дубовому столу, единственному предмету мебели в огромной комнате, и провел рукой по столешнице.
– Здесь будет карта. Не карта Лимбо или Первого Сектора. Карта их душ. Карта их страхов. Ты будешь знать о каждом своем подданном все: кому он должен, кого любит, кого боится потерять. И ты будешь дергать за эти ниточки. Постоянно. Чтобы они никогда не забывали, кто здесь хозяин.
Ярослав сглотнул. Воздух в доме был спертым и холодным, пахнул свежей штукатуркой и страхом.
– А если… если они объединятся? – робко спросил он.
Амадей замер и медленно повернулся. На его лице расцвела улыбка, от которой кровь стыла в жилах.
– Они не объединятся. – Он подошел вплотную, и от него пахло дорогим коньяком и чем-то кислым, болезненным. – Потому что ты дашь им общего врага. Сначала – того, кто режет стражу. Потом – мэров, которые ничего не делают. Потом – соседний город. А когда не останется врагов вовне… ты укажешь им на соседа. Пусть грызутся друг с другом за кость, которую ты им бросишь. Это и есть управление. Делить и властвовать. Не позволять им поднять голову. Никогда.
Он отвернулся и подошел к единственному пока что заложенному окну, закрытому тяжелыми ставенками.
– Твоя сила не в любви, сын. Любовь – слабость. Твоя сила – в их ненависти друг к другу. В их готовности предать ближнего ради твоей милости. Ты должен быть для них богом. Слепым, глухим и беспощадным. Ты будешь кидать их в топку своей империи, и они будут благодарить тебя за эту честь.
Ярослав смотрел на спину отца, на его ссутулившиеся плечи, и чувствовал, как тяжелый, ледяной груз ложится ему на душу. Это не было обучение. Это было посвящение в чудовища. Передача сакрального знания о том, как оставаться монстром у власти.
– Я… я понял, отец, – выдавил он.
Амадей обернулся. Его взгляд был пустым и усталым.
– Нет, – тихо сказал он. – Ты не понял. Но поймешь. Когда останешься здесь один. Когда эти стены станут твоим единственным собеседником. Они научат тебя всему. Молчанию. Подозрительности. Одиночеству. Это и есть цена трона, Ярослав. Заплатишь ли ты ее?
Он не ждал ответа. Он просто повернулся и вышел из комнаты, оставив сына наедине с голыми стенами, давящей тишиной и страшным, новым знанием о том, что его ждет.
Ярослав остался один. Он подошел к стене, прислонился к холодному камню лбом и зажмурился. В ушах звенело. Он пытался представить себя властителем этого склепа, этого царства страха. Но все, что он видел – это себя самого, запертого в этих стенах навечно. И тихий, безумный шепот отца, который уже никогда не замолкнет в его голове.
* * *
Возвращение было долгим и утомительным. Тоннели, казалось, намеренно растянулись, стали более извилистыми и враждебными. Сырость въелась в кожу до костей, едкая пыль веков забивала легкие, каждый вдох давался с трудом. Каждый шаг отдавался в висках тяжелым, мерным стуком – навязчивым эхом от пустоты, что разверзлась внутри него после бесплодного допроса. Артур шел, почти не видя пути, ведомый лишь мышечной памятью и холодной, густой яростью, что клокотала в нем, как разъедающая кислота, готовая выплеснуться наружу при первом же неверном слове.