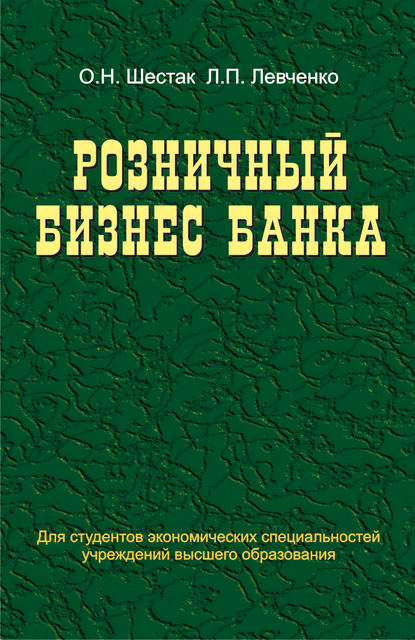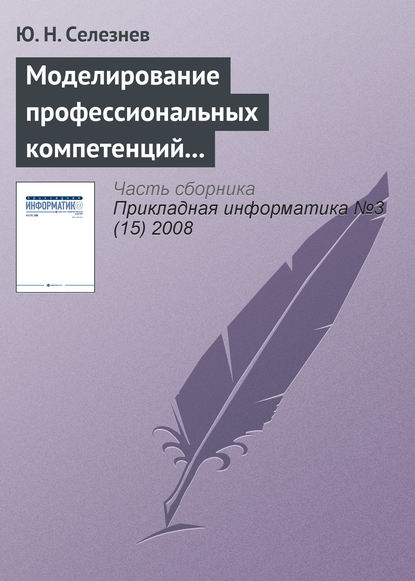Манипулятор

- -
- 100%
- +
На первом этаже царил хаос. Два гостя, разорвав друг другу маски и дорогие камзолы, молотили кулаками по физиономиям, выкрикивая матерные обвинения и пытаясь вырвать друг у друга какой-то трофей. Луиза, стоя на лестнице, наблюдала за этим с бокалом шампанского в руке и блаженной, довольной улыбкой на лице, как будто смотрела увлекательное представление. Артур посмотрел на нее, на запертые наглухо главные двери, и холодная уверенность заполнила его. Отлично, – мысленно усмехнулся он. – Значит, все дерьмо заперто здесь, внутри. Никто не уйдет, пока не закончится спектакль.
Шел уже час. Напряжение достигло своего пика. Все были измотаны, в поту, злы. Платья порваны, прически растрепаны, маски сломаны. Некоторые уже не искали, а сидели в углах и плакали от бессильной ярости или напивались в стельку. И тут, словно удар хлыста, по залу прокатился крик победителя:
– Нашел! У меня есть! Я нашел! Я победитель!
Какой-то тощий, длинный аристократ с искаженным от жадности и триумфа лицом рванулся через зал к Луизе, размахивая над головой чем-то маленьким и ажурным. Та лишь игриво приподняла край своей юбки, сверкнув безупречной кожей бедра, послала ему воздушный поцелуй и покачала изящным пальчиком: мол, не-не, милый, маловато будет. Тот, словно его ударили, замер, его лицо вытянулось от обиды и непонимания, а затем, побежденный, он поплелся обратно в толпу, надеясь отыскать еще.
Артур видел, как он, пошатываясь, поднялся на второй этаж и зашел в одну из ванных комнат. Не раздумывая, Артур последовал за ним. Как только дверь закрылась, отсекая шум зала, Артур резко развернул его, прижал к кафельной стене, приставив предплечье к горлу.
– Отдай, – прорычал он из-под маски, и его голос, искаженный респиратором, звучал как скрежет железа.
– Нет! Пошел на хуй! Это мое! Я нашел! – запищал тот, пытаясь вырваться, его глаза бегали по сторонам в поисках спасения.
Артур не стал тратить время на уговоры. Быстрым, точным движением другой руки он воткнул ему в шею, прямо в яремную вену, заранее приготовленный шприц и нажал на поршень. Внутри был быстродействующий нервно-паралитический яд собственного изготовления. Мужчина успел только широко открыть глаза, полные ужаса и неверия, издал короткий, булькающий звук и обмяк, сползая по стене на кафельный пол.
Черненькие.
Теперь у Артура было две пары. Две жалкие тряпки, пахнущие дешевыми духами, чужим потом и похотью. Он сунул новую добычу в карман и вышел обратно в коридор, чувствуя тошнотворный, металлический привкус отвращения во рту. Где третья? Ее, казалось, не было вообще. Ее не мог найти никто.
Он спустился в главный зал и встал в тени массивной колонны, наблюдая за финалом этого цирка. Время истекало. Все уже выдохлись, поиски прекратились, энергия сменилась апатией и злобой. И тогда к Луизе, с напыщенным, самодовольным видом, подошел запыхавшийся толстяк в маске кабана, с жирным блеском на лице.
– Госпожа Равская! Я нашел! Я нашел все три! Я ваш победитель! Я…
Он даже не успел ничего показать. Луиза, не меняя сладкой улыбки на лице, просто кивнула стоявшим за ее спиной двум громилам в ливреях. Те молча, с профессиональной эффективностью, взяли толстяка под руки, заткнули ему рот и, несмотря на его дикое, подавленное удивление и попытки вырваться, потащили прочь, в боковую дверь. Через мгновение оттуда донесся короткий, приглушенный хлопок, а потом – тяжелый звук падающего тела. В зале на секунду воцарилась мертвая, шокированная тишина, которую не могла заполнить даже музыка.
– Врать нехорошо! – весело, словно ничего не произошло, прокричала Луиза, и оркестр снова заиграл, но уже тише, неуверенно. – Наказывается!
И в этот миг Артура осенило. Это была не игра на похоть. Это была игра на ум. На цинизм. На полное, абсолютное понимание правил ее больного, извращенного театра. Правило было не в том, чтобы найти. Правило было в том, чтобы понять.
Он дождался, пока смятение уляжется, пока гости, потрясенные и испуганные, снова начнут шептаться и пить. Затем он медленно, не спеша, с мерной поступью механизма, прошел через весь зал к подножию лестницы, где она стояла, королева этого бала. Все взгляды, полные страха и любопытства, устремились на него. Он остановился перед ней, вынул из кармана две пары белья и с безразличным отвращением швырнул их к ее ногам на сияющий пол.
– Госпожа Луиза, – его голос, искаженный респиратором, прозвучал на редкость громко и четко, заглушая и музыку, и шепот. – Третья пара… на вас.
Какой позор, бля…
В зале повисла абсолютная, оглушительная тишина. Смычок скрипача замер в воздухе. Флейтистка опустила инструмент. Луиза перестала улыбаться. Ее глаза за стеклянной маской сузились, в них мелькнуло нечто – не злость, не обида, а дикий, неподдельный, живой интерес. Она медленно, словно оценивая добычу, обвела взглядом его маску, его фигуру, его покрытый пылью и сигаретным дымом плащ.
Потом ее губы тронула новая улыбка – хитрая, одобрительная, опасная и по-настоящему заинтересованная впервые за весь этот вечер.
– Кажется, – тихо, но так, что было слышно в самой дальней, темной комнате этого проклятого особняка, произнесла она, – у нас наконец-то появился победитель. Проводите господина… в мои покои.
* * *
Пока Артур метался по гнилым подворотням Лимбо, Луиза Равская предавалась своему главному ритуалу – подготовке к маскараду. Для нее это был не просто бал. Это была главная охота в сезоне. И она тщательно готовила капкан.
Ее будуар напоминал не спальню, а операционную алхимика-гедониста. Воздух был густым от смеси ароматов: дорогие масла, пудра с жемчужной пылью, сладковатый дым опиума, который она курила через длинный серебряный мундштук, чтобы снять напряжение, и едкий, возбуждающий запах свежевыделанной кожи.
Она стояла перед тройным зеркалом в одном лишь тонком шелковом неглиже, изучая свое отражение с холодной, критической оценкой хищницы. Каждый сантиметр ее тела был результатом титанических усилий, изощренных диет и болезненных процедур, которые она переносила со стоическим равнодушием.
Луиза Равская была воплощением искусственной, отточенной до идеала чувственности, где каждая линия тела служила оружием, а каждый изгиб – ловушкой. Ее фигура не была даром природы – это был дорогой, выстраданный проект, холодный и безупречный, как алмаз, ограненный циничным мастером.
Она была высока, почти до плеча большинства мужчин в зале, и ее осанка – прямая, с легким, едва уловимым прогибом в спине – заставляла ее казаться еще выше. Ее плечи были узкими, острыми, намеренно обнаженными платьем, чтобы подчеркнуть хрупкость, которая была обманчива, как и все в ней. Ключицы выступали четкими, хрупкими дугами, будто выточенными из слоновой кости, – намек на аристократическую утонченность и вечный голод.
Грудь не была пышной – Луиза презирала грубую, животную полноту. Она была высокой, упругой, с неестественно четким разделением, достигнутым благодаря сложным упражнениям. Каждая грудь была идеальной полусферой, гордо приподнятой, с маленькими, бледно-розовыми сосками, всегда находящимися в состоянии легкой, возбужденной припухлости. Они выглядели как два спелых, холодных плода, обещающих сладость, но таящих внутри лед.
Ее талия была не просто тонкой – она была неправдоподобно узкой, стянутой в молодости корсетами до хруста ребер, а теперь поддерживаемой мышечным корсетом и дисциплиной. Она резко обрывалась от узких ребер, чтобы тут же взмыть вверх округлыми, упругими бедрами. Эти бедра были ее гордостью – широкими, почти вызывающе женственными, идеальной песочными часами, которые сводили с ума мужчин и вызывали тихую ярость у женщин. Каждое движение бедер было отрепетировано – плавное, волнообразное, гипнотизирующее.
Ягодицы были высокими, тугими, с четко очерченной линией снизу, без единой лишней складки или намека на целлюлит. Они напоминали спелые персики, твердые и в то же время соблазнительно мягкие на вид.
Ноги – длинные, с идеальными икрами и тонкими лодыжками, казались бесконечными. Она умела ставить их так, чтобы каждая мышца играла, подчеркивая изящный подъем и линию. Даже ее ступни были объектом поклонения – ухоженные, с высоким подъемом, пальцы ровные, с идеальным лаком цвета крови.
Кожа повсюду была одинаковой – гладкой, матово-бледной, без единой родинки или веснушки, будто вылепленной из фарфора. Это была не естественная бледность, а достигнутая регулярными кислотными пилингами и ваннами с молоком. Она холодно блестела под светом, как мрамор, и пахла дорогим, холодным цветком – белой лилией с примесью металла.
Это не было тело для наслаждения или продолжения рода. Это был арт-объект, доспехи и приманка одновременно. Каждая его деталь кричала о контроле – над собой, над своими желаниями, над теми, кто осмелится возжелать его. Оно было идеально, пугающе и абсолютно мертво в своей неестественной красоте. И в этом заключалась ее главная власть – она предлагала роскошь, которую нельзя было потрогать без разрешения, совершенство, которое могло в любой момент обжечь ледяным ожогом отвергнутого.
Секс для Луизы никогда не был про близость или удовольствие в обычном понимании. Это был акт абсолютного доминирования. Театр, где она была режиссером, сценаристом и главной актрисой. Ее партнеры – всего лишь реквизит, марионетки, чьи страхи, желания и самые потаенные унижения были ниточками, которые она дергала с виртуозностью садиста.
Ее возбуждала не плоть, а власть. Власть видеть, как сильный, влиятельный мужчина ползает у ее ног и умоляет о внимании. Власть заставить его совершать самые унизительные поступки ради призрачного шанса коснуться ее. Она коллекционировала эти моменты, как другие коллекционируют монеты, – холодно, системно, смакуя каждую деталь поражения в другом человеке.
Пошлость была ее родной стихией. Она обожала грань, за которой заканчивалось приличие и начиналась голая, животная суть. Ее любимой игрой было доводить партнеров до грани, а затем резко отстраняться, наблюдая, как они мучаются от неразрешенного напряжения. Она могла часами изощренно издеваться, унижать изысканными фразами, которые больнее любой пощечины, а потом одним легким касанием вызвать такую волну животного экстаза, что партнер терял сознание. Контроль. Полный, тотальный контроль – вот что было ее настоящим наркотиком.
И маскарад был идеальным полем для этого. Анонимность масок снимала последние барьеры приличия, выпуская наружу самых темных, самых похотливых демонов, прятавшихся под шелком и бархатом аристократии. Она знала, что под маской благородного льва может скрываться трусливый заика, а под личиной невинной голубки – развратница, мечтающая о том, чтобы ее привязали к позолоченной кровати.
Ее собственный наряд для бала был продуман до мелочей. Платье, которое выглядело струящимся и невесомым, на самом деле было сшито из особого шелка, становившегося почти прозрачным при определенном освещении. Оно застегивалось на крошечные, хитро спрятанные застежки, которые можно было расстегнуть одним легким движением, но только если знать нужную точку. Ее золотая маска, закрывавшая лишь глаза, была оснащена крошечными фильтрами, пропитанными легким афродизиаком, – чтобы каждый, кто подойдет слишком близко, ощущал легкое головокружение и нарастающее желание.
Перед балом она провела несколько часов, пряча свои «призы» – те самые пары трусиков. Она не просто клала их в укромные места. Она создавала целые мини-спектакли. Одну пару, черную, ажурную, она надела на мраморную статую Аполлона, завязав бантик на самом интимном месте бога. Другую, алую, как свежая кровь, оставила на самом видном месте. Третью она… оставила на себе. Самую простую, почти невинную, белую. Истинная пошлость, по ее мнению, заключалась не в обнажении, а в намеке, в обещании, которое никогда не будет выполнено до конца.
Она знала, что большинство гостей будут искать их стадом, поддаваясь стадному инстинкту. Но она рассчитывала на одного. На того, кто поймет истинные правила игры. Кто увидит не примитивную охоту за трофеем, а сложный психологический тест. И когда появился он – этот человек в маске из хлама и ненависти, с глазами, полными ледяного презрения ко всему этому цирку, – она почувствовала не просто интерес. Она почувствовала вызов. Игру, которая наконец-то может оказаться стоящей ее внимания.
* * *
Аптека Федора Васильевича была не просто точкой на карте Лимбо. Она была порталом в иное время, законсервированным пузырем, где пахло не нищетой и страхом, а спиртом, сушеными травами и старой, добротной бумагой. Для двенадцатилетнего Артура, сбегавшего от вечного гнета отцовского дома, это место стало убежищем. И не только из-за странных баночек и склянок. А из-за самого старика.
Федор Васильевич не был просто врачом. Он был алхимиком, последним хранителем знаний мира, которого больше не существовало. И он видел в мальчике не принца, не заложника своего положения, а жаждущий ум, который можно было обучить, отточить, как скальпель.
Однажды, после особенно тяжелого дня, когда Артур молча перевязывал пострадавшего от побоев стражи пациента, старик пристально посмотрел на него.
– Тебя тянет не к живым, парень. Тебя тянет к сути. К тому, что скрыто под кожей. К причинам, а не к следствиям, – произнес он, протирая очки. – Хочешь, покажу, откуда настоящая сила берется? Не от этих дурацких мечей твоего отца.
Артур, не отрываясь от работы, кивнул. Ему было все равно, куда идти, лишь бы подальше от дворца.
Федор Васильевич провел его через задвижную дверь за стеллажами, в крошечную, заставленную лабораторию. Воздух здесь был гуще и едче. И там, за столом, заваленным причудливой стеклянной аппаратурой, возился другой старик – тощий, угрюмый, с лицом, испещренным оспинами и химическими ожогами. Он что-то перегонял в колбе, и жидкость издавала резкий, сладковатый запах миндаля.
– Это Аристарх, – представил его Федор Васильевич. – Не смотри, что он похож на высохшую жабу. Он может из пыли и мочи синтезировать то, от чего целый квартал сдохнет в конвульсиях. Или наоборот – поставить на ноги того, кого уже в яму спустили.
Аристарх даже не поднял головы, пробормотав что-то невнятное под нос.
– Он… не любит людей, – пояснил Федор. – Но вещества – его друзья. Он научит тебя их языку. Языку молекул и реакций. Тому, как боль превратить в послушание, а страх – в тихую, безропотную смерть. Это куда полезнее твоих уроков фехтования.
С тех пор обучение пошло по двум руслам. Федор Васильевич отвечал за теорию – за макроуровень. Он заставлял Артура заучивать наизусть анатомические атласы, пока тот не начинал видеть скелеты, проступающие сквозь плоть каждого прохожего. Он водил его по задним дворам Лимбо, показывая настоящие, не приукрашенные болезни: гангрену, съедающую ногу заживо; чахотку, выкашивающую целые семьи; сифилис, медленно превращающий разум в гниющую тыкву.
– Смотри, Артур, – говорил он, указывая на очередного умирающего в грязи. – Видишь, как пальцы синеют? Это сердце сдалось. А этот кашляет розовой пеной? Это легкие превратились в решето. Запомни это. Потому что тот, кто знает, как тело умирает, знает, как им управлять. Смерть – лучший учитель. Она не прощает ошибок.
Он учил его не лечить. Он учил его понимать. Понимать, какая мышца отвечает за какой жест, какой нерв нужно задеть, чтобы вызвать паралич, какой сосуд пережать, чтобы смерть наступила тихо и без лишнего шума. Он показывал ему точки на теле – невидимые клапаны, контролирующие боль, страх, саму жизнь.
А в это время в душной лаборатории Аристарх, ворча и сплевывая, учил его микроуровню. Он показывал, как из плесени, соскобленной с заплесневелого хлеба, можно выделить вещество, подавляющее боль. Как из обычной полыни и коры ивы сварить отвар, сбивающий жар. И как из тех же ингредиентов, при другом подходе, получить нервно-паралитический яд, не оставляющий следов.
– Химия – это не рецепты, малец, – хрипел он, заставляя Артура снова и снова перегонять жидкость, пока тот не доводил процесс до автоматизма. – Это искусство предвидения. Ты должен видеть реакцию еще до того, как смешаешь реагенты. Должен чувствовать ее здесь, – он ткнул костлявым пальцем себе в грудь. – Ошибка – и ты не пациенту поможешь, а себя в гроб вгонишь. Или того хуже – останешься калекой, с трясущимися руками и провалами в памяти. Здесь нет места сантиментам. Только точность. Холодная, абсолютная точность.
И Артур учился. Он впитывал их знания, как губка. Для Федора Васильевича он был почти сыном, наследником, которому можно передать тайное ремесло. Для Аристарха – удобными руками и острым умом, который можно использовать для своих опытов. Для Артура же это было спасением. Он узнал, что самая большая сила кроется не в грубой силе, не в титулах, а в знании. В знании того, как все устроено изнутри. Как бьется сердце, как работают легкие, какие химические процессы управляют страхом и болью.
Именно Федор Васильевич однажды, глядя на то, как Артур виртуозно вскрывает труп крысы, сказал:
– Ты странный парень, Артур Элиаш. Тебя не тянет ни к добру, ни к злу. Тебя тянет к сути. Ты как скальпель – сам по себе не хороший и не плохой. Все зависит от руки, что держит его. Только смотри… не потеряй себя в этом. Тот, кто слишком долго смотрит в микроскоп, рискует перестать видеть человека.
Но Артур уже тогда не слушал. Он был пьян от открывающихся возможностей. Он понял главное: тот, кто владеет знанием о жизни и смерти, тот и есть настоящий правитель. А все остальное – троны, короны, приказы – просто бутафория для тех, кто боится заглянуть вглубь.
Однажды Аристарх, закончив очередной опасный синтез, поставил перед Артуром крошечную склянку с маслянистой, почти черной жидкостью.
– Смотри, – просипел он. – Цинк и соляная кислота. Дешево и сердито. Но если добавить каплю этого… – он ткнул грязным ногтем в склянку, – в стакан с водой, то через час тот, кто ее выпьет, будет блевать своими внутренностями. Будет кричать, что у него внутри огонь. А умрет от того, что его кровь превратится в желе. Противоядия нет. Вообще. Называется «Слеза ангела». Иронично, да?
Артур смотрел на склянку не с ужасом, а с жадным любопытством. Он спросил: «А если дать не целую каплю, а половину?»
Аристарх усмехнулся, обнажив почерневшие десны: «Будет мучиться еще меньше. И все равно сдохнет. Ты схватываешь суть, малец. Суть не в том, чтобы убить. А в том, чтобы управлять процессом. Чтобы смерть танцевала под твою дудку».
Именно эти уроки, эти часы, проведенные среди запахов химикатов и смерти, и выковали того Артура, который теперь мог одним точным движением руки приговорить человека к медленной, неотвратимой гибели. Он не просто убивал Дадлеза. Он ставил эксперимент. Применял на практике уроки своих старых, циничных учителей. И в глубине души он знал, что где-то там, в затхлой аптеке, Федор Васильевич гордился бы им. А Аристарх – одобрительно хмыкнул.
Глава 8. Маскарад: часть вторая
«Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть.» – Иакова 1:15
Холодный металл наручников впился в запястья, приковывая к стойкам массивной кровати. Артур лежал на спине, голый, уязвимый, как подопытное животное на плитке лаборатории. Черный шелк простыни был холодным и скользким под спиной, словно кожа мертвой змеи.
Над ним, вся в лунном свете, что пробивался сквозь единственное закопченное окно, сидела Луиза. Ее тело, это произведение искусства, высеченное из мрамора и льда, казалось, светилось изнутри мерцающим, фосфоресцирующим светом. Она оперлась руками о его грудь, чувствуя под пальцами напряженные мышцы, и медленно провела языком по губам.
– Ну что, мой победитель? – ее голос был сладким, как испорченный мед, и таким же липким. – Нравится? Я вся твоя. Награда за смекалку.
Ее пальцы скользнули вниз, по его животу, оставляя на коже ледяные следы. Артур не дрогнул. Он смотрел в потолок, в кромешную тьму под балдахином, чувствуя, как внутри него закипает черная, густая ярость. Но на лице – лишь маска холодной отстраненности.
– Не молчи, – она наклонилась ниже, ее губы почти коснулись его уха. Ее дыхание пахло дорогим вином и чем-то горьким, наркотическим. – Я хочу слышать, как ты стонешь. Хочу видеть, как ты теряешь контроль. Твой ум такой острый… Мне не терпится посмотреть, что скрывается под ним.
Ее рот обжег его шею влажным, жадным поцелуем. Потом губы двинулись ниже, к ключице, оставляя на коже красные, болезненные отметины. Артур заставил себя расслабить мышцы, сделать низкий, притворный вздох. Его разум, отчаянно пытаясь отключиться от происходящего, искал точку опоры. И нашел ее.
Я точно убью Серафима, – пронеслось в голове ледяной, ясной волной. Придушу этими самыми наручниками. Медленно. Будет смотреть мне в глаза и понимать, за что. СУКА!
Мысль была настолько четкой, настолько реальной, что он почти почувствовал под пальцами шершавую кожу старого бармена, услышал его хриплое, предсмертное клокотание. Это помогло. Гнев на Серафима, предавшего его этой сумасшедшей суке, был чистым, неразбавленным, в отличие от тошнотворной смеси отвращения и вынужденного притворства, которую он испытывал сейчас.
Луиза меж тем опустилась еще ниже. Ее длинные, ухоженные пальцы сцепились на его груди, ногти впились в кожу достаточно сильно, чтобы было больно, но не до крови. Пока не до крови.
– Такой напряженный, – прошептала она, и в ее голосе прозвучала насмешка. – Все тело – как струна. Расслабься. Ты же этого хотел? Добивался? Или… – она остановилась, ее глаза сузились, поймав малейшую дрожь, которую он не смог подавить, – или тебе нужна помощь, чтобы расслабиться?
Она не ждала ответа. Ее губы снова нашли его кожу, теперь ниже живота, двигаясь с неспешной, мучительной уверенностью хищницы, растягивающей удовольствие от игры с жертвой. Каждое прикосновение было выверенным оскорблением, каждое движение – унижением.
Артур зажмурился, сконцентрировавшись на дыхании. Вдох. Выдох. Вдох. Он представлял себе, как разбирает свой пистолет, чистит каждую деталь, смазывает механизм. Это был старый трюк, которому научил его один из отцовских охранников, бывший солдат, чтобы не сойти с ума во время долгих караулов.
Серафим, блядь. Подохнешь в своем же баре, захлебнешься дешевой водкой и собственной кровью. Я вылью ее тебе в глотку лично.
Луиза что-то говорила, ее голос доносился словно сквозь толщу воды – приглушенный, неразборчивый. Слова о власти, о покорности, о том, как она сломает его, переплавит сталь его воли в послушное золото для своей коллекции.
Он не слушал. Он считал щели между потолочными досками. Двадцать семь. Двадцать восемь. Двадцать девять…
Ее руки скользнули под него, впились в ягодицы, приподнимая его, прижимая к себе с внезапной, животной силой. Ее ногти впились в плоть.
– Говори, что я прекрасна, – приказала она, и в ее голосе впервые прозвучала не игра, а плоская, безжизненная команда.
Артур открыл глаза. Его взгляд был пустым, как взгляд рыбы на льду.
– Ты прекрасна, – выдавил он, и слова прозвучали как скрежет железа по стеклу.
Она засмеялась, довольная, и снова принялась за свою работу, уже более жестко, более требовательно, словно наказывая его за фальшь в голосе.
А он снова ушел в себя. Глубоко. Туда, где не было ни ее прикосновений, ни запаха ее духов, ни унижения. Туда, где был только холодный, ясный план мести. Сначала Серафим. Потом отец. Потом Ярослав. Потом… потом, может быть, и она.
Он мысленно составлял список. Расставлял приоритеты. Прокручивал в голове карту тоннелей под городом.
И ждал. Ждал, когда эта сумасшедшая баба наиграется и наконец отпустит его. Или когда он найдет в себе силы переломить ход этой игры.
Наручники болезненно врезались в запястья. Он даже не пошевелился.
* * *
Кира замерла на холодном камне парапета, впиваясь взглядом в освещенные окна «Белого острога». Внутри танцевали тени, мелькали огни, доносились приглушенные звуки музыки и безумия. Прошел уже час. Больше. Где он?
Ее пальцы нервно барабанили по рукояти клинка, спрятанного в складках плаща. Каждый мускул был напряжен, как струна, готовая сорваться. Он сказал ждать. Он сказал не лезть. Но столько времени… Что-то пошло не так. Может, его узнали? Может, уже…
Мысли прервались резко и бесшовно. Холодное лезвие прижалось к ее горлу так внезапно и точно, что она даже не успела вздрогнуть. Острота была такой, что кожа сама собой вскрикнула болью, прежде чем мозг успел осознать угрозу.
– Тише, мышка, – прошептал за ее спиной низкий, скрипучий голос. Он пах табаком, дешевым самогоном и чем-то еще – металлическим, как старый кровь. – Давай отойдем подальше от края. Без резких движений. Мне не хочется пачкать твою сладенькую шею. По крайней мере, пока.
Лезвие слегка надавило, заставляя ее отступить от парапета. Кира позволила себя вести, ее глаза метались, оценивая ситуацию. Один. Сзади. Правая рука – нож. Левая, скорее всего, свободна. Рост – примерно с нее. Сила – неизвестна.