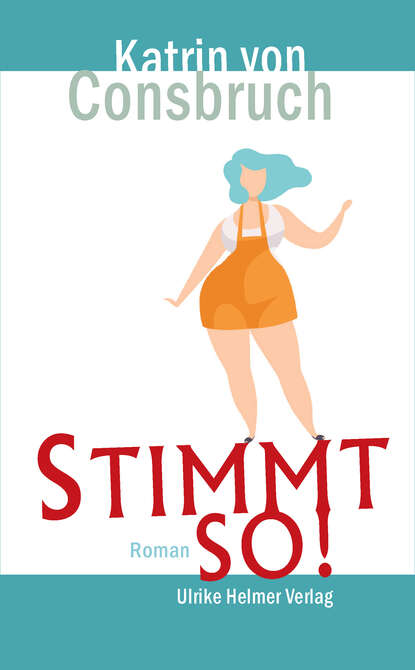- -
- 100%
- +

ЧАСТЬ 1: СПОКОЙСТВИЕ, КОТОРОЕ СЛИШКОМ ГЛУБОКО
Глава 1: Камень, вода и хлеб
Дождь начался ночью, тихо, без грозовых предупреждений. К утру он не кончился, а лишь сменил такт – с частого перестука по свежей дранке крыш на размеренное, медитативное бульканье по водостокам, которые Гордий встроил в каждый дом с педантичностью маньяка. Яромир проснулся от этого звука и несколько минут просто лежал, слушая.
Шшш-ш-шшш… буль… шшш-ш-шшш… буль.
Ритм был почти дыханием. Дыханием спящего дома.
Он поднялся, натянул простую льняную рубаху – не родовую одежду с вышивкой, а грубую, сшитую здесь же, в Гавани. Шов на левом плече слегка топорщился. Яромир провёл пальцами по неровным стежкам – работа Лики, её первые попытки, когда она только училась держать иглу, не ломая её от напряжения. Он не стал его распарывать и перешивать. Пусть будет.
На кухне главного дома – того самого, с общим столом – уже пахло тёплым камнем и влажным деревом. Яромир раздул затлевшие в очаге угли, подбросил две ольховых плахи. Пламя с хрустким вздохом обняло их, отбросив на стены оранжевые тени. Он достал из закромов глиняный горшок с закваской. Она пахла жизнью – кисло, зернисто, надёжно.
И вот тогда, погрузив руки в просеянную муку, смешанную с тёплой водой и этой самой закваской, Яромир совершил своё первое за день осознанное действие: он приглушил дар.
Это было похоже на то, как закрываешь ставни в слишком солнечный день. Не наглухо – свет всё равно пробивался щелями, – но достаточно, чтобы можно было смотреть без боли. Он отодвинул в сторону тихий гул тревог, исходящий от Рёрика, спавшего в комнате над кузницей (воину всё ещё снились старые битвы). Смягчил острый, как игла хвойной смолы, фон нерешённой задачи, витавший вокруг Элиана, который наверняка уже сидел в архиве, уткнувшись в свитки. И почти полностью отфильтровал сложную, многослойную симфонию леса, которую постоянно транслировала Лика, даже когда спала.
Остался только он. Мука, липнущая к пальцам. Тёплая, податливая масса теста. И его собственное, физическое тело, в котором тянулись мышцы, стучало сердце и был пустой, простой утренний голод.
Он месил. Сначала нежно, потом с нарастающим усилием, чувствуя, как под ладонями рвутся и формируются заново клейковинные нити. Это был диалог на чистейшем языке плоти и материи. Никаких скрытых смыслов, никаких глубинных ран. Только сопротивление и его преодоление. Только превращение.
Дверь скрипнула, впустив порыв влажного воздуха и Гордия. Мастер был, как всегда, с головы до ног в призрачной пыли – то ли древесной, то ли каменной. Он сбросил мокрый плащ на крюк и тут же начал ворчать, даже не поздоровавшись.
– Опять. С самого рассвета. Как будто небу мало той кутерьмы, что у него наверху творится, так оно ещё и тут, на земле, барабанить решило. Весь резонанс в новой горне сбил. Я вчера настроил его по звону – сегодня он гудит, как простуженный медведь.
Яромир, не отрываясь от теста, уголком рта улыбнулся.
– Может, медведь и вправду простудился. Спит где-нибудь в берлоге и храпит на всю округу. Вот горн и отзывается.
Гордий фыркнул, наливая себе из крынки воду. Выпил залпом, вытер рот рукавом.
– Смешно. А знаешь, что ещё смешнее? Твой Рёрик. Опять у брода упражнялся с тем дубовым чурбаком. Весь ритм дождя перебил. Тук-тук-тук, будто дятел на железе. Теперь, слава небу, дождь этот его заглушил. Единственная польза от этой промозглой стирки.
Ворчание Гордия было ровным, почти ласковым. Оно не требовало ответа. Оно было частью утренней симфонии, таким же фоном, как шум дождя. Яромир отщипнул кусочек теста, скатал его в гладкий шар и положил в центр деревянной миски. Накрыл льняной тряпицей. Пусть подходит.
– Зерно взойдёт лучше, – тихо сказал он, глядя на полоску света в дверном проёме, где косо падал серебристый дождь. – После такого дождя. И огороды напьются всласть.
Гордий, уже копавшийся в своём бесконечном ящике с инструментами, остановился. Вздохнул. Потом, не глядя на Яромира, пробормотал:
– Да… Взойдёт. Это ты верно. И шум, хоть и мешает, но свой – земной. Не то что эта… тишина оттуда.
Он махнул рукой куда-то на север, за стену, за пределы Гавани. Словно отгонял мошкару.
Яромир на секунду замер. Какая тишина? Он автоматически приоткрыл «ставни» своего дара, настроив восприятие на то направление. И поймал его.
Вкус.
Не звук, не образ. Вкус. Как если бы лизнуть отполированный речной камень – гладко, холодно и абсолютно пусто. Ни минеральной свежести, ни памяти о воде. Просто… отсутствие.
Он моргнул, с силой прогнал это ощущение. Это было ничто. Просто усталость. Нервное эхо от вчерашнего разговора с Элианом о каких-то старых текстах. Он слишком долго был настороже, вот психика и выдавала фантомы.
– Тесто сегодня хорошее, – сказал он вслух, меняя тему. – Закваска бодрая.
Гордий что-то буркнул в ответ, уже погружённый в проверку зубьев пилы. Яромир подошёл к печи, заложил в неё дров, открыл заслонку. Через несколько минут из глубины уже плыл ровный, сухой жар. Он поставил чугунок с водой на край, чтобы согрелась.
И пока вода нагревалась, а тесто подходило под тряпкой, он стоял у приоткрытой двери и смотрел, как дождь стекает с крыши кузницы ровными, блестящими струйками. В одной из луж у порога прыгали пузыри от капель.
Здесь было хорошо. Просто. Настояще.
Он поймал себя на мысли, которая пришла беззвучно, целиком, как спелое яблоко, падающее с ветки: Это и есть оно. Счастье. Не яркое, не кричащее. Тихое, как этот дождь. Как ворчание Гордия. Как пузыри в луже.
Он взял с полки кусок хозяйственного мыла, начал оттирать от пальцев засохшее тесто. Вода в чугунке была уже тёплой.
И где-то на самой границе восприятия, как забытый звук, всё ещё висел тот самый вкус пустоты. Холодный. Гладкий. Совершенно безразличный.
Яромир сознательно повернулся к нему спиной и принялся формовать хлеб.
Глава 2: Урок топора и слова
Дождь к полудню сбавил прыть, превратившись в моросящую дымку, которая висела в воздухе, серебря каждую ветку и травинку. Именно в такую погоду, как говаривал Рёрик, «руки не скользят, и пот не заливает глаза». Идеально для урока.
Он стоял на расчищенной площадке у кузницы, где Гордий разрешил устроить «учебный полигон». Перед ним – шесть пар глаз. Не солдат. Дети. Самый старший, Ларс, лет четырнадцати, уже пытался гнуть плечи в доспехе из подручного тряпья. Самой младшей, Мирель, было семь, и она с трепетом смотрела на груду поленьев, как на неприступную крепость.
Рёрик держал в руках не боевой топор, а широкий, потёртый колун – инструмент простой и беспристрастный.
– Так, – начал он, и голос у него прозвучал неестественно громко, как будто он обращался не к кучке ребятни, а к построенному отряду на другом берегу реки. – Сегодня… будет про дрова.
Ларс разочарованно вздохнул. Мирель просияла: дрова – это что-то знакомое, домашнее.
Рёрик игнорировал и вздох, и улыбку. Он подошёл к первому полену, поставил его на широкий, вросший в землю чурбак.
– Дело не в силе, – сказал он, и это была первая из многих заученных фраз, которые Яромир когда-то вбил ему в голову. – Дело в… понимании дерева.
Он провел рукой по срезу, показывая годичные кольца. Пальцы, знавшие только вес рукояти и сопротивление плоти в бою, двигались неуверенно.
– Вот тут… рыхлее. Это весенний рост. Рубишь тут – легче пойдёт. А вот тут – плотнее, летняя древесина. Тут упрёшься.
Он взял колун, встал в стойку – автоматически, как делал тысячу раз, но теперь эта стойка выглядела нелепо перед безобидным поленом. Он сделал неглубокий, контролируемый взмах. Топор вошёл в рыхлое кольцо с мягким хрустом. Полено раскололось на две почти ровные половины.
– Вот, – Рёрик выдохнул, откладывая колун. – Теперь ты.
Ларс шагнул вперёд, важно принял из рук учителя инструмент. Слишком высоко занёс, ударил со всей дури – и промахнулся, вонзив лезвие в чурбак. Полено лишь подпрыгнуло и упало в грязь. Среди детей прокатился сдержанный смешок. Ларс покраснел до корней волос.
– Не… не получилось, – пробормотал он.
Рёрик смотрел на него. Внутри всё сжалось в стальной пружинный комок. Старая ярость, знакомая и почти родная, просилась наружу: «Бездарь! Руки не из того места! Да я бы тебя за такой удар…» Он загнал её обратно, вглубь, где она зашипела, как раскалённое железо в воде.
– Полено… живое, – сказал он натужно, выдирая из себя слова. – Его не победить надо. Его… уговорить.
Он поднял полено, смахнул грязь, снова поставил. Положил руку Ларса на рукоять, свою поверх.
– Не рубишь. Направляешь. Вес топора сам всё сделает. Почувствуй.
Вместе они сделали плавный, несильный взмах. Лезвие чисто вошло в намеченное кольцо. Полено развалилось.
Ларс повернулся к Рёрику с таким восхищением, будто тот только что расколол скалу. Рёрик отвёл взгляд, кивнув к следующему ребёнку.
Урок продолжался. Стоны, смех, крики «ой, почти!», шуршание стружек под ногами. Рёрик двигался среди них, как тяжёлый, добродушный медведь, поправляя хватку, показывая движение. Когда дошла очередь до Мирели, он даже не дал ей колун – просто позволил поставить маленькие ладошки поверх своих и всем телом ощутить вибрацию удара, который расколол тонкую лучинку. Она засмеялась от восторга, и этот смешок – звонкий, чистый – на мгновение растопил что-то ледяное у него внутри.
Именно в этот момент, когда Рёрик на секунду расслабился, позволив уголкам губ дрогнуть в подобии улыбки, Ларс, отложив свой колун, спросил. Не со зла. С искренним, подростковым любопытством, которое режет глубже любого клинка.
– Рёрик, а зачем вообще колоть? Если можно попросить Элиана? У него же там, в свитках, наверняка есть заклятье. Щёлкнет пальцами – и поленница готова. Или… или духа лесного позвать, чтобы он деревья сам ломал.
Рёрик замер. Всё внутри него, только что начавшее оттаивать, снова схватилось льдом. Заклятье. Дух. Слова, от которых его собственная, простая, честная сила вдруг становилась ненужной. Грубой. Примитивной. Как его урок сейчас – ненужной игрой перед лицом настоящей магии.
Он открыл рот, но не нашёл слов. В горле встал ком. Он видел, как улыбка сбегает с лиц детей, как они чувствуют его замешательство. Он был воином. Он умел отвечать на вызов сталью, рёвом, давлением. Но на этот тихий, логичный вопрос – нет.
– Потому что…
Голос прозвучал сзади. Спокойный, тёплый, как жар от только что истопленной печи. Яромир стоял на пороге кузницы, опираясь о косяк. В руках он держал свежеиспечённую, ещё дымящуюся краюху хлеба – того самого, что месил утром.
Все взгляды перешли на него. Рёрик почувствовал странное облегчение и жгучую досаду одновременно.
Яромир отломил от краюхи кусок, подышал на него.
– Потому что тепло от дров, расколотых своими руками, – другое, – сказал он, глядя не на Ларса, а на Рёрика. Как будто объяснял именно ему. – Заклинание даст тебе жар. Сухой, эффективный. Он согреет тело. А труд… – он сделал шаг вперёд, протянул хлеб Рёрику, – труд даёт уют. В нём есть твой пот, твоё терпение, твоя намеренная медлительность. Ты вкладываешь в эти дрова часть своего дня. И когда они горят, они отдают не просто тепло. Они отдают твоё время, превращённое в огонь. Заклинание такого не умеет.
Рёрик взял хлеб. Он был тяжёлым, душистым, живым. Тепло от него проходило сквозь кожу ладоней прямо в грудь, растапливая тот ледяной ком. Он кивнул. Неловко, сгорбленно. Слова Яромира были правильными. Мудрыми. Теми самыми, которые он сам никогда бы не нашёл.
– Да, – хрипло выдавил он. – Что он сказал.
Дети, удовлетворённые ответом, снова зашумели, принялись за свои чурбаки. Мирель уже тащила следующую лучинку. Кризис миновал.
Яромир присел рядом на сложенные брёвна, отломил себе кусок хлеба. Они молча жевали. Дождь-дымка оседал на ресницы.
– Хороший хлеб, – наконец сказал Рёрик.
– Закваска удалась.
– Урок… тоже вроде удался.
Яромир посмотрел на него. Взгляд был мягким, но что-то в нём – какая-то отдалённая, эхо-боли – дрогнуло.
– Они учатся не колоть, Рёрик. Они учатся создавать. А ты их учишь. Это важнее любой магии.
Рёрик кивнул снова. И в этот раз в кивке была не только благодарность. Была тоска. Потому что «учить создавать» – это не то же самое, что «защищать, круша». Первое было мирным. Второе – ясным, как удар топора. В нём не было сомнений.
А сомнения, как этот назойливый моросящий дождь, уже просачивались внутрь, под толстую кожу, к самому сердцу, которое всё ещё помнило ритм боя, а не ритм размеренной, безопасной жизни.
Глава 3: Шёпот архива
Архив пах стариной. Не затхлой, гнилостной, а благородной – смесью вощёной кожи, высушенных трав (разложенных Элианом по углам против моли), старой бумаги и каменной пыли. Воздух здесь был неподвижным, вечным, как в гробнице забытого фараона, и Элиан дышал им с наслаждением аскета.
Он сидел за длинным дубовым столом, сооружённым Гордием по его бесконечным спецификациям: без единого железного гвоздя, с выдвижными ящиками и углублениями для чернильниц. Перед ним, закреплённый костяными зажимами, лежал свиток. Не древний раритет из его прежней коллекции, а нечто куда более интересное – свежая копия, привезённая недельной давности бродячим торговцем скотом с дальнего севера.
Элиан водил пальцем по строке, шепча слова вслух. Его голос, обычно сухой и резкий, здесь, среди книг, обретал почти певучесть.
– «…И душа, очищенная от шрамов воспоминаний, обретает гладкость камня в реке, над которым воды скользят, не оставляя следов…»
Он откинулся на спинку стула, снял очки – простые, в железной оправе, которые сам же и отковал. Глаза, уставшие от тонкой работы, видели не каменные своды погреба, а идеальный, геометрически безупречный образ: человеческая психика как многоугольник. Каждая травма – острый угол. Каждое болезненное воспоминание – неровность. И вот является мастер (Велегор, именуемый здесь «Благодетелем») и… что? Срезает углы? Шлифует? Нет. Судя по контексту, он переплавляет. Превращает колючий, неправильный многогранник в идеальную сферу. Гладкую. Нецепляющуюся.
«Элегантно, – подумал Элиан с профессиональной холодностью. – Чудовищно, но элегантно. Насилие, доведённое до уровня искусства».
Он сделал пометку на отдельном листе своим убористым, угловатым почерком: «Гипотеза: метод не стирание, а тотальная реструктуризация. Боль не уничтожается, а изолируется в отдельный, недоступный сознанию контур. Вопрос: как удерживается целостность личности?»
Дверь в архив не скрипнула. Она просто перестала быть закрытой. В проёме возник Ворон. Он не вошёл, а как будто материализовался из тени коридора – беззвучно, без сквозняка, без предупреждения. На нём была обычная серая посконная рубаха и штаны, в которых он мог быть кем угодно – батраком, паломником, нищим. Только глаза, быстрые и всевидящие, выдавали в нём нечто иное.
Элиан даже не вздрогнул. Он привык.
– Доклад, – произнёс Ворон. Его голос был ровным, без интонации, как чтение списка припасов.
Элиан кивнул, отложив перо.
– В четырёх днях пути к северо-востоку – поселение, которое они теперь называют «Приютом». Население: около ста душ. Все – последователи. Никаких видимых укреплений. Никакой стражи. Никаких следов насилия или принуждения.
– Признаки? – уточнил Элиан.
– Признаки «исцеления» налицо. Люди спокойны. Улыбчивы. Работают размеренно. Дети не бегают, не кричат. Играют в тихие игры. Старики не ворчат. – Ворон сделал микроскопическую паузу. – На всей территории нет ни одной собаки. Кошек – тоже. Птицы не поют. Они сидят на ветках и… смотрят.
Элиан заинтересованно приподнял бровь. Это была деталь.
– Животные тоже подвержены эффекту?
– Неизвестно. Ушли. Или их убрали. Шума нет. Вообще. Даже кузница, если она там есть, должна работать бесшумно. Я не стал приближаться. Почва… не принимает следов. Сознательно. Как будто само место стремится к чистоте.
– Фасцинант, – прошептал Элиан. Его ум уже строил модели: геомагия? Массовое поле подавления эмоций? – Продолжайте наблюдение. Особенно за линией снабжения. Если они что-то потребляют извне…
– Они не потребляют, – перебил Ворон. Редкость для него. – Или потребляют очень мало. Огороды ухожены, но малодоступны для обзора. Дым от очагов почти невидим. Я взял образцы воды из ручья ниже по течению. Без вкуса, без запаха.
Он шагнул в комнату, положил на край стола маленький, тщательно запечатанный пузырёк. Вода внутри была кристально чистой, мертвенно-прозрачной.
Элиан взял пузырёк, поднёс к свету масляной лампы.
– Любопытно. Спасибо.
Ворон кивнул, но не ушёл. Его взгляд скользнул по разложенным свиткам, остановился на том самом, что лежал перед Элианом.
– Новое? – спросил он. Вопрос был делом вежливости. Он уже всё прочёл краем глаза.
– Трактат, приписываемый школе Велегора. Философское обоснование его методов. – Элиан не мог удержаться от лекторского тона. – Послушайте: «Шрамы памяти суть крючья, за которые цепляется страдание. Удали крючья – и страдание соскользнёт, как мокрая ткань с гладкого стекла». Поэтично, не правда ли?
Ворон молчал секунду. Потом произнёс, глядя куда-то поверх свитка, в пространство:
– Гладкое стекло не цепляется ни за что. Его легко унести течением. Или разбить.
Элиан медленно опустил пузырёк. Слова Ворона, простые и грубые, вдруг выстроились в умозрительную модель, которую он сам упустил. Он видел изящное решение уравнения – сферическую психику в вакууме. Ворон видел последствия в реальном мире.
– Вы полагаете, это делает их уязвимыми? – спросил Элиан, и в его голосе впервые зазвучал не только академический интерес.
– Это делает их предсказуемыми, – поправил Ворон. – И зависимыми от источника этой… гладкости. Нет крючьев – нет и зацепок за реальность. Нет ярости, чтобы драться. Нет страха, чтобы убежать. Нет тоски по дому, чтобы вернуться. Идеальные подданные. Идеальные жертвы. Информация к размышлению.
Он повернулся и растворился в коридоре так же бесшумно, как и появился. Дверь закрылась сама собой.
Элиан остался один в тишине архива. Он снова взял пузырёк, потряс его. Вода внутри не образовала пузырьков, не замутилась. Она была идеально однородной.
«Гладкое стекло, – повторил он про себя слова Ворона. – Унести течением».
Он положил пузырёк рядом со свитком. Контраст был поразительным: пожелтевший пергамент с выцветшими чернилами, полный сложных метафор о душе, – и вот эта капля безжизненной, чистой жидкости. Оба были об одной и той же вещи.
Элиан снова надел очки, взял перо. Но рука не слушалась. Вместо того чтобы делать пометки, он просто сидел и смотрел на пламя лампы, отражающееся в стеклянной стенке пузырька. Оно горело ровно, холодно, без трепета.
Впервые за много лет чистая, безупречная логика фактов не приносила ему удовлетворения. Она оставляла на языке тот самый привкус. Привкус пустоты.
Глава 4: Первые вестники
Стражник на северном посту – молодой парень по имени Эван, ученик Рёрика – протрубил в рог не сигналом тревоги, а тремя ровными, вопросительными нотами. «Гости. Неизвестные. Без угрозы». Яромир, помогавший Гордию подбирать брус для новой стропильной системы, отложил отвес и пошёл к воротам, вытирая руки о холщовые штаны.
К Гавани шли двое. Мужчина и женщина. Оба в простых, серых одеждах, без оружия, без поклажи. Шли они не спеша, но и не медля – ровным, экономичным шагом, который не оставлял на влажной земле глубоких следов. Дождь к тому времени почти прекратился, и их фигуры прорезали серебристую дымку, как тени.
Яромир почувствовал их ещё до того, как разглядел лица. Или, точнее, не почувствовал.
Обычный человек – даже самый спокойный, самый уравновешенный – нёс вокруг себя ауру. Микроскопическую рябь: ритм сердца, тепло тела, фонтанчик мыслей, пусть даже неосознанных. Эти двое несли с собой ничто. Тихое, чистое, как вымороженный зимний воздух. Это было не скрытие, не маскировка. Это была пустота. И она резала его обострённое восприятие больнее, чем крик.
Он поднял руку, давая знак Эвану не трогать лук. Сам вышел за ворота, остановившись в десяти шагах от пришельцев.
Ближе он разглядел их. Мужчина – лет сорока, с обычным, ничем не примечательным лицом. Женщина – помоложе, с гладкими, собранными в пучок светлыми волосами. Оба улыбались. Улыбка была не широкой, не радостной. Она была… правильной. Как нарисованная на лице куклы. Губы изогнуты, глаза участвуют, но в уголках – ни одной морщинки напряжения или искренности.
– Мир вашему дому, – сказал мужчина. Голос у него был приятным, среднего тембра, без акцента. – Мы искали место, где уважают тишину. Нам сказали, что здесь её понимают.
Яромир кивнул, не отвечая. Его дар, бесполезный против этой пустоты, цеплялся за края, пытаясь найти хоть что-то. Тревогу. Скрытую угрозу. Жажду. Обман. Ничего. Только ровную, полированную поверхность.
– Вам нужна помощь? – спросил он наконец. – Кров, еда?
Женщина покачала головой. Движение было плавным, почти механическим.
– Мы благодарим. Наша нужда не в этом. Мы пришли поблагодарить.
– Поблагодарить? За что?
– За то, что вы есть, – сказал мужчина. Его глаза обошли палисад за спиной Яромира, крыши домов, дымок из труб. – За то, что строите место, где боль имеет право на голос. Это… редкость. Наш Целитель с Севера, узнав о вас, велел передать своё почтение. И пожелание. Чтобы и вы когда-нибудь обрели покой, который заслуживаете.
Слово «Целитель» прозвучало естественно, без пафоса, как «кузнец» или «плотник». Но Яромира будто обдало ледяной водой. Велегор. Он посылает привет. Не армию, не угрозу. Почтение. Это было тоньше, умнее и в тысячу раз страшнее.
В этот момент с краю леса, из-за огромного валуна, поросшего мхом, появилась Лика. Она не вышла – она проявилась, как дух рощи. В её руках был пучок свежесобранного папоротника-орляка, но пальцы сжимали стебли так, что костяшки побелели. Её глаза, огромные и тёмные, были прикованы к пришельцам. Не к их лицам – к пространству вокруг них.
Яромир уловил волну от неё – не мысль, а чистую, нефильтрованную ощущенческую панику. Как если бы она, ныряльщик, привыкший к могучему гулу океана, вдруг наткнулась на бездонную, беззвучную пропасть.
– Лика, – тихо позвал он, пытаясь мысленно послать ей успокоение.
Она не отреагировала. Она смотрела на женщину-пришельца и шептала что-то беззвучно, губами. Яромир, напрягая дар, поймал обрывок её внутреннего монолога: «…вывернуты… наизнанку… боль снаружи… холод идёт…»
Мужчина, следуя взгляду Яромира, повернул голову к Лике. Улыбка на его лице не дрогнула.
– Лесная сестра, – произнёс он с той же вежливой интонацией. – Мы не потревожим твой покой. Мы лишь проходим.
Лика сделала шаг назад, за валун, и скрылась из виду. Но Яромир чувствовал – она не ушла. Она затаилась, как зверь, почуявший незнакомый, смертельный запах.
– Ваш Целитель, – начал Яромир, возвращая внимание к гостям, – очень любезен. Но мы не ищем покоя в его понимании. Наш дом построен на ином.
– Мы знаем, – сказала женщина, и в её голосе впервые прозвучала тень чего-то, что можно было принять за печаль. Но была ли это печаль? Или просто констатация факта? – Поэтому мы и пришли. Чтобы увидеть альтернативу. И чтобы вы знали – путь к покою открыт. Для всех, кому больно. Многие идут. Некоторые, возможно, придут и сюда. Вы примете их?
Вопрос был задан с искренней, кажется, заботой. Яромир почувствовал старый, знакомый импульс – импульс целителя. Они жертвы. Их надо спасти. Приютить. Показать другой путь.
– Мы всегда поможем тому, кто просит помощи, – сказал он, и голос его звучал твёрже, чем он чувствовал сам. – Но помощь у нас – иная. Мы не стираем боль. Мы учим с ней жить.