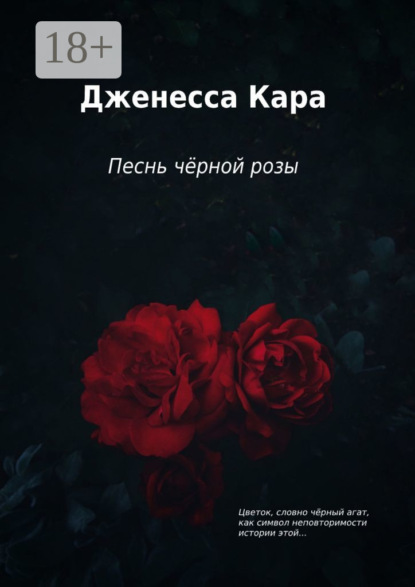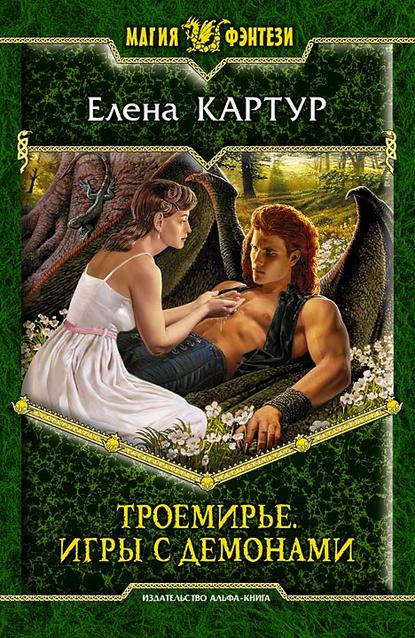- -
- 100%
- +
Мужчина кивнул, как будто услышал ожидаемый, глубоко уважаемый, но в корне ошибочный ответ.
– Благородно. И… сложно. Мы пойдём. Спасибо за воду из вашего родника, что мы взяли у входа. Она имеет вкус. Непривычно.
Они повернулись и пошли обратно тем же ровным шагом. Никаких прощаний, никаких пожеланий удачи. Они просто удалились, растворяясь в дымке, как два призрака.
Яромир долго стоял, глядя им вслед. Пульсация пустоты медленно затихала, замещаясь привычным гулом жизни Гавани: криком ребёнка, лязгом инструмента Гордия, запахом хлеба. Но остался осадок. Холодный. Гладкий.
Из-за валуна вышла Лика. Она подошла так близко, что почти коснулась его плеча. Дрожала.
– Яромир… – её голос был хриплым шёпотом. – Ты… чувствовал?
– Пустоту. Да.
– Нет. Не пустоту. – Она схватила его за рукав, пальцы впились в ткань. – Они не пустые. Они… дыры. Они не чувствуют. Они… поглощают. Чувства вокруг. Радость, страх, гнев – всё. Втягивают в себя и… гасят. Превращают в тишину. Моему дару… больно. Он привык к шуму жизни. А это – конец шума. Это тишина, которая съедает звук.
Она говорила сжато, обрывочно, выплёскивая образы, которые не могла вместить. Её глаза были полы ужаса – не перед угрозой смерти, а перед угрозой небытия чувств.
Яромир положил руку поверх её пальцев. Они были ледяными.
– Они ушли, Лика. Они просто… посланники. Любопытствующие.
– Нет! – она дёрнула головой. – Они оставили что-то здесь. В воздухе. Привкус. Ты его не чувствуешь? Холодный. Гладкий. Как камень, который забыл, что он камень.
Она была на грани истерики. Её дар, всегда бывший её проклятием и её сутью, сейчас кричал о новой, невиданной опасности. Яромир сделал то, что считал правильным. Он собрал всё своё спокойствие, всю свою тёплую, ясную уверенность и окутал её этим чувством, как плащом. Эмпатическое успокоение.
– Всё в порядке. Они просто люди. Другие. Мы в безопасности. Дом нас защитит.
Лика вздрогнула, и на секунду её глаза прояснились. Она увидела его лицо – уверенное, доброе. И что-то в этом добром, уверенном взгляде напугало её ещё больше, чем пришельцы.
Она медленно отняла свою руку. Отступила на шаг. В её взгляде читалось страшное понимание.
– Ты их не слышишь, – прошептала она. – Ты перестал слушать лес. Ты слушаешь только себя. Свою правоту.
И, развернувшись, она побежала. Не к дому. В лес. В свою старую, глухую чащу, где не было этого нового, чужого, гладкого ужаса.
Яромир остался один у ворот. В руке ещё чувствовался холод её пальцев. В ушах – эхо её слов. Он посмотрел на север, где растворились двое серых фигур.
«Они жертвы, – упрямо повторил он про себя. – Им можно помочь. Надо просто понять. Надо быть готовым».
И, отогнав смутную тревогу, он пошёл обратно к Гордию и к недоделанным стропилам. К хлебу, который ждал на столе. К простому, понятному миру, который, как ему казалось, он построил и надёжно защитил.
Глава 5: Вопрос у костра
Вечерний костёр в Гавани был больше, чем просто источником тепла и света. Он был центром притяжения, живым сердцем, вокруг которого сходились нити дня. Гордий, закончив правку пилы, сбросил опилки с колен и пододвинулся ближе к жарку. Элиан вышел из архива, неся с собой лёгкий запах пергамента и притираний для книг. Рёрик притащил свежее полено и с привычной лёгкостью расколол его на колоде у огня, под одобрительные взгляды ребятишек, которые тут же расхватали щепки для своих поделок. Даже Ворон занял место в кольце света – не в центре, а на границе тени, откуда было видно всё и всех.
Яромир принёс из кухни котелок с похлёбкой – густой, наваристой, пахнущей дымком и кореньями. Общее молчаливое ожидание, хруст хлеба, звук ложек о глиняные миски – это был ритуал. Ритуал общности.
«Исцелённые» – Арен и женщина по имени Сера – сидели рядом на принесённом для них бревне. Они ели аккуратно, без жадности, но и без особого удовольствия. Процесс. Их присутствие вносило лёгкий, почти неуловимый диссонанс. Как если бы в слаженный хор вкрался голос, поющий в чуть другой тональности.
Первым нарушил тишину Арен. Отложив пустую миску, он сложил руки на коленях и оглядел собравшихся.
– У вас хорошо, – сказал он. Голос был тёплым, одобряющим. – Видна работа. Видно… усилие.
Гордий хмыкнул, не глядя на него:
– Усилие – оно всегда видно. Иначе это не работа, а халтура.
– Именно, – кивнул Арен, как будто получил подтверждение глубокой мысли. – Но разве не утомительно? Стремиться к идеалу, который никто, кроме вас, не оценит в полной мере?
Гордий медленно повернул к нему голову. В глазах мелькнула опасная искра.
– Я делаю не для оценки. Я делаю, потому что иначе не могу. Кривая линия режет глаз. Слабая связка предаёт в момент нагрузки. Это закон.
– Закон мастера, – согласился Арен. – Но ведь закон может быть и иным. Можно найти покой в принятии несовершенства. Или вовсе упразднить само понятие «несовершенство». Освободить ум от этой гонки.
Гордий смерил его долгим взглядом, полным глубочайшего, неподдельного презрения к такой ереси, и пробормотал что-то невнятное про «сопливые философии», отвернувшись к костру.
Арен не обиделся. Он перевёл взгляд на Элиана.
– Вы храните знания. Собираете их, как драгоценные камни. Но ведь мир полон противоречий. Каждый новый свиток может опровергнуть старый. Разве не мучительно – вечно сомневаться, вечно искать и никогда не найти окончательной истины?
Элиан поправил очки. В его позе появилась лёгкая защитная напряжённость.
– Сомнение – двигатель познания. Истина – не точка, а путь. Тот, кто уверен, что нашёл её, перестаёт видеть мир.
– Прекрасная метафора, – сказал Арен почти с нежностью. – Путь. С постоянными камнями под ногами, рытвинами, непогодой. А можно обрести истину как тихую комнату. И сидеть в ней, где сухо, тепло, и ничто не тревожит. Не соблазнительно?
Элиан не ответил. Он взял свою кружку и сделал глоток чая, но взгляд его стал отстранённым, внутренним. Он думал над вопросом. И это было опаснее, чем гнев.
Потом очередь дошла до Рёрика. Воин как раз заглотнул похлёбку, громко чавкая, и собирался рассказать что-то смешное про то, как Ларс сегодня чуть не отрубил себе палец. Арен посмотрел на него с мягким, почти отеческим участием.
– Вам тяжелее всех, – тихо сказал он. И в тишине, внезапно наступившей, эти слова прозвучали громко, как удар колокола. – Вы прожили жизнь, измеряя её силой удара, остротой стали, числом врагов, которых положили на землю. А здесь… здесь вам приходится измерять её числом расколотых поленьев или удачно исправленных ошибок мальчишки. Разве это не унизительно? Не больно – помнить каждое лицо, каждый крик, который вы больше не услышите?
Рёрик замер. Ложка в его руке осталась на полпути ко рту. Лицо, только что расплывавшееся в улыбке, стало каменным. По жилам пробежала старая, знакомая дрожь – предвестник ярости. Но ярость не пришла. Пришло что-то другое. Что-то, что Арен назвал своим именем: стыд. Стыд за то, что его мастерство, его суть здесь были не нужны. И стыд за то, что он иногда, в самые тёмные ночи, тосковал по этой простоте – по ясности боя, где враг есть враг, и нет этих мучительных вопросов.
Он опустил ложку. Глаза его потемнели.
– Не твоё дело, – прохрипел он. – Что у меня в голове.
– Простите, – поклонился Арен, и в его извинении не было ни капли покорности. – Я лишь хотел сказать, что есть способ не помнить. Не тосковать. Не стыдиться. Это милосердие.
И вот тогда Рёрик, пытаясь сбросить тягостное давление этого разговора, сделать его обычным, бытовым, громко хохотнул. Он хлопнул себя по колену, обвёл всех взглядом, ища поддержки.
– Да ну вас! Идём лучше про медведя того послушаем, что Гордий слышал! – его смех был искусственным, натужным, но он был. Звук живой, шершавой, человеческой попытки отстоять своё право на радость.
Арен посмотрел на этот смех. Не осуждая. С лёгким, благосклонным сожалением, с каким взрослый смотрит на ребёнка, устроившего истерику из-за сломанной игрушки.
И тихо, так тихо, что слова едва перекрыли треск поленьев, произнёс:
– Зачем так громко? Разве тишина не прекраснее? Ваш смех – это напряжение. Расслабьтесь.
Смех Рёрика оборвался на полуслоге. Получился короткий, удушливый звук, похожий на всхлип. Он сидел, широко раскрыв глаза, и смотрел на Арена. Не с яростью. С ошеломлённым, леденящим душу пониманием. Он понял, что этот человек не шутит. Не провоцирует. Он искренне предлагает отказаться от смеха. От усилия. От самой жизни в её понимании Рёриком.
Воцарилась тишина. Но это была не мирная тишина довольства. Это была тяжёлая, густая тишина, в которой слишком громко звучало потрескивание огня и слишком отчётливо билось сердце каждого. Даже дети притихли, чувствуя взрослую, незнакомую опасность.
Яромир, наблюдавший всю сцену, почувствовал, как почва уходит из-под ног. Он видел, как вопросы Арена, точные как иглы акупунктуры, находили самые больные точки. Он видел замешательство Элиана, ярость Гордия, шок Рёрика. И он не знал, что сказать. Его дар, всегда подсказывавший нужные слова для исцеления, молчал перед этой ровной, непроницаемой гладью.
Он лишь поднялся, собрал миски.
– Поздно, – сказал глухо. – Завтра много работы.
Фраза прозвучала жалко, побеждённо. Это была не концовка разговора, а бегство.
Люди стали расходиться. Арен и Сера поднялись последними. Они поклонились угасающему костру, как гости, поблагодарившие за ужин, и ушли в предоставленную им сторожку.
У костра остались только свои. Рёрик сидел, уставившись в угли, сжав кулаки так, что костяшки побелели. Гордий что-то яростно чинил каким-то крошечным инструментом, не глядя на работу. Элиан смотрел в ночное небо, но взгляд его был пустым, направленным внутрь.
Яромир стоял, прислонившись к столбу навеса, и смотрел на тёмный прямоугольник двери сторожки. Оттуда не доносилось ни звука. Ни храпа, ни шёпота, ни скрипа кровати. Абсолютная тишина.
Тишина, которая, как сказал Арен, была прекраснее смеха.
Глава 6: Пердел Лики
Лес ночью был не тихим. Для Лики он грохотал симфонией. Шёпот сока, поднимающегося по спящим стволам. Нетерпеливое бормотанье ручья подо льдом. Тихое поскрипывание ветвей, спорящих с ночным ветерком. Даже сонное дыхание медведя в дальней берлоге – всё это складывалось в огромный, живой, нестройный хор. Обычно она умела отстраняться, находить в этом шуме знакомые голоса, как в толпе на рынке узнаешь речь земляков. Сегодня хор звучал фальшиво.
Она бежала не по тропе, а сквозь чащу, как делала в старые дни, когда любое человеческое присутствие было иглой в мозг. Ветки хлестали по лицу, цеплялись за платье. Она не чувствовала ударов. Она чувствовала, как затихает лес по мере её продвижения вглубь. Не естественная ночная тишина, а та самая, гладкая и холодная. Та, что шла за Ареном и Серой, как шлейф.
Она добежала до своего старого места – расщелины меж двух гранитных плит, поросших мхом, где когда-то скрывалась от мира. Задыхаясь, прижалась лбом к холодному камню. И попыталась сделать то, что всегда помогало: раствориться.
Она выпустила щупальца своего дара, позволила им растечься по корням, подземным водам, спящим почкам. Искала утешение в древней, неторопливой мудрости земли.
И земля ответила. Но не утешением.
Оттуда, с севера, от края её восприятия, шла волна. Не звуковая. Не волна боли или радости. Это было похоже на то, как если бы огромное, невидимое лезвие медленно проводили по самой ткани реальности, и на месте разреза оставалась… гладкость. Абсолютная. Мёртвая.
Она увидела это образами, как всегда: невысокий холм, поросший молодым ёрником. Всё на нём было живо. Мышиная возня в корнях. Ссора двух соек из-за шишки. Гордость одинокого дубка, тянущегося к солнцу. И вот по холму проходит оно – нечто бесформенное, беззвучное. И останавливается.
И начинается исчезновение.
Не смерть. Смерть была бы яростной, горькой, полной протеста. Это было стирание. Мыши переставали драться и замирали, глядя в пустоту. Сойки замолкали на полуслове и садились на ветку, сложив крылья. Дубок… дубок оставался стоять. Но его тихая, древесная радость от весеннего сока угасала, замещаясь ничем. Он становился просто вертикальным куском дерева. Функцией без сути.
Волна продвигалась дальше. За холмом была деревня. Лика не видела людей, но чувствовала их: усталость дровосека, ворчание старухи у очага, первую влюблённость девицы на выданье. И вот волна накрывала дома. И все эти чувства, все эти сложные, колючие, прекрасные узоры жизни – сглаживались. Стирались. Превращались в ровное, безэмоциональное существование.
Это было не насилие. Это было милосердие. Самое чудовищное, что она могла вообразить.
Она отшатнулась, как от огня. Сердце колотилось где-то в горле. Лес вокруг неё, её лес, её последнее убежище, дышал сдавленно, словно и его коснулась эта ледяная ладонь.
«Они здесь, – поняла она. – Они не ушли. Их тишина здесь. Она впитывается в землю, в воздух, в воду родника. Она ждёт».
Ей нужно было предупредить. Кричать. Но кто её услышит? Рёрик слушает только язык силы. Элиан – язык логики. Гордий – язык камня и дерева. Ворон… Ворон услышит, но не поймёт, потому что это нельзя понять умом. Это можно только почувствовать нутром, всем своим существом, как чувствует она.
Яромир. Только Яромир.
Она ненавидела эту мысль. Ненавидела свою зависимость от его понимания. Но другого выхода не было. Она должна была заставить его увидеть.
Она села на землю, скрестив ноги, прижала ладони к влажному мху. Закрыла глаза. И начала делать то, чего не делала никогда сознательно – не просто чувствовать, а проецировать. Направлять в спящее сознание Яромира не слова, а сам образ. Ужас гладкости. Небытие чувств.
Она вложила в этот импульс всю силу своего страха, всю ясность видения, всю свою любовь к шумному, несовершенному, живому миру, который кто-то хотел выскоблить до стерильного блеска.
***
Яромир спал беспокойно. Ему снился странный сон. Он стоял посреди Гавани, но все дома были сделаны из прозрачного, идеального стекла. Внутри них люди двигались, улыбались, работали. Но не было ни звука. Ни запаха хлеба. Ни смеха. Он видел Рёрика за стеклянной стеной – тот медленно раскалывал стеклянное полено, и лицо его было спокойным, пустым. Яромир стучал по стеклу, кричал, но его собственный голос не издавал ни звука.
И тут сквозь стекло, из самой глубины сна, просочилось другое видение. Не его. Чужое, дикое, пронзительное от ужаса. Картина холма, где жизнь превращалась в выставку чучел. Ощущение ледяного лезвия, режущего по душе мира.
И голос. Не голос – вопль, вывернутый наизнанку, от которого застывала кровь:
– Остановись! Он не человек! Он – дверь!
Яромир проснулся с одышкой, в холодном поту. Сердце колотилось. В ушах ещё стоял тот беззвучный крик. Лика. Это было послание Лики. Чистый, нефильтрованный ужас.
Он сел на кровати, пытаясь отдышаться. Разум, уже проснувшийся, начал анализировать. Лика напугана. Её дар, всегда гиперболизировавший угрозы, нарисовал ей апокалиптическую картину. Она видит в Арене и Сере монстров. Но они не монстры. Они жертвы. Они пришли с миром. Они лишь демонстрируют другой путь – ошибочный, да, но не злой. Лика паникует, потому что её восприятие не справляется с их аномальной тишиной. Её нужно успокоить. Объяснить. Защитить от её же страхов.
Он собрал в кулак всё своё спокойствие, всю свою тёплую, разумную уверенность. Ту самую, которая склеила их когда-то. И послал ей ответный импульс. Не слова. Чувство. Тяжёлое, тёплое, убаюкивающее одеяло уверенности: «Всё хорошо. Я здесь. Они не опасны. Мы в безопасности. Твои страхи – лишь тени. Успокойся. Я всё контролирую».
Он вложил в этот импульс всю свою любовь и всё своё снисхождение к её «дикарской», обострённой чувствительности. И отпустил его в ночь, в лес, туда, откуда пришёл крик.
***
В расщелине Лика почувствовала этот ответный толчок. Она ждала прозрения. Ужаса. Гнева. Любого живого, горячего чувства. Она получила успокоение.
Это было похоже на то, как если бы она, истекая кровью, кричала о пожаре, а ей в ответ нежно помазали рану мёдом и сказали: «Не кричи, милая. Тебе это только кажется».
Её собственный страх, острый и реальный, натолкнулся на эту гладкую, непроницаемую стену уверенного спокойствия. И разбился.
Она поняла всё.
Он не услышал её. Он не захотел услышать. Он услышал лишь её панику – симптом – и поспешил устранить симптом, не вникая в причину. Он был так уверен в своём понимании, в силе своего дара, в правильности своего пути, что её истина, её видение стали для него всего лишь «тенью», которую нужно развеять.
Он перестал слушать лес. Перестал слушать её. Он слушал только себя. Свою правоту.
Медленно, будто состарившись за минуту, она поднялась. Стеклами были её глаза. В груди – та самая ледяная гладкость, которую она пыталась ему показать. Он сам вложил её туда.
Она посмотрела в сторону Гавани, где в одном из домов спал человек, считавший себя целителем. И разорвала то, что считала нерушимым. Тончайшую, незримую нить эмпатической связи, что всегда тянулась между ними. Ниточку доверия.
Звука не было. Только ощущение пустоты, резкой и окончательной, как ампутация.
Теперь она была абсолютно одна.
Лика повернулась и ушла вглубь леса. Не бегом. Твёрдым, безжизненным шагом. Туда, где не было ни гладкой тишины Велегора, ни слепой уверенности Яромира. Туда, где был только древний, равнодушный шум умирающего мира.
Глава 7: Решение архитектора
Утро пришло без Лики.
Яромир заметил это не сразу. Сначала было обычное дело: розоватый свет в восточном окне, крик петуха (Рёрик притащил пару из соседней деревни «для души», как сказал), запах дыма и спящего дома. Он встал, раздул очаг, поставил чайник. Руки сами выполняли ритуал, а ум был занят вчерашним вечером у костра. Слова Арена. Застывший смех Рёрика. Нужно будет поговорить с ним. Объяснить, что вопросы – это не атака. Что…
Он замер, держа в руках две глиняные кружки. Одну – побольше, с грубоватой лепниной, свою. Другую – поменьше, тонкостенную, с отпечатком пальца у ручки. Ликину.
Он поставил её обратно на полку, медленно, как хрупкий артефакт. Она не приходила ночью. Не свернулась калачиком у огня, как иногда делала, когда её переполняло. Не было её тихого дыхания в доме.
Она обиделась, – подумал он, и мысль эта была удобной, почти успокаивающей. Она чувствительна. Её напугали их… их спокойствие. Она увидела в них угрозу там, где её нет. Вернётся, когда остынет. Я объясню.
Он вышел во двор. Воздух был свежим, промытым дождём. Арен и Сера уже стояли у ворот, готовые к уходу. Увидев его, они синхронно склонили головы.
– Благодарим за приют, – сказал Арен. – И за пищу. Она имела… вкус. Это редкость.
– Вы всегда найдете его здесь, – ответил Яромир, и его голос прозвучал твёрже, чем он чувствовал. Архитектор, представляющий свой проект. – Дом открыт для тех, кто ищет не забвения, а понимания.
Арен улыбнулся. Та же правильная, вежливая улыбка.
– Понимание – это начало. Но за ним часто следует боль. Мы пойдём. Другие, кому больно, тоже ищут покоя. Возможно, они придут и сюда. Вы будете готовы?
Вопрос повис в воздухе. Не вызов. Искренний интерес.
– Мы всегда готовы помочь, – сказал Яромир.
– Помочь нести боль? Или помочь от неё избавиться? – мягко уточнила Сера, впервые обращаясь к нему напрямую.
– Помочь научиться жить с ней. Чтобы боль не управляла тобой.
– Благородно, – кивнул Арен, и в его тоне снова прозвучало это снисходительное сожаление. – И очень, очень сложно. Мир вашему дому.
Они развернулись и ушли. Так же ровно, тихо, не оставляя следов на влажной земле. Яромир смотрел им вслед, и странное чувство, смесь досады и неуверенности, скребло его изнутри. Они унесли с собой какую-то невидимую победу. И он не понимал, в чём она заключалась.
Он собрал совет в главном доме. За большим столом Гордия сидели Рёрик (мрачный, смотревший в пустоту), Элиан (перебирающий чётки из навощённого шнура – новый нервный жест) и сам Гордий, который не сидел, а стоял у стены, скрестив руки, всем видом показывая, что у него есть дела поважнее. Ликино место у окна пустовало. Яромир почувствовал её отсутствие физически – как сквозняк в тёплой комнате.
– Они ушли, – начал он. – Но они оставили вопрос. Велегор знает о нас. И он не атакует. Он… предлагает альтернативу. Любопытную, опасную, но альтернативу.
– Альтернативу чему? – глухо прорычал Рёрик, не отрывая взгляда от столешницы. – Жизни? Ты хочешь сказать, что эта… эта стерильная тишина – альтернатива жизни?
– Альтернатива нашему пути, – поправил Яромир. – Он показывает своим последователям, что можно жить без боли. Это мощный соблазн, Рёрик. Особенно для тех, кто устал страдать.
– Это не жизнь! – Рёрик ударил кулаком по столу. Чашки подпрыгнули. – Это смерть при ходьбе! Ты видел их глаза? В них ничего нет! Ни злости, ни радости, ни… ни даже тупого упрямства! Как у скота, которого ведут на убой и который уже смирился!
– Они не выглядят несчастными, – холодно заметил Элиан. – Напротив. Они демонстрируют состояние, близкое к буддийскому нирване. Отсутствие страданий.
– Отсутствие всего! – взорвался Рёрик. – Я лучше буду страдать, чем превращусь в такого… такого гладкого червя!
Яромир поднял руку, призывая к тишине.
– Спорить о философии бесполезно. Факт в том, что они есть. И их метод работает для тех, кто выбирает его. Наша задача – не осуждать, а понять. Чтобы быть готовыми, если… если кто-то из наших тоже окажется перед таким выбором.
Дверь открылась без стука. Вошёл Ворон. Он был в дорожной пыли, лицо – замкнутая маска. Все повернулись к нему.
– Доклад, – сказал Ворон. Его голос был сухим, как осенний лист.
– Говори, – кивнул Яромир.
Ворон положил на стол свёрток – выцветшую, но прочную карту, на которую он нанёс свои пометки углём.
– «Приют» – основное поселение. Население растёт. Не за счёт рождаемости. За счёт прихода новых. Добровольного. Никаких следов принуждения, как я и говорил. Но есть закономерность. – Он ткнул пальцем в несколько точек на карте. – Они берут не всех. Отсеивают. Слишком ярых, слишком привязанных к земле, слишком… живых. Берут тех, кто уже сломлен. Кто устал. Кто ищет не смысла, а покоя.
– Что с теми, кого не берут? – спросил Элиан.
Ворон посмотрел на него своим бесстрастным взглядом.
– Они либо уходят. Либо… ломаются окончательно. И тогда их берут. Система эффективная. Идеологическая экспансия. Тихая.
– Военная угроза? – бросил Рёрик.
– Пока – нет. Зачем? – Ворон пожал плечами. – Зачем тратить силы на завоевание, если можно предложить то, чего люди хотят сами? Избавиться от боли. Их «армия» – это проповедники вроде тех двоих. Они не воюют. Они убеждают. И побеждают.
В комнате повисло тяжёлое молчание. Это была стратегия, против которой не работали ни стены, ни мечи. Против которой даже философия Яромира выглядела… сложной. Требовательной. Велегор предлагал простое решение: «Хочешь перестать страдать? Перестань чувствовать». И это срабатывало.
– Нам нужно больше информации, – наконец сказал Яромир. Его голос прозвучал решительно в этой тишине. – Нельзя бороться с тем, чего не понимаешь. Ворон, ты отправишься на север. Не для конфронтации. Для сбора сведений. Узнай всё, что можно о Велегоре, о его методах, о слабых местах его системы.
Ворон кивнул, без вопросов.
– А мы, – Яромир обвёл взглядом собравшихся, – подготовим Гавань. Не как крепость. Как… госпиталь. Убежище для тех, кто попробует путь Велегора и разочаруется. Для тех, кто захочет вернуть свои чувства, свою боль, свою жизнь. Мы будем готовы их принять. И лечить. Нашим методом.
Рёрик встал. Стул с грохотом упал на пол.