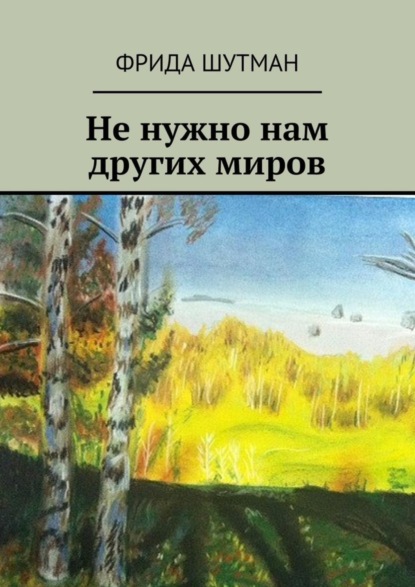Мечты о Вселенной. Русская фантастика

- -
- 100%
- +
Здесь мы приблизились к дому.
Фрагменты
IВ начале 4837 года, когда Петербург уже выстроили и перестали в нем чинить мостовую, дорожный гальваностат [14] быстро спустился к платформе высокой башни, находившейся над Гостиницей для прилетающих; почтальон проворно закинул несколько крюков к кольцам платформы, выдернул задвижную лестницу, и человек в широкой одежде из эластического стекла выскочил из гальваностата, проворно взбежал на платформу, дернул за шнурок, и платформа тихо опустилась в общую залу.
– Что у вас приготовлено к столу? – спросил путешественник, сбрасывая с себя стеклянную епанчу и поправляя свое полукафтанье из тонкого паутинного сукна.
– С кем имею честь говорить? – спросил учтиво трактирщик.
– Ординарный Историк при дворе американского поэта Орлия.
Трактирщик подошел к стене, на которой висели несколько прейскурантов под различными надписями: поэты, историки, музыканты, живописцы, и проч., и проч.
Один из таких прейскурантов был поднесен трактирщиком путешественнику.
– Это что значит? – спросил сей последний, прочитавши заглавие: «Прейскурант для Историков». – Да! я и забыл, что в вашем полушарии для каждого звания особый обед. Я слышал об этом – признайтесь, однако же; что это постановление у вас довольно странно.
– Судьба нашего отечества, – возразил, улыбаясь, трактирщик, – состоит, кажется, в том, что его никогда не будут понимать иностранцы. Я знаю, многие американцы смеялись над этим учреждением оттого только, что не хотели в него вникнуть. Подумайте немного, и вы тотчас увидите, что оно основано на правилах настоящей нравственной математики: прейскурант для каждого звания соображен с той степенью пользы, которую может оно принести человечеству.
Американец насмешливо улыбнулся:
– О! страна поэтов! у вас везде поэзия, даже в обеденном прейскуранте… Я, южный прозаик, спрошу у вас: что вы будете делать, если вам захочется блюдо, не находящееся в историческом прейскуранте?..
– Вы можете получить его, но только за деньги…
– Как, стало быть, все, что в этом прейскуранте?..
– Вы получаете даром… от вас потребуется в нашем крае только жизни и деятельности, сообразной с вашим званием – а правительство уже платит мне за каждого путешественника по установленной таксе.
– Это не совсем дурно, – заметил расчетливый американец, – мне подлинно неизвестно было это распоряжение – вот что значит не вылетать из своего полушария. Я не бывал дальше новой Голландии.
– А откуда вы сели? – смею спросить.
– С Магелланского пролива… но поговорим об обеде… дайте мне: хорошую порцию крахмального экстракта на спаржевой эссенции; порцию сгущенного азота a la’eur d’orange, ананасной эссенции и добрую бутылку углекислого газа с водородом. – Да после обеда нельзя ли мне иметь магнетическую ванну – я очень устал с дороги…
– До какой степени, до сомнамбулизма или менее?..
– Нет, простую магнетическую ванну для подкрепления сил…
– Сейчас будет готова.
Между тем к эластическому дивану на золотых жердях опустили с потолка опрятный стол из резного рубина, накрыли скатертью из эластического стекла; под рубиновыми колпаками поставили питательные эссенции, а кислоугольный газ – в рубиновых же бутылках с золотыми кранами, которые оканчивались длинною трубочкою.
Путешественник кушал за двоих – и попросил другую порцию азота. Когда он опорожнил бутылку углекислоты, то сделался говорливее.
– Превкусный азот! – сказал он трактирщику, – мне случалось только один раз есть такой в Мадагаскаре.
IIПока дядюшка занимался своими дипломатическими интригами, я успел здесь свести многие интересные знакомства. Я встретился у дядюшки с г. Хартиным, ординарным историк[ом] при первом здешнем поэте Орлие. (Это одно из почтеннейших званий в империи; должность историка приготовлять исторические материалы для поэтических соображений Поэта или производить новые исследования по его указаниям; его звание учреждено недавно, но уже принесло значительные услуги государству; исторические изыскания приобрели больше последовательности, а от сего пролили новый свет на многие темные пункты истории.)
Я, не теряя времени, попросил Хартина мне объяснить подробно, в чем состоит его должность, которая, как известно, принадлежит у русских к почетнейшим, – и о чем мы в Китае имели только поверхностное сведение; вот что он отвечал мне: «Вам, как человеку учившемуся, известно, сколько усилий употребляли знаменитые мужи для соединения всех наук в одну; особливо замечательны в сем отношении труды 3-го тысячелетия по Р. X. В глубочайшей древности встречаются жалобы на излишнее раздробление наук; десятки веков протекли, и все опыты соединить их оказались тщетными – ничто не помогло – ни упрощение метод, ни классификация знаний. Человек не мог выйти из сей ужасной дилеммы: или его знание было односторонне, или поверхностно. Чего не сделали труды ученых, то произошло естественно из гражданского устройства; [давнее] разделение общества на сословия Историков, Географов, Физиков, Поэтов – каждое из этих сословий действовало отдельно [или] – дало повод к счастливой мысли ныне царствующего у нас Государя, который сам принадлежит к числу первых поэтов нашего времени: он заметил, что в сем собрании ученых естественным образом одно сословие подчинилось другому, – он решился, следуя сему естественному указанию, соединить эти различные сословия не одною ученою, но и гражданскою связью; мысль, по-видимому, очень простая, но которая, как все простые и великие мысли, приходят в голову только великим людям. Может быть, при этом первом опыте некоторые сословия не так классифицированы – но этот недостаток легко исправится временем. Теперь к удостоенному звания поэта или философа определяется несколько ординарных историков, физиков, лингвистов и других ученых, которые обязаны действовать по указанию своего начальника или приготовлять для него материалы: каждый из историков имеет, в свою очередь, под своим ведением несколько хронологов, филологов-антиквариев, географов; физик – несколько химиков, …ологов, минерологов, так и далее. Минеролог и пр. имеет под своим ведением несколько металлургов и так далее до простых копистов […] испытателей, которые занимаются простыми грубыми опытами.
От такого распределения занятий все выигрывают: недостающее знание одному пополнится другим, какое-либо изыскание производится в одно время со всех различных сторон; поэт не отвлекается от своего вдохновения, философ от своего мышления – материальною работою. Вообще обществу это единство направления ученой деятельности принесло плоды неимоверные; явились открытия неожиданные, усовершенствования почти сверхъестественные – и сему, но единству в особенности, мы обязаны теми блистательными успехами, которые ознаменовали наше отечество в последние годы».
Я поблагодарил г. Хартина за его благосклонность и внутренне вздохнул, подумав, когда-то Китай достигнет до той степени, когда подобное устройство ученых занятий будет у нас возможно.
Заметки
Сочинитель романа The last man [15] так думал описать последнюю эпоху мира и описал только ту, которая чрез несколько лет после него началася. Это значит, что он чувствовал уже в себе те начала, которые должны были развиться не в нем, а в последовавших за ним людях. Вообще редкие могут найти выражение для отдаленного будущего, но я уверен, что всякий человек, который, освободив себя от всех предрассудков, от всех мнений, в его минуту господствующих, и отсекая все мысли и чувства, порождаемые в нем привычкою, воспитанием, обстоятельствами жизни, его собственными и чужими страстями, предастся инстинктуальному свободному влечению души своей, – тот в последовательном ряду своих мыслей найдет непременно те мысли и чувства, которые будут господствовать в близкую от него эпоху.
История природы есть каталог предметов, которые были и будут. История человечества есть каталог предметов, которые только были и никогда не возвратятся.
Первую надобно знать, чтобы составить общую науку предвидения, – вторую для того, чтобы не принять умершее за живое.
Аэростаты и их влияния
Довольно замечательно, что все так называемые житейские условия возможны лишь в определенном пространстве – и лишь на плоскости; так что все условия торговли, промышленности, местожительства и проч. будут совсем иные в пространстве; так что можно сказать, что продолжение условий нынешней жизни зависит от какого-нибудь колеса, над которым теперь трудится какой-нибудь неизвестный механик, – колеса, которое позволит управлять аэростатом. Любопытно знать, когда жизнь человечества будет в пространстве, какую форму получит торговля, браки, границы, домашняя жизнь, законодательство, преследование преступлений и проч. т. п. – словом, все общественное устройство? Замечательно и то, что аэростат, локомотивы, все роды машин, независимо от прямой пользы, ими приносимой в их осуществлении, действуют на просвещение людей самым своим происхождением, ибо, во 1-х, требуют от производителей и ремесленников приготовительных познаний, и, во 2-х, требуют такой гимнастики для разумения, каковой вовсе не нужно для лопаты или лома.
Зеленые люди на аэростате спустились в Лондон. Письма из Луны.
Нашли способ сообщения с Луною: она необитаема и служит только источником снабжения Земли разными житейскими потребностями, чем отвращается гибель, грозящая Земле по причине ее огромного народонаселения. Эти экспедиции чрезвычайно опасны, опаснее, нежели прежние экспедиции вокруг света; на эти экспедиции единственно употребляется войско. Путешественники берут с собой разные газы для составления воздуха, которого нет на Луне.
Эпоха 4000 лет после нас
Орлий, сын Орлия поэта, не может жениться на своей любезной, если не ознаменует своей жизни важным открытием в какой-либо отрасли познаний; он избирает историю – его археолог доставляет ему рукописи за 4000 лет, которые никто разобрать не может. Его комментарии на сии письма.
Петербургские письма
XIX век. Через 2000 лет. Сын поэта, чтобы удостоиться руки женщины, должен сделать какое-либо важное открытие в науках, как прежде ему должно было отличить себя на турнирах и битвах. В развалинах находят манускрипт – неизвестно к какому времени принадлежащий. Ординарный философ при поэте-отце отправляет его к ординарному археологу при поэте-сыне в другое полушарие чрез туннель, сделанный насквозь земного шара, дабы он разобрал ее, дабы восстановить прошедшее неизвестное время.
Сын находит, что по сему манускрипту можно заключить, что тогда Россия была только частию мира, а не обхватывала обоих полушарий. Что в это время люди употребляли для своих сношений письмо. Что в музыке учились играть, а не умели с первого раза читать ее.
Судии находят, что поэт не нашел истины и что все изъяснения его суть игра воображения; что хотя он и прочел несколько имен, но что это ничего не значит. Отчаяние молодого поэта. Он жалуется на свой век и пишет к своей любезной, что его не понимают, и спрашивает, хочет ли она любить его просто, как не поэта.
В Петербург[ских] письмах (чрез 2000 лет). Человечество достигает того сознания, что природный организм человека не способен к тем отправлениям, которых требует умственное развитие; что, словом, оказывается несостоятельность орудий человека в сравнении с тою целию, мысль о которой выработалась умственною деятельностию. Этою невозможностью достижения умственной цели, этою несоразмерностью человеческих средств с целию наводится на все человечество безнадежное уныние – человечество в своем общем составе занемогает предсмертною болезнию.
Там же: кочевая жизнь возникает в следующем виде – юноши и мужи живут на севере, а стариков и детей переселяют на юг.
Нельзя сомневаться, чтобы люди не нашли средства превращать или по крайней мере улучшать их. Может быть, огнедышащие горы в холодной Камчатке (на южной стороне этого полуострова) будут употреблены, как постоянные горны для нагревания сей страны.
Посредством различных химических соединений почвы найдено средство нагревать и расхоложать атмосферу, для отвращения ветров придуманы вентиляторы.
Петербург в разные часы дня.
Часы из запахов: час кактуса, час фиалки, резеды, жасмина, розы, гелиотропа, гвоздики, мускуса, ангелики, уксуса, эфира; у богатых расцветают самые цветы.
Усовершенствование френологии производит то, что лицемерие и притворство уничтожаются; всякий носит своя внутренняя в форме своей головы et les hommes le savent naturellement [16].
Увеличившееся чувство любви к человечеству достигает до того, что люди не могут видеть трагедий и удивляются, как мы могли любоваться видом нравственных несчастий, точно так же как мы не можем постигнуть удовольствия древних смотреть на гладиаторов.
Ныне – модная гимнастика состоит из аэростатики и животного магнетизма; в обществах взаимное магнетизирование делается обыкновенною забавою. Магнетическая симпатия и антипатия дают повод к порождению нового рода фешенебельности, и по мере того как государства слились в одно и то же, частные общества разделились более яркими чертами, производимыми этою внутреннею симпатиею или антипатиею, которая обнаруживается при магнетических действиях.
Удивляются, каким образом люди решились ездить в пароходах и в каретах – думают, что в них ездили только герои, и из сего выводят заключение, что люди сделались трусливее.
Изобретение книги, в которой посредством машины изменяются буквы в несколько книг.
Машины для романов и для отечеств[енной] драмы.
…Настанет время, когда книги будут писаться слогом телеграфических депешей; из этого обычая будут исключены разве только таблицы, карты и некоторые тезисы на листочках. Типографии будут употребляться лишь для газет и для визитных карточек; переписка заменится электрическим разговором; проживут еще романы, и то недолго – их заменит театр, учебные книги заменятся публичными лекциями. Новому труженику науки будет предстоять труд немалый: поутру облетать (тогда вместо извозчиков будут аэростаты) с десяток лекций, прочесть до двадцати газет и столько же книжек, написать на лету десяток страниц и по-настоящему поспеть в театр; но главное дело будет: отучить ум от усталости, приучить его переходить мгновенно от одного предмета к другому; изощрить его так, чтобы самая сложная операция была ему с первой минуты легкою; будет приискана математическая формула для того, чтобы в огромной книге нападать именно на ту страницу, которая нужна, и быстро расчислить, сколько затем страниц можно пропустить без изъяна.
Скажете: это мечта! ничего не бывало! за исключением аэростатов – все это воочью совершается: каждый из нас – такой труженик, и облегчительная формула для чтения найдена – спросите у кого угодно. Воля ваша. Non raultum sed multa [17] – без этого жизнь невозможна.
Сравнительную статистику России в 1900 году.
Шелковые ткани заменялись шелком из раковины.
Все наши книги или изъедены насекомыми, или истребились от хлора (которого состав тогда уже потерян) – в сев[ерном] климате еще более сохранилось книг.
Англичане продают свои острова с публичного торга, Россия покупает.
1835Константин Циолковский. На Луне
1Я проснулся и, лежа еще в постели, раздумывал о только что виденном мною сне: я видел себя купающимся, а так как была зима, то мне особенно казалось приятно помечтать о летнем купанье.
Пора вставать!
Потягиваюсь, приподнимаюсь… Как легко! Легко сидеть, легко стоять. Что это? Уж не продолжается ли сон? Я чувствую, что стою особенно легко, словно погруженный по шею в воду: ноги едва касаются пола.
Но где же вода? Не вижу. Махаю руками: не испытываю никакого сопротивления.
Не сплю ли я? Протираю глаза – все то же.
Странно!..
Однако надо же одеться!
Передвигаю стулья, отворяю шкафы, достаю платье, поднимаю разные вещи и – ничего не понимаю!
Разве увеличились мои силы?.. Почему все стало так воздушно? Почему я поднимаю такие предметы, которые прежде и сдвинуть не мог?
Нет! Это не мои ноги, не мои руки, не мое тело!
Те такие тяжелые и делают все с таким трудом…
Откуда мощь в руках и ногах?
Или, может быть, какая-нибудь сила тянет меня и все предметы вверх и облегчает тем мою работу? Но в таком случае как же она тащит сильно! Еще немного – и мне кажется: я увлечен буду к потолку.
Отчего это я не хожу, а прыгаю? Что-то тянет меня в сторону, противоположную тяжести, напрягает мускулы, заставляет делать скачок.
Не могу противиться искушению – прыгаю.
Мне показалось, что я довольно медленно поднялся и столь же медленно опустился.
Прыгаю сильнее и с порядочной высоты озираю комнату… Ай! Ушиб голову о потолок… Комнаты высокие… Не ожидал столкновения… Больше не буду таким неосторожным.
Крик, однако, разбудил моего друга: я вижу, как он заворочался и спустя немного вскочил с постели. Не стану описывать его изумления, подобного моему. Я увидел такое же зрелище, какое незаметно для себя несколько минут назад сам изображал собственной персоной. Мне доставляло большое удовольствие смотреть на вытаращенные глаза, смешные позы и неестественную живость движений моего друга; меня забавляли его странные восклицания, очень похожие на мои.
Дав истощиться запасу удивления моего приятеля-физика, я обратился к нему с просьбой разрешить мне вопрос: что такое случилось – увеличились ли наши силы или уменьшилась тяжесть?
И то и другое предположение были одинаково изумительны, но нет такой вещи, на которую человек, к ней привыкнув, не стал бы смотреть равнодушно. До этого мы еще не дошли с моим другом, но у нас уже зародилось желание постигнуть причины.
Мой друг, привыкший к анализу, скоро разобрался в массе явлений, ошеломивших и запутавших мой ум.
– По силомеру, или пружинным весам, – сказал он, – мы можем измерить нашу мускульную силу и узнать, увеличилась ли она или нет. Вот я упираюсь ногами в стену и тяну за нижний крюк силомера. Видишь – пять пудов: моя сила не увеличилась. Ты можешь проделать то же и также убедиться, что ты не стал богатырем вроде Ильи Муромца.
– Мудрено с тобой согласиться, – возразил я, – факты противоречат. Объясни, каким образом я поднимаю край этого книжного шкафа, в котором не менее пятидесяти пудов? Сначала я вообразил себе, что он пуст, но, отворив его, увидел, что ни одной книги не пропало… Объясни, кстати, и прыжок на пятиаршинную высоту!
– Ты поднимаешь большие грузы, прыгаешь высоко и чувствуешь себя легко не оттого, что у тебя силы стало больше – это предположение уже опровергнуто силомером, – а оттого, что тяжесть уменьшилась, в чем можешь убедиться посредством тех же пружинных весов. Мы даже узнаем, во сколько именно раз она уменьшилась…
С этими словами он поднял первую попавшуюся гирю, оказавшуюся 12-фунтовиком, и привесил ее к динамометру (силомеру).
– Смотри! – продолжал он, взглянув на показание весов. Двенадцатифунтовая гиря оказывается в два фунта. Значит, тяжесть ослабла в шесть раз.
Подумав, он прибавил:
– Точно такое же тяготение существует и на поверхности Луны, что там происходит от малого ее объема и малой плотности ее вещества.
– Уж не на Луне ли мы? – захохотал я.
– Если и на Луне, – смеялся физик, впадая в шутливый тон, – то беда в этом невелика, так как такое чудо, раз оно возможно, может повториться в обратном порядке, то есть мы опять возвратимся восвояси.
– Постой: довольно каламбурить… А что, если взвесить какой-нибудь предмет на обыкновенных рычажных весах! Заметно ли будет уменьшение тяжести?
– Нет, потому что взвешиваемый предмет уменьшается в весе во столько же раз, во сколько и гиря, положенная на другую чашку весов; так что равновесие не нарушается, несмотря на изменение тяжести.
– Да, понимаю!
Тем не менее я все-таки пробую сломать палку – в чаянии обнаружить прибавление силы, что мне, впрочем, не удается, хотя палка не толста и вчера еще хрустела у меня в руках.
– Этакий упрямец! Брось! – сказал мой друг-физик. – Подумай лучше о том, что теперь, вероятно, весь мир взволнован переменами…
– Ты прав, – ответил я, бросая палку, – я все забыл; забыл про существование человечества, с которым и мне, так же как и тебе, страстно хочется поделиться мыслями…
– Что-то стало с нашими друзьями?.. Не было ли и других переворотов?
Я открыл уже рот и отдернул занавеску (они все были опущены на ночь от лунного света, мешавшего нам спать), чтобы перемолвиться с соседом, но сейчас же поспешно отскочил. О ужас! Небо было чернее самых черных чернил!
Где же город? Где люди?
Это какая-то дикая, невообразимая, ярко освещенная солнцем местность!
Не перенеслись ли мы в самом деле на какую-нибудь пустынную планету?
Все это я только подумал – сказать же ничего не мог и только бессвязно мычал.
Приятель бросился было ко мне, предполагая, что мне дурно, но я указал ему на окно, и он сунулся туда и также онемел.
Если мы не упали в обморок, то единственно благодаря малой тяжести, препятствовавшей излишнему приливу крови к сердцу.
Мы оглянулись.
Окна были по-прежнему занавешены; того, что нас поражало, не было перед глазами; обыкновенный же вид комнаты и находившихся в ней хорошо знакомых предметов еще более нас успокоил.
Прижавшись с некоторой еще робостью друг к другу, мы сначала приподняли только край занавески, потом приподняли их все и, наконец, решились выйти из дому для наблюдения траурного неба и окрестностей.
Несмотря на то что мысли наши поглощены были предстоящей прогулкой, мы еще кое-что замечали. Так, когда мы шли по обширным и высоким комнатам, нам приходилось действовать своими грубыми мускулами крайне осторожно – в противном случае подошва скользила по полу бесполезно, что, однако, не угрожало падением, как это было бы на мокром снегу или на земном льду; тело же при этом значительно подпрыгивало. Когда мы хотели сразу привести себя в быстрое горизонтальное движение, то в первый момент надо было заметно наклоняться вперед, подобно тому как лошадь наклоняется, если ее заставляют сдвинуть телегу с непосильным грузом; но это только так казалось – на самом деле все движения наши были крайне легки… Спускаться с лестницы со ступеньки на ступеньку – как это скучно! Движение шагом – как это медленно! Скоро мы бросили все эти церемонии, пригодные для Земли и смешные здесь. Двигаться выучились вскачь; спускаться и подниматься стали через десять и более ступеней, как самые отчаянные школяры, а то иной раз прямо прыгали через всю лестницу или из окна. Одним словом, сила обстоятельств заставила нас превратиться в скачущих животных вроде кузнечиков или лягушек.
Итак, побегав по дому, мы выпрыгнули наружу и побежали вскачь по направлению к одной из ближайших гор.
Солнце было ослепительно и казалось синеватым. Закрыв глаза руками от Солнца и блиставших отраженным светом окрестностей, можно было видеть звезды и планеты, также большей частью синеватые. Ни те, ни другие не мерцали, что делало их похожими на вбитые в черный свод гвозди с серебряными головками.
А вон и месяц – последняя четверть! Ну, он не мог нас не удивить, так как поперечник его казался раза в три или четыре больше, нежели диаметр прежде виденного нами месяца. Да и блестел он ярче, чем днем на Земле, когда он представляется в виде белого облачка. Тишина… ясная погода… безоблачное небо… Не видно ни растений, ни животных… Пустыня с черным однообразным сводом и с синим Солнцем-мертвецом. Ни озера, ни реки и ни капли воды! Хоть бы горизонт белелся – это указывало бы на присутствие паров, но он так же черен, как и зенит!
Нет ветра, который шелестит травой и качает на Земле вершинами деревьев… Не слышно стрекотанья кузнечиков… Незаметно ни птиц, ни разноцветных бабочек! Одни горы и горы, страшные, высокие горы, вершины которых, однако, не блестят от снега. Нигде ни одной снежинки! Вон долины, равнины, плоскогорья… Сколько там навалено камней… Черные и белые, большие и малые, но все острые, блестящие, не закругленные, не смягченные волной, которой никогда здесь не было, которая не играла ими с веселым шумом, не трудилась над ними!
А вот место совсем гладкое, хоть и волнистое: не видно ни одного камешка, только черные трещины расползаются во все стороны, как змеи… Твердая почва – каменная… Нет мягкого чернозема; нет ни песка, ни глины.
Мрачная картина! Даже горы обнажены, бесстыдно раздеты, так как мы не видим на них легкой вуали – прозрачной синеватой дымки, которую накидывает на земные горы и отдаленные предметы воздух… Строгие, поразительно отчетливые ландшафты! А тени! О, какие темные! И какие резкие переходы от мрака к свету! Нет тех мягких переливов, к которым мы так привыкли и которые может дать только атмосфера. Даже Сахара – и та показалась бы раем в сравнении с тем, что мы видели тут. Мы жалели о ее скорпионах, о саранче, о вздымаемом сухим ветром раскаленном песке, не говоря уже об изредка встречаемой скудной растительности и финиковых рощах… Надо было думать о возвращении. Почва была холодна и дышала холодом, так что ноги зябли, но Солнце припекало. В общем, чувствовалось неприятное ощущение холода. Это было похоже на то, когда озябший человек греется перед пылающим камином и не может согреться, так как в комнате чересчур холодно: по его коже пробегают приятные струи тепла, не могущие превозмочь озноб.