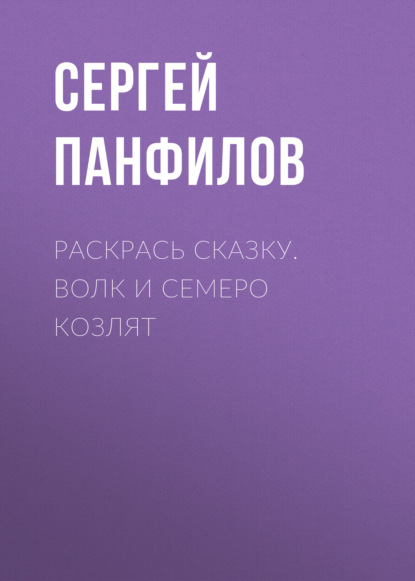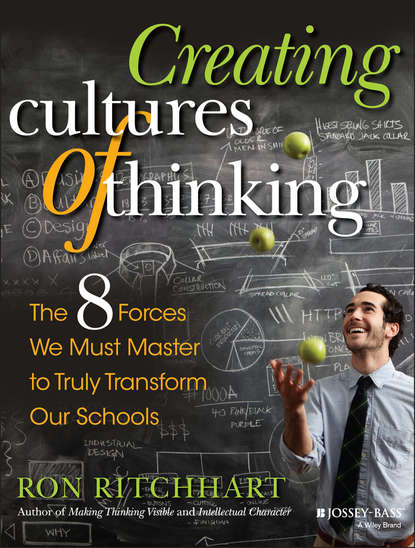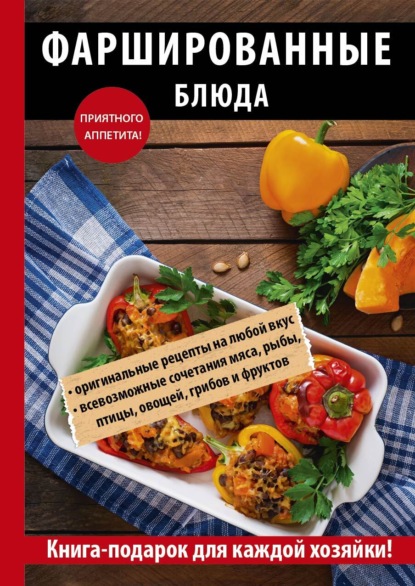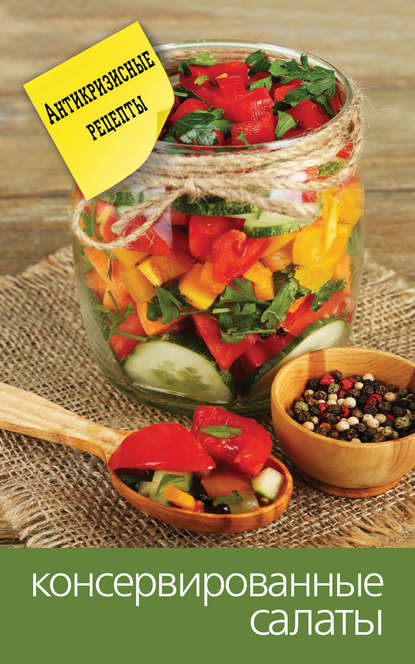Переделкино: поверх заборов

- -
- 100%
- +
В Киеве отец остановился в “Континентале”: “Я тут жил неделями раньше, писал сценарии, пил водку…”
Он не был военнообязанным.
После перенесенного в детстве полиомиелита он всегда потом заметно припадал на левую ногу, которую энергично и косолапо выбрасывал вперед, стараясь скрыть хромоту особенностью походки. Тем не менее хромой военный в уже охватываемом паникой Киеве вызывал подозрение – и его несколько раз забирали в комендатуру, принимая за диверсанта…
“Рано утром мы на машине уезжали на фронт. Я выносил из «Континенталя» свой рюкзак и шинель. В вестибюле уже было много народу, встревоженного бомбежкой. Парни, девушки. Девушки говорили нам: «Счастливо». Было стыдно. Они не знали, что мы только корреспонденты…”
И еще из записей, сделанных в марте сорок второго в Неглинном переулке.
“Мы оставляли всё новые и новые города. Во Львове стреляли в нашу армию. Большой наш танк шел по плацу Бернардинскому. В него стреляли из окон. И кто-то бросил гранату. Танк развернулся и врезался в дом. Я вспомнил, как жил в отеле «Жорж»…”
“На станции Жмук произошел конфликт между начальником станции и старшиной, которому было поручено доставить состав со снарядами. Начальник станции почему-то не давал паровоза. Старшина три раза просил его. Потом застрелил. Минут через пять он застрелил еще машиниста и его помощника. Пришел в путейскую бригаду и сказал: товарищи, у меня никакого выхода нету. Я только что застрелил начальника станции, машиниста и помощника и сейчас вас всех перестреляю, если вы мне не составите состав. Состав, наконец, прицепили. Старшина снял гимнастерку, окатил себя водой из-под рукава, которым заправляют паровозы, и поехал дальше…”
Встретив по прибытии на обратном пути в Киев Бориса Лапина и Захара Хацревина, которых ко времени записи на этих оставшихся чистыми с июня сорок первого года страницах бывшего бортжурнала уже не было в живых, отец вспомнил юношеские стихи “Бобика” Лапина: “Солдат, учись свой труп носить, / учись дышать в петле, / учись свой кофе кипятить / на узком фитиле”.
Отец, похоже, начинал догадываться о сложности этой науки.
Вдрызг разругался со спутниками – корреспондентами Яковом Цейтлиным, Григорием Певзнером и награжденным медалью за Хасан фотографом Виктором Тёминым. Они сердили его разговорами о возможной гибели.
Цейтлину и Певзнеру его гневные упреки могли показаться и опасной демагогией, уставным патриотизмом.
Они, возможно, действовали в интересах самообороны.
И, как сам отец признает, “не без ловкости отомстили”.
“Не их, а меня вызвали в Москву.
Я ехал в товарном вагоне с летчиками, потерявшими до боя материальную часть. Они ехали за новыми самолетами. И нас долго преследовали два «Дорнье». Они кидали бомбы в наш эшелон, но попасть не могли. На этот раз бомбежка уже не волновала меня.
Я сильно струсил только один раз. В Житомире. Впервые за пять суток я снял сапоги, разделся голый и сел бриться в отеле. Все курятники на Украине называются отелями. И это был типичный курятник, деревянный, шаткий, скрипучий.
Бомбы без предупреждения стали ложиться около меня, и меня посетила ужасная трясучка. Я хотел заскочить обратно в штаны, но не мог: тряслись коленки. Отказался от этого намерения. Понял, что выйти на улицу в таком трясучем виде нельзя, скажут, что же у вас уж и Красная армия трусит (я был в военном). Заставил себя успокоиться.
После этого в Тернополе, когда бомбили куда страшнее, никакой трясучки не было. Было просто унизительно страшно. А потом и страх прошел. Осталось только чувство, которое, наверное, никогда не пройдет и повторялось уже и будет повторяться при каждой бомбежке, человеку тяжело думать, что он беззащитен.
В эшелоне это чувство, по-моему, особенно остро испытывали летчики. Их пугали бомбежкой, а они ничего не могли: у них не на чем было воевать. Они хмуро молчали. А один самый молодой младший лейтенант, посмотрев в открытую дверь на небо, крикнул: «Я хочу увидеть тебя, <…> твою мать, когда полечу обратно на МиГе», – и заплакал. Плачущего этого летчика я не забуду никогда”.
В пропотевшем, запыленном обмундировании отец вернулся жарким днем в Переделкино, показавшееся ему “потрясенным слухами”.
Он был здесь, в сущности, первым, кто видел войну. И после завтрака с вином на даче стал собираться народ.
Отец рассказывал, успокаивал.
Когда все, кроме Погодина, разошлись, Николай Фёдорович сказал: “Ну, Паша, все ушли. Расскажи теперь правду. Бьет нас немец? Бежим?” – “Бежим”, – подтвердил отец. Но ничего особенно “правдивого” рассказать не мог.
“Я говорил только то, во что верил тогда. Я говорил, что резервы наши в бой еще не вошли… Я верил в это и рассказывал, что армия наша все-таки и сейчас сильно бьет немца, хотя ей трудно… Все это я потом рассказывал Чуковскому Корнею, Борису Пастернаку и другим. В воскресенье мы лежали с Афиногеновым на задах его дачи, около ручейка, в зеленой траве, и ему я тоже рассказал…” (Через много лет опубликованы были дневники Афиногенова. И есть в них запись: “Приехал Нилин. Рассказывал о героизме наших солдат”.)
Лирические вечера в Переделкине прекратились. Последний был, кажется, накануне бомбежки.
11Луков со своей съемочной группой собирался в Ташкент – кинематографистам дали вагон.
“Я решил, – вспоминает отец, – ехать, чтобы написать там сценарий. И, главное, увезти семью. Впервые инстинкт отцовства заговорил во мне. Было страшно думать, что Сашу каждую ночь придется таскать в сырую щель на даче Петрова.
Среди ночи во время бомбежки он вдруг проснулся и хохотал беззаботно. Веселила его свечка, горевшая в щели.
А папе было страшно за него, хотя сама по себе бомбежка уже не казалась страшной”.
Велик соблазн соврать, что я хоть какие-то детали этого путешествия запомнил. Однажды я так и поступил, когда на рубеже шестидесятых годов встретился в ресторане Дома актера с Петром Алейниковым – Ваней Курским из “Большой жизни”.
Мы расцеловались. Начались прилюдные воспоминания о “военной дороге”.
И мне уже казалось, что я всё и всех из того времени помню.
При слове “эвакуация” я теперь, отвыкающий врать, немедленно представляю себе великого и угасающего Алейникова за ресторанным столиком…
Конечно, кое-что вообразить себе могу, поскольку некоторых из пассажиров я узнал позднее и в жизнь мою они вошли…
Кинематографистам разрешалось взять с собою близких родственников.
И мы везли с собою обеих бабушек. Отец поэтому спал в тамбуре на бурках из кинофильма “Александр Пархоменко”.
Ночью он заходил в вагон – посмотреть, как я сплю:
“После барской пищи на даче, после всяких соков и каш Сашу теперь кормят чем придется, а он такой же крепкий, сильный, мой сын. Мать не закрывала на ночь окно, потому что в вагоне было смертельно душно. На ночь окно прикрывалось только простыней, и холодный ветер раздувал ее. А Саша спокойно спал, по-стариковски кряхтя во сне, будущий солдат наш. Днем я выносил его при остановках на перрон. Он самостоятельно еще не ходит. Но когда я держал его за руку, он рвался вперед, бежал, и на первых его сандалиях собиралась пыль многих перронов Средней Азии…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.