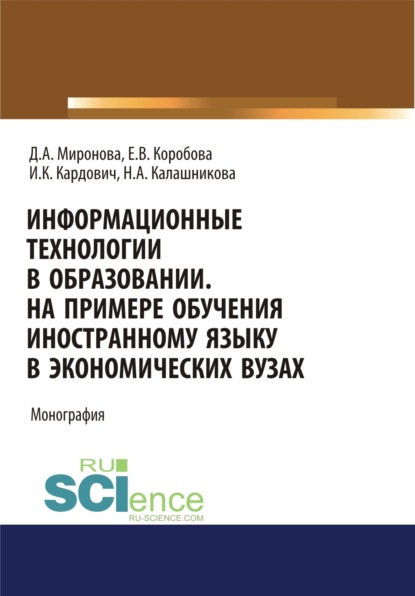- -
- 100%
- +
Сейчас я вижу объяснение и этому. Лысенко ведь проник в мой блок ценностей действует там, подтачивает изнутри оборону крепости и поэтому он силён.
Обед. Горох-суп.
После обеда подучиваем Ленина, идём на зачет. Принимают ЮГ и Вавилов. Я хочу попасть к ЮГ, но волею обстоятельств одним из последних попадаю к Вавилову. Тот задаёт два вопроса, я отвечаю. Выйдя из класса, понимаю, что отвечал совершенно неправильно, не по сути дела. Однако, кажется зачтено. Я сказал, что прочёл 9 произведений. Хотя, конечно, наберётся разных «мелочишек» как говорят наши. История с комсомольским значком. Я на стал надевать значок, раз не ношу его в обычное время. Что это? Я не мог бы поступить иначе. Это тоже было убеждением – что надо всегда быть самим собой, одинаковым. Максимов дома отвратителен, а перед товарищами преподавателями «умно елозит». Это донельзя противно.
Зачёт по математическому анализу. Я мгновенно всё решаю, доказываю. Но долго, долго приходится ждать Ивана Трифоновича. Я застреваю на последней задаче, которую решил оригинальным путём, а Иван Трифонович требует тривиального.
Я свободен. Прихожу в класс, там девочка Шевцова, которая, как мне всё время кажется, влюблена в меня (впрочем, то же мне кажется и относительно других девочек). Мне думается: «Девочка, неужели тебе интересно находить плотность шарика, погружённого в жидкость вязкостью и плотностью…?»
Я спокоен и радостен. Нет и тени чёрных мыслей. Физтех смешон. (Я как-то даже думал: ведь там учатся остолопы, что же мне ещё там надо? Но так нехорошо. Им может быть интересно, а это главное. И они не всегда остолопы.)
Прихожу домой в половине одиннадцатого. Приехал с лазеров Юрка. Рассказывает о Басове: «Огромный мужик». Лазерные телевизоры, термоядерные реакции. Это в самом деле интересно, вот в чём дело. Что ж, время не такое уж и неплохое со всей его несвободой. Так до 11 проходит время, и укладываюсь в постель. Но заснуть сразу не удается.
Кстати, я думаю, что мой образ жизни переменился. Теперь я ложусь в 11. Раньше это бывало иногда и то укладываясь рано, я ложился скорее из-за желания послушать болтовню ребят и ляпнуть что-нибудь самому. Теперь я ложусь в 11, наглухо отворачиваюсь к стене и блаженно засыпаю.
Двадцать первое апреля. Среда.
С Шуриком идём вниз, он утягивает меня в столовую, едим вермишель с сосисками. Шурик расправляется с ними в один момент, я поражён и восхищён. Он уходит, я медленно жую свою порцию.
Биология. Шурик занял плохие места, без парт. Тетрадь приходится держать на коленях. Биологичка рассказывает о селекции. Рядом с нами девочка, я вижу, что ей холодно. Прошу Юрку закрыть окно. Не хочет. Надо бы закрыть, но я не делаю этого, потому что какое-то мелочное и уродливое представление о достоинстве сидит во мне. Думаю о том, что делаю нехорошо, но во мне кроме того появляется и равнодушие. Впрочем, нет. Я терзаюсь, но не закрываю окно. Что за идиот?
Литература. Приходит Лысенко. «Готовы к сочинению? Пишите.» «Матанализ вам до лампочки, я же знаю.» Уходит, мы с Золотовицким идём в аквариум, внезапно он вдруг заходит в девятый класс. Там Лысенко, а на светильнике сидит жёлто-зеленый попугай. Говорим о нём, я предполагаю, что он никогда не будет говорить. Лысенко: «У моих знакомых есть такой же попугай, волнистый.» Лысенко подражает ему просто потрясающе: «Хочу пива. Пиво стоит двадцать копеек.» Золотовицкий кормит попугая хлебом.
Математика. Иван Трифонович вчера подстригся. Он в самом деле неплохой человек, добрый. Дает двадцать задач для решения. О-ля-ля.
Обед. Какая-то неудобоваримая хреновина.
Прихожу в комнату. Живот болит. А надо сходить за деньгами. (Вчера получил телеграфное извещение о 15 рублях из Сыктывкара).
Но тут на меня набрасываются ребята, я объясняю теоремы. Приходит Вова Сумкин, и тут начинается такое… Сумкин что-то бормочет, выкрикивает и лезет ко мне с опровержением доказательства эквивалентности. Совершенно невразумительно. Что делать? Не могу же я уйти. Макс, Шурик и Саб так и смеются, говоря: «Уходи скорее, уноси ноги». Сумкин выдаёт изречения типа: «Тут бесконечность, а бесконечность это такое дело». Максимов сражён наповал этими изречениями: «Вовочка, выйди вон». Сумкин, конечно, ненормален, что тут скажешь? Я объясняю всем доказательство и улепётываю, взяв плащ.
Облака, но тепло, ветер. Волосы приятно развеваются. Поднимаюсь получаю свои 15 рублей.
Возвратившись, застаю Сумкина и Саблева. Сумкин за старое. «Доказательство неверное!» Бесится, возбуждён, кричит. Я, понятно, отвергаю всё, и он вдруг в сердцах протяжно испускает: «Блядь!» Мы с Юркой хохочем. Сумкин, Сумкин! Он говорит, сверкая глазами, я быстро произношу: «Ты только мне ручкой в глаз не ткни». Наконец я понимаю, где его ошибка, и спор закончен. Теперь кидается восхвалять решение. «А, ну вот, теперь ясно, а то… А теперь всё отлично».
Сейчас я подумал, трудно описать человека. Попробуй я Сумкина изобразить в книге, это будет очень трудно. Или того же Максимова. Я сейчас мысленно попытался, и получилось совсем не то. Человека раскрывать нужно очень долго и в мельчайших подробностях его жизни.
Когда я возвращался с почты, то взглянул на интернат и поразился. Три небольшие коробки, в которых ухитряются безвыходно жить 300 человек. Теперь и я в одном из отсеков этих коробочек.
Идем с Саблевым вниз, заходим в английский кабинет. Там Лысенко и Гусак играют в поддавки. Гусак проиграл. Я играю с Лысенко в шахматы. Мы оба ужасные игроки, весы качаются с огромной амплитудой, но я в конце зеваю так, что дальше уж некуда, и перещеголять меня невозможно. Поднимаю руки.
После ужина пишу, к 11 всё написано. Сначала мне нравилось, потом чувствовал отвращение к написанному, затем снова загорелся, и наконец совсем уж возненавидел. Почему так ужасно получается? Сухо, противно, безлично.
После 11 с Юркой прячемся по разным закоулкам, за дверьми, в каморке, затем до 2 часов ночи пишем – Юрка пишет о совести, основываясь на стремлении к равновесию. Когда я начинаю говорить, излагая свою аналогию законов Ньютона и жизни, он сияет.
Вспомнил, как остолопы с нашего этажа устроили бокс. Вот двое смеются, надевают перчатки и начинают. В глазах их уже злоба, лица перекошены, и они жестоко бьют друг друга, желая, по-видимому, убить. Время от времени они только они только скривятся в жалком подобии улыбки: вот мол, спортивная честная мужественная борьба, и я очень мужественен, и вот улыбаюсь своему противнику; они дружески хлопают друг друга по плечу, но вот нанесён первый жестокий удар, морда ударенного становится зверской и злобной, и он, чуть не плача, налетает на противника и изо всей бьёт, промахивается, вкладывая в удары всю ярость. А вокруг стоят остолопы и жадно, с улыбками понимающими, потом будут ещё и подкалывать: «Что, Лёня, видели мы, как ты перекорёжился». А Лёня будет говорить: «Да что я, я ничего, это он разошёлся и очковал, и корёжился». Мне стало невыносимо противно, и я ушёл побыстрее.
Почему же им так приятно смотреть, как двое ненавидят и бьют друг друга?
С Юркой сидим до двух ночи, почти заканчиваю, уходим. На этаже страшно. Плюхаюсь и засыпаю.
Двадцать второе апреля. Четверг.
После обеда начинаю собираться к отъезду, необходимо купить билет на самолёт. В 15:30 общешкольное комсомольское собрание, но это меня нисколько не волнует. Я не задумываюсь о «долге». Я беру свои 14 рублей и прихожу на остановку 77 автобуса (т.е. на ту остановку, где он останавливался раньше, но я этого не знаю).
Долго жду. Внезапно приходит № 16. Начинается «настойчиада». Антон Настойч, изображенный Робертом Шекли! Сегодня я побывал в твоей шкуре.
Я рассеянно смотрю на автобус, вдруг замечаю на его доске с надписями: «Метро Кунцевская». Я прыгаю в автобус, двери закрываются, и мне зажимает ногу и руки. Шофёр открывает дверь, я, смущённый захожу и отрываю билет. Еду и вдруг понимаю, что автобус мог оставить остановку метро уже позади. Мы едем в глушь, вряд ли там есть станция. На следующей остановке слезаю и делаю вид, что иду вглубь посёлка (надо показать, что всё в порядке). Как только автобус отъезжает, возвращаюсь на остановку. Подъезжает 104. Я уже порядком смущён таким началом и думаю: «Теперь мне должно крупно повезти, либо неприятности потянутся чередой». В сердце возникает боль. Так. Давненько не было этого, с самых каникул. Невозможно дышать полной грудью. Я как-то съёживаюсь и делаю мелкие-мелкие вдохи. Проезжаем интернат, едем довольно долго, сердце не отпускает. За окном – дождь. Внезапно понимаю, что забыл квитанции на костюм. Это меня уже не удивляет, только ещё больше пригибает. Нечто вроде испуга: что это со мной? В восприятие врываются настороженность и какая-то придавленность. Я уверовал в свою несчастную звезду и спокойно проклинаю всё на свете. Слезаю на какой-то развилке, в лесу. Осматриваюсь. Через широкую дорогу – наземный переход. Я вижу на той стороне остановку «А». Долго пережидаю машины, перехожу, но в голове остаётся подозрение: что-то это не та дорога, не ведёт обратно. Подходя к «А», замечаю вдали остановку «Б». Так и есть! Опять невезение. Как я не заметил «Б»? Перехожу дорогу, иду к «Б», оказывается, что на этой остановке нет нужных мне номеров. Господи! Я же был рядом с «А», надо было посмотреть номера проходящих автобусов! Возвращаюсь, перехожу дорогу в третий раз, машины идут потоком, я удивляюсь, что ещё не раздавлен. Но и тут из под моего носа уходит 77, и я сажусь в 157. Покупаю третий билет. Иду к интернату, сердце болит, я совершенно потрясён происходящим. Мироощущение ужасное. Подхожу к интернату в 15:30. Опасно! Могут поймать. Придётся действовать по индейски. Вхожу, пробегаю в комнату, никто не останавливает. Беру квитанции, благополучно миную холл и выхожу на улицу. Облегченно вздыхаю: «Всё. Теперь надо сбросить с себя это наваждение. И всё будет отлично.» Тут понимаю, что забыл паспорт и справку от школы. Надо бы радоваться, что вспомнил не у кассы, но я снова брошен в ад! Возвращаюсь, беру паспорт и выхожу снова мимо толпящихся преподавателей, когда у меня замирает сердце. На улице сталкиваюсь с директором и Гусаком. Они не обращают на меня внимания, а я уже считал себя погибшим.
Иду к автобусу, и вдруг меня словно бьет током. Боже мой!!! 22 апреля! Комсомольское собрание, а я еду за каким-то костюмом. Я убит наповал. Тут уж настроение такое, что хоть вешайся. Я медленно иду к остановке, часто оглядываясь на интернат. Внезапно сердце перестаёт болеть. «Спасибо, сердце, хоть ты со мной». Я испугался и боли в связи с таким днём, всё было в чёрных тонах, я уже видел себя умирающим от инфаркта. Воображение подбросило картину смерти от боли. Пугался также неизбежного склероза. Еду, и меня гложут «угрызения совести» – да, она всё-таки есть! Я мучительно переживаю свой поступок. Вот о чём говорил Лысенко – личная стратегия лжи и изворачивания. «Разумные» мысли отвергаются. Я жажду покарания! В то же время что-то против этого. Сцены: изгнание из комсомола. Я веду себя по-разному. Первый вариант: я разражаюсь речью о падении всего комсомола, не искренней, ибо я так сейчас не думаю, а как-то просто ради самоутверждения, и это катастрофа, потому что я говорю не искренне. Второй вариант: я рассказываю об этом поступке и говорю: «Я сам себя уже достаточно покарал, покарайте меня». Этот вариант фальшив. Всё, что я пытаюсь говорить, всё что-то не то. Я не понимаю, что творится во мне, я не понимаю себя: кто я? Дрянное создание с сухой логикой? Я плох до мозга костей, я понял – я плохой человек! Так утверждает всё во мне, и что, и что-то одно только сопротивляется, так что я не могу считать верным и это. Все версии неправомерны, неправильны, все слова – фальшь, я не понимаю себя!!! Ни одно оправдание и ни одно обвинение неверны! Я потрясён, измучен и начинаю гнать всё это прочь, отталкивать, ибо это какое-то страшное завихрение, так человек не может – оказаться в полном тупике, повиснуть в воздухе. Всё.
Я еду в метро и не могу смотреть никуда, всё это не для меня, я… чудовище! Непонятное и плохое чудовище, плохое из-за непонятности, во-первых, и во-вторых, потому что плохое.
Иду к трансагенству и благополучно покупаю билет. Даже не вспомнил такую дорогую мне сцену: в трансагентстве перед зимними каникулами. (Всё забыто!)
До 20 часов ещё уйма времени, и я иду в Дом книги, и покупаю «Лекции по истории КПСС» и «Моделирование психических процессов». Опять же, на эти две книги пошло четыре чека, и я перед глазами публики имел неприятнейший для моей мнительности разговор с кассиршей. Вконец этим снова испуганный и потерявший веру в себя, ухожу и еду на «Проспект Маркса». Прихожу к ателье и вижу: окна закрыты и висит табличка – до 18 часов. Боже, ещё одно! И тут мне везёт (относительно), я случайно дёргаю дверь, она открыта.
Захожу, входит тётя, я примеряю брюки, и обещают пиджак сделать к завтра.
Опять зашёл в книжный, и там долго думаю над покупкой книги «Психология и кибернетика» Пушкина. Не беру. «Я не читаю эти книги, зачем же покупаю?» Жалко денег, потому что они не мои. Если бы я мог распоряжаться ими совершенно свободно!
(В Доме книги посмотрел ужасную книгу «Психиатрия», которая привела меня в полуобморочное состояние. Сифилис мозга – бррр! Вдруг я попаду в это, мне ведь нужно совершенно другое! Да и вообще, нужно ли что-нибудь мне?! Я чувствую нежелание и бессилие заниматься чем угодно и даже нечто вроде отвращения к мыслительным процессам.)
Меня истощила, по-видимому, цепь событий. Однако к интернату подъезжаю немного в лучшем состоянии. Мозг, по-видимому, не может долго находиться в таком состоянии, действуют какие-то защитные механизмы. Когда иду на ужин, знакомая атмосфера совсем успокаивает меня. Ужинаем, я говорю с Алюшиным и ругаю себя, он говорит, что собрание – это ерунда, и мне, хоть я и не принимаю это, становится легче.
(Я всю дорогу искал «соучастников преступления», я жаждал знать, что хотя бы один человек из рядом находившихся, хотя бы один раз в жизни тоже свершал плохой поступок. Я чувствовал, что тогда мне было бы легче).
Иду домой, как будто бы всё в порядке, светопреставления нет, и я удивляюсь (не мысленно, а подспудно, чувственно), что всё по-прежнему, что я не отвергнут как-то всем этим. И во мне сидит ощущение, что я каким-то образом уже должен быть отделен от этого, что всё должно измениться неузнаваемо (не внешне, а вообще, не знаю как, но измениться) и эта прежнесть сначала больно бьёт меня по нервам, а затем я как-то вливаюсь в привычное русло.
Идём на дежурство. ЮГ говорит о дежурстве, раздаёт фотографии. Сумкин уголовник. Все остальные получились хорошо. Все красивее, чем на самом деле. Я подчищен, сам не знаю, почему, прыща вроде у меня было. Но фотография ничего.
Когда подходил к интернату, взглянул на светящиеся окна, у вдруг как-бы увидел в черноте ночи эти три окна и себя сидящим над книгой, свой силуэт в этих окнах в два часа ночи и стало почему-то очень грустно.
Юрка взял второе место за сочинение. Я получил похвальный отзыв на олимпиаде физфака.
В этот день я лёг рано. Конь (Золотовицкий) мастерски придушивал нас, придумал новое развлечение. Мельтеша в темноте холодными прямыми руками, трясясь и повизгивая, он начинает хватать за шею. Мне это неприятно и довольно страшно в темноте. Коле дьявольски нравится, он просит: «Придуши», и хохочет. Я отворачиваюсь к стене, подталкиваю одеяло со всех сторон и схватываю его у шеи руками (чтобы Конь не залез), притворяюсь спящим. Конь гуманен. Так я и засыпаю.
Двадцать третье апреля. Пятница.
История. 2 урока. Полнейший срыв. Пуцато: «Кто не сделал конспекта речи Косыгина на XXIII съезде?». Лес рук. Лицо Пуцато становится словно маска, и он спокойно-спокойно говорит: «Так. Мне это надоело». Берёт журнал и поимённо спрашивает всех. Козич один не получает 2, феномен! Пуцато, видимо сильно переживает. Лицо мрачное. Я сопереживаю. Пуцато начинает нас ругать. Но такой уж он человек, скоро всё это переходит в довольно игривый разговор с несколькими личностями. Всем всё ясно – Пуцато тоже виноват в наших «успехах» в истории. Он, по-видимому, искренне считает, что виноваты только мы. Грозит наказать одного-двух человек, не допустить до экзаменов. Дима делает меланхолически глупую морду и говорит: «Ну и что, зачем это? Испортите жизнь человеку». Пуцато принимается разглагольствовать: «Надо раз стегануть, тогда будет помнить» и т.п. в этом духе. Пуцато уж вообще нетактично и ставя себя в дурацкое положение говорит только о нашей виновности. Тем не менее под конец разговор приятен, мне жаль Пуцато; что он теперь будет делать с этими колонками двоек, ведь это явное свидетельство против него! Я всё время ощущал… стыд?.. тревогу?.. Некое абстрактное отрицательное чувство, которому нет названия. И стыд, и тревогу за будущее, и спокойное отчаяние от полного незнания истории. Для этих ребят всё не так уж и плохо: подумаешь, история! А бы 3! Так проходят все 2 урока. (Да, Пуцато ещё восхвалял Грибко.) Под конец Пуцато говорит: зачёты такого-то числа. В самом конце Пуцато радует нас вестью: сегодня пойдём в детсад, шефствовать. Грядки сажать. Боже ты мой! А ателье?
Математика. 4 урока. Пишем контрольную, три задачи решаю быстро, на задаче по стереометрии застреваю, и думаю над ней, в отчаянии ломая руки, полтора часа. Но нет. Мозг застопорен проклятой неуверенностью, я так и ухожу на обед. После этой контрольной настроение совсем упало: вполне могу завалить даже математику на психофаке, э это основной мой козырь.
После обеда одеваю куртку и свитер, иду в холл. Там ЮГ и Пуцато. Я немного запоздало здороваюсь с ЮГ, она говорит: «Хорошо хоть один поздоровался», губы дрожат.
Выходим во двор. ЮГ: «Зачем ты это придумал? Погода ужасная». Пуцато: «Я что ли? Трифоныч». Он в зелёном плаще и шляпе, смешной. Идем к остановке 77. Снег падает мелкими хлопьями. Куртка без замка развевается на мне. Сзади идёт красивая девочка. Залезаем в автобус, Пуцато отрывает 4 билета. Нас человек 15.
Едем вниз по улице, мимо панельных домов. Обгоняем группу, предводительствуемую Грибко. Кривляемся из окон. Детсад. Идём мимо забора, входим в калитку. У главного входа очень здорово, красивая площадка. Греемся в холле со стеклянной стеной, Харламов «бьёт» Сумкина. Тот отмахивается. Идем к сараю, берем лопаты и вдоль забора – пошёл! Обрабатываем деревья. Земля мягкая, я старательно сооружаю вокруг каждого дерева нечто вроде клумбы. Я разогреваюсь, устаю. Половина четвёртого. Всё чаще останавливаюсь, потягиваюсь. Возникла мысль: «Все люди рождаются, чтобы быть высшими существами, каждый – потенциальный интеллектуал. У одних развита приспособляемость, у других нет. Первые становятся «практичными людьми», «хозяевами». У вторых два пути – гибель либо гений». Копаю и копаю. Васильев и Ко курят за сарайчиком. Качаются на качелях. Здесь полно аттракционов. Мне думается: «Вам здесь хорошо, маленькие ребятки. И будет всё лучше и лучше». Ищу Колёсина (договорились уйти с ним). Нахожу, он обделывает землёй цветочную клумбу. Относим лопаты к сарайчику, Пуцато к нашему удивлению легко отпускает нас. Автобуса не ждем, топаем мимо длинного и высокого доскоподобного дома. 10 этажей! Красивое здание. Стоит накрытый брезентом безкапотный москвич. Догоняем автобус и прыгаем в него. Михеев с отмороженным ухом не прыгает.
Собираюсь ехать за костюмом. Я в пальто, холод мне не страшен. Автобус 157, Кутузка, метро, улица Горького, ателье. Закройщик выносит костюм, который мне очень нравится. Захожу в книжный магазин покупаю «Русскую речь». Съедаю пломбир, в метро ещё один пломбир, размякший.
Перед сном я лёжа читаю Беляева «Над бездной». Выключается и включается свет, и я читаю Стругацких «Пришельцы».
Андрей, бросив мячом, сделал аккуратную трещину на стекле.
Двадцать четвёртое апреля. Суббота.
День отъезда на каникулы.
С утра начинается побоище подушками. Юрка уже разобрал свою постель, его подушка и постель оголены. Подушки летают, большинство попадают на Колю и Шурика. Первый ворчит, второй отбивается.
Литература. Лысенко просит сдать сочинения и со вздохом опускается, когда ему отвечает дружное молчание. Он говорит: сдавайте тетради. Многие идут за тетрадями, я за сочинением. Тетрадь не сдам, она мне нужна.
Лысенко выбирает наугад и читает отрывки из тетради Шишкова, мы хохочем до упаду. Начинает проверять Колину тетрадь. Коля: «Что, набредил я?». Лысенко: «Продолжайте так бредить, может получится что-нибудь оригинальное. Интересный взгляд на вещи. Интуитивный, но всё же. Мне надо посмотреть ваше сочинение.» Коля развалился и сияет интеллектуальной улыбкой, посмеивается. Звонок. Я сдаю сочинение. Меня всё ещё не оставила зависть и удивление. «О чём ты там писал?» Но Коля ведет себя нехорошо, доволен, и пытается самоуничтожиться. «Старая идея на новый лад. В мире нет насилия». Макс: «Что такое насилие?» Вот отлично, молодец Макс! Но мне некогда, ухожу.
Итак, сначала зависть и удивление: как же так, этот… (ну скажем, дурак) что-то интересное написал, и даже интересное для Лысенко. Но постепенно что-то во мне всё переворачивает вверх ногами: я даже рад. Ну если Коля пишет что-то интересное для Лысенко, тогда уж я напишу ого-го!
Иду домой, тут вспоминаю. «Это не про то ли, что животные не уничтожают друг друга? Тогда это несусветный болванизм. В самом деле, нет нигде никакого насилия, нет нигде табуретов, есть только существование материи, а мы наклеиваем на явления ярлычки и вкладываем в эти ярлычки определённый смысл. И если есть ярлык «насилие», то есть и его смысл, так что всё это ерунда на постном масле.»
Дома собираюсь, долго не могу решить, брать костюм или нет, а время идёт, я злюсь. Наконец решаю не брать. Одеваюсь, иду вниз. В холле за столом завуч. «Куда?» «Домой». «Почему?» «Рейс». «А завтра?» Молчание. «Выговор обеспечен.» «Хорошо.» «Хорошо?!» Записывает. «До свидания.» Ни звука в ответ, возмущенная физиономия.
Господи! Выговорами пугать вздумали. Как будто без ваших мелочных дел… (тут явно не то начало).
Я выхожу на воздух, и нет во мне ни грамма радости, а наоборот тяжесть какая-то на душе. Как же так? Словно и не в Сыктывкар, а на каторгу. Почему такое ужасное мироощущение? И вдруг, молнией: «Я одинок! Я одинок, одинок и всегда был и буду одинок.» Я в тоске оглядываюсь, гляжу на интернат, в глазах слёзы. «Когда же началась полоса этого одиночества?» «Целая страна для меня пустыня». «Я всегда был одинок, и потому с такой болью и жалостью к себе прошлому вспоминаю нём. В настоящем легче выдерживать это одиночество, когда же смотришь назад, становится невыносимо тоскливо». «И все, может, также одиноки, только некоторые (большинство) не замечают этого, потому что не осознают себя.» Какое тяжёлое чувство!
Автобус. Я долго с пересадками еду, наконец, станция метро «Аэропорт». Сколько с ней связано хороших воспоминаний! Значит, была она, радость, стремление домой? Но и тогда я почему-то побаивался дома, и сейчас побаиваюсь Сыктывкара.
Мне повезло. Сажусь в автобус, и через пять минут он отправляется. Едем по Москве, внезапно начинается ужас. Входят женщины, и я оказываюсь в ужасном положении. Надо встать, потому что пассажир справа своими ногами всё загородил, и я не могу встать, не перелезая через его ноги. Я мысленно проклинаю его, но он не встаёт, и я всю дорогу чувствую отвратительно. Тут же думаю: «Почему это, почему принято уступать женщинам место, почему я не остаюсь в полном спокойствии?» Почему я не могу перелезть через ноги этого субъекта?
В Домодедово сдаю багаж, покупаю «Знание – сила», «Правду», мороженное за 28 копеек. Затем записную книжку, набор авторучек для Таньки. Временами накатывают краткие волны радости и предвкушения. Посадка 1279. Идем к самолёту, и я совершенно неожиданно для себя рвусь вперёд, скорее занять место. И я какой-то сухой, неулыбчивый и это меня вдруг пугает. Весь в себе и наружу почти не смотрю. Картина: я стал плохим человеком и понимаю это.
(Ещё и потому тоска, что будущее совершенно неясно. Куда идти – физика, психология?)
Сколько уже раз это было! Самолет долго ползёт по полю, наконец разбег, меня вдавливает в кресло, земля стремительно уносится назад и вниз. Я смотрю в иллюминатор, хоть он и запотел, грязный. Поблёскивают озёрца, реки. Входим в облака, трясёт. Небольшая воздушная яма. Преемственность земли сейчас не увидать, как было летом. А тогда один клочок земли плавно переходил в другой, можно было проследить всю поверхность земли от Москвы до Краснодара. А как здорово было садиться в жёлто-зеленое Краснодарское лето; я пролетал над местами, где прошла большая часть жизни. Внизу – аэропортовская дорога, сады, поля; и самолет парит этим великолепием. А затем – теплынь шум и деревьев на площади. Что будет сейчас?