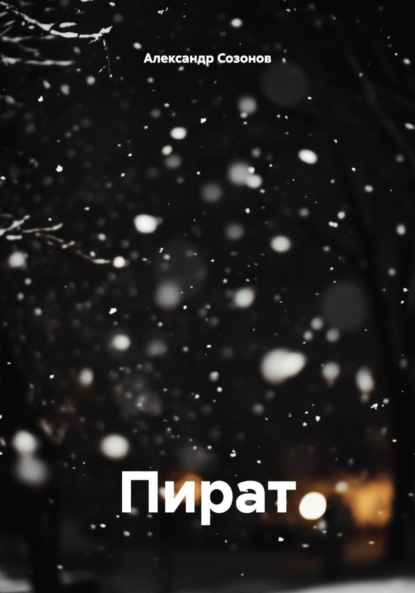Украденная невеста

- -
- 100%
- +
– А вы, юноша, чьих будете? – спокойно проговорил один из незнакомцев в подбитом мехом плаще. – Не совру, если скажу, что ранее никто вас здесь не видел. Невежливо, знаете ли, впервые явившись, воду мутить, законы свои уважаемому собранию навязывать, правила новые устанавливать.
– Он мне сразу не понравился, – сплюнул здоровяк, разминая шею. – Молодой дворянчик забрел, по всему, в поисках приключений, одежонка чужеземная опять же доверия не внушает. Отвечай, басурманин, откуда явился!
Однажды старый Нодар научил Томаза русской поговорке: «С волками жить, по волчьи выть». И сейчас она пришлась как нельзя кстати – он сорвал полумаску и швырнул ее в здоровяка:
– Смотри, собака, в лицо доверенного человека самого персидского посланника ко двору императрицы Екатерины, – вдохновенно соврал он, призвав на помощь всю надменность и спесь, какую только смог наскрести.
Мой господин, в отличие от твоего, не скрывает ни звания, ни намерений. Привык посланник к одалискам гаремным, а только царицу оскорбить притязанием к фрейлинам не желает, вот и послал меня подыскать девицу, для утех подходящую.
Да, я человек новый, – сменив тон, он посмотрел на двоих опоздавших, – но даже я себе обидеть мадам Люсиль недоверием не позволил. Неужто кто думает, что она таким важным гостям порченый товар подсунет? Вижу, честна она перед вами, так и вы к ней справедливы будьте.
Мадам, быстро сообразив, что такая пылкая речь играет на руку ее репутации, согласно вздохнула и сделала вид, что промокает глаза платком.
Постепенно все успокоились, признавая правоту горячего юноши. Торги продолжились. Руки вскидывались одна за другой: тридцать пять рублей… сорок… Пятьдесят – это все, что было у Томаза с собой. Огромные деньги, но сын кахетинского тавади привык ни в чем себе не отказывать.
Большинство мужчин уже давно перестали повышать ставки, даже здоровяк махнул рукой, позволяя увести Ягодку сидящим рядом двоим богачам.
– Пятьдесят пять, – растягивая слова, произнес один из них, уверенный, что никто больше не назначит. Мадам довольно потирала руки – неплохой куш всего за одну ночь.
Ядвига смотрела прямо в глаза Томаза, и столько отчаяния было в ее взгляде, что он решился:
– Сто рублей! – прозвучала неслыханная цена так громко, что пламя свечей в канделябрах задрожало, а проводивший торги Антон присел от неожиданности.
– Сто рублей, – прокричал он, по правилам трижды повторил и объявил: – Продано!
– Не расходитесь, господа! – воскликнул неугомонный здоровяк. – Попросим уважаемого персидского купца предъявить деньги, как никак, самый дорогой торг в истории наших встреч!
Мужчины подошли ближе и окружили иноземца. Мадам встала со своего места и тоже приблизилась. Выхода у Томаза не было. Денег тоже. В попытке оттянуть неизбежное, он достал притороченный к поясу с внутренней стороны чохи кошель и вручил его мадам Люсиль.
– Здесь ровно половина, – громко объявил он собравшимся и добавил: – вторую передам, как только лично проверю невинность девицы. Один. – И пояснил удивленной хозяйке заведения: – Таковы правила персидских гаремов, нарушить не смею. Подготовьте девушку и комнату, где я могу с ней уединиться.
– А вас, господа, – он поклонился мужчинам в полумасках, – приглашаю в свидетели. – Соблаговолите подождать у дверей. Обещаю, много времени осмотр не займет.
Девушку увели. Томаз, сославшись на необходимость отлучиться, велел Антону ждать его через четверть часа в большом зале, а сам опрометью бросился в игровую комнату.
Едва он вошел, Петр без колебания ринулся к нему, поняв, что горец не на шутку встревожен. Томаз ввел Петра в курс дела, на что молодой Нарышкин ответил:
– Денег у меня не осталось, а такой «товар» в долг не продают. Не ввязывался бы ты в это дело, она не первая и не последняя, более всего достается нетронутым крепостным девкам.
– Я не оставлю невинную жертву душегубам на поругание, – лоб Томаза покрылся испариной. – Раз не могу расплатиться, пойду на хитрость.
– И что ты надумал? – заинтересованно спросил Петр…
В назначенное время Антон проводил Томаза в отдаленные покои, где уже находилась несчастная девушка. Проходя через строй ожидавших развязки мужчин, присутствовавших на торгах, Томаз ощутил, как в руке у него оказался небольшой футляр, вложенный Петром, который умудрился среди ночи разбудить аптекаря и заставить его продать ляписный камень.
Затея очередной авантюры обострила все чувства Томаза. Он был как никогда уверен в своих действиях, спокоен, собран и даже весел. Оглядев толпу, он краем глаза заметил мадам Люсиль, державшуюся чуть в стороне, повернулся спиной и вошел в покои, прикрыв за собой дверь и заперев ее на засов, который, учитывая фривольный характер заведения, так или иначе был предусмотрен в каждой комнате
Ядвига, свернувшая на постели калачиком, завидев Томаза, подняла на него глаза, полные слез:
– Купил меня, барин? Зря я тебе доверилась, – пересохшими губами с трудом проговорила она.
Слова эти кинжалом резанули по благородному сердцу, но объясняться с девицей не было времени. Томаз приблизился к ней и твердо сказал:
– Слушай меня. Если моя задумка не выгорит, те, кто за дверью, растерзают нас обоих. Место гиблое, тебя искать не будут, меня, если и захотят, не найдут. Просто молчи и делай все, как скажу.
Девушка смотрела на него невидящим взглядом, и Томазу пришлось с силой тряхнуть ее за плечи:
– Поняла?
Ядвига медленно, будто пробуждаясь ото сна, кивнула.
– Закатай рукава и оголи ноги чуть выше колен, – приказал Томаз и, видя, что она колеблется, прикрикнул: – Живо!
Достав полученный от Петра камень, он принялся беспорядочно прикладывать его к коже девушки.
– Будет щипать, – предупредил Томаз. – Не бойся, ляписом мне бородавки прижигали, после того как с братьями наловили руками лягушек и выпустили в пруд, чтобы позлить садовника. С тех пор и помню о его свойствах: на свету темнеет, следы оставляет такие, что пока сами не пройдут, ни смыть, ни вывести невозможно.
Томаз завершил наносить пока еще невидимые метки на руки девушки, спрятал ляпис, осторожно приоткрыл дверь и прошептал что-то на ухо подскочившему Антону. Через мгновение в дверях появилась мадам Люсиль.
– Ну, господин, довольны остались чистотой моей Ягодки? – елейным голоском пропела хозяйка борделя.
– А вот извольте сами посмотреть, – пригласил ее приблизиться Томаз, вновь закрывая дверь.
Ядвига сидела на кровати с поднятым до колен подолом. На ногах ее виднелись бурые язвенные пятна.
Мадам отшатнулась, а Томаз велел девушке подняться и приблизил свечу к ее рукам, очаги поражения на которых в свете пламени становились все отчетливее.
– Похоже, у вашей Ягодки нечистая болезнь, мадам, – высокомерно усмехнулся Томаз. – Придется мне согласиться с теми, кто не спешил вам доверять, и прилюдно признать, что был неправ, отстаивая непорочность вашего имени…
– Ах ты дрянь! Обманщица! – зашипела мадам Люсиль и замахнулась на Ядвигу. Томаз быстро перехватил готовившееся обрушиться на щеку девушки запястье и мягко отвел руку в сторону:
– Тише, тише, любезная, вы без перчаток в отличие от меня. – Он продемонстрировал обтянутые лайковой кожей ладони, и пояснил: – Надел для осмотра, который, полагаю, уже и не нужен, о чем намерен доложить вашим уважаемым гостям.
– Не губите, – прохрипела мадам и быстро заговорила: – хотите, любую из девок пользуйте, хотите, сама ласками одарю по-царски, хотите, деньгами откуплюсь, – цепляясь за любую возможность, она выудила из глубокого декольте томазов кошель. – Ваши верну и сверху добавлю, только не губите!
Томаз внутренне торжествовал, он понял, что безрассудная авантюра увенчалась безоговорочной победой. Мысль еще и заработать на этом, и вернуть проигранное в карты, оказалась заманчивой, однако азарт постепенно начал отступать, освобождая место трезвому рассудку. Он понял, что перегибать палку не следует – сломается в самый неподходящий момент, а сохранившая деньги мадам не станет раздумывать и сопоставлять происшедшее, а просто забудет обо всем, счастливая, что легко отделалась.
– Я пощажу вас и сохраню вашу репутацию, мадам, – обратился он к испуганной женщине. – Вот что мы сделаем: деньги оставьте себе, – он кивнул на кошель, – покажете их как доказательство, что я выплатил всю сумму, пусть гуляют слухи о несметном богатстве моего хозяина. – Томаз продолжил играть роль доверенного лица персидского посланника. – Эту… Ягодку, – брезгливо скривился он, чтобы скрыть улыбку, – я забираю с собой, наш лекарь любит возиться с болячками. Только принесите ей какой-нибудь плащ или шубу, чтобы не испачкать экипаж. На этом попрощаемся, мадам Люсиль, – коротко бросил Томаз, но, будто вспомнив что-то, размеренно произнес: – Ах, да, наверняка вы знаете, где искать того, кто наградил девушку…хм… «насморком», не хочу после него наткнуться на еще какую-нибудь девицу. Завтра мой человек заедет узнать у вас его адрес.
Согласная на всё мадам лишь быстро пробормотала:
– Не извольте беспокоиться.
Дальше все прошло лучше некуда. Хозяйка борделя, надо отдать ей должное, сыграла свою роль великолепно: за долгие годы поднаторевшая в актерском мастерстве, она смогла убедить всех, что покупатель остался доволен и расплатился сполна. Двое в плащах, кивнув, удалились, а здоровяк с сальными волосами, чуть склонившись, пожал Томазу руку.
Мадам Люсиль даже превзошла самое себя: когда Томаз с Ядвигой подходили к экипажу, где их уже ожидал Петр, на плечи девушки легла просторная бархатная накидка, подбитая кроличьим мехом, а в руках Томаза оказалась записка с адресом, с поклоном переданная Антоном.
Уже в экипаже обессиленную от потрясений девушку отпустило, она вышла из странного оцепенения, сковавшего тело и дух, и разрыдалась, сквозь слезы бессвязно бормоча слова благодарности.
Петр потребовал друга изложить историю чудесного изволения Ядвиги во всех подробностях и, проникшись к ней искренним сочувствием, пообещал позаботиться о девушке и с должным сопровождением вернуть ее родителям.
А на следующий день ряды императорской армии пополнились еще одним новобранцем. Рекруты очень удивились, когда двое дюжих кавказцев доставили к ним молодого парня с подбитым глазом, но неудобных вопросов задавать не стали – солдатами накануне больших сражений не разбрасываются.
Наутро Томаз без утайки рассказал Нодару обо всем, что с ним произошло. Седобородый воин хмурил брови и корил молодого хозяина за безрассудство, хотя втайне гордился его поступком. Поведал Томаз и о том, что услышал от столичных повес: князь Галицкий не отдаст дочь за чужеземца.
– Жаль, что я не русский и не могу жениться на русской княжне, – печально вздохнул джигит, но тотчас встрепенулся и уверенно провозгласил: – зато я кахетинец и могу сделать ее своей цоли!
Юноша окончательно утвердился в мысли украсть невесту. Окрыленному недавним приключением и уверенному в собственных силах ему хватило слов, чтобы убедить Нодара в своей правоте:
– Я видел, как женщину обманом заставили следовать за мужчиной, видел, как ее выставили на продажу, будто вещь, безделушку. Что ждало ее, если бы я не вмешался? Бесчестье, возможно, и смерть. Так разве не благороднее с чистыми помыслами и искренними намерениями похитить девушку, чтобы сделать женой?
Каково будущее княжны Ольги? Выйти замуж одного из тех игроков, кого я встретил в заведении мадам Люсиль? Или того хуже, за хозяина тех, кто был на торгах? – Томаз тряхнул головой, отгоняя картины несчастной судьбы возлюбленной. – Нет, это решительно невозможно!
После долгих раздумий, Нодар согласился, организовать похищение, но при условии, что Томаз немедленно возвращается в Кахетию, вымаливает прощение и благословение князя Отара, готовит пристанище для украденной невесты. Мудрый старик справедливо полагал, что ретивая кровь джигита вполне может навлечь лишние неприятности: по дороге он либо ввяжется в очередное опасное предприятие, чем выдаст их с головой; либо, что вероятнее всего, не сдержится и скомпрометирует княжну еще до того, как наденет обручальное кольцо ей на палец.
Через три дня Томаз в сопровождении охраны был уже в пути. На свой риск без дозволения родителя он отправился домой, объявить матери о приезде невесты, а та, он очень надеялся на это, подготовит и успокоит отца.
Путь Нодара лежал в другую сторону.
Глава 8
Зима выстлала землю белой периной, такой пушистой и мягкой, будто кто-то невидимый целый месяц взбивал ее, отчего в воздухе кружились резные перышки снежных лебедушек. Вечера перестали быть непроглядно темными, окрасились льдистым серебром лунного света, запахли дровяным ароматом сотен дымящихся труб имения Галицких. И вот уже аккуратными стежками обутые в шерстяные катанки ноги расчертили тропки от одного дома к другому, от пруда – к амбарам, птичникам, конюшням и мастерским.
– Добрый у нас барин Никита Сергеевич, – делились промеж собой крестьяне, довольные, что их господин, как и в прежние годы, позаботился о том, чтобы вдосталь хватало муки, зерна и корма скоту.
Князь справедливо полагал, что живущие в достатке крепостные принесут больше пользы, нежели нищие и изможденные. Покинув государеву службу, сосредоточившись на жизни в деревне, он углубился в изучение основ ведения хозяйства и первое, что уразумел, выжимать из земли и людей все соки – прямой путь к вырождению.
Непонятый ближайшими соседями, Никита Сергеевич искоренял изжитое, часто рискуя, пробовал новое: одним из первых ввел многополье, поощрял крестьян заводить огороды, высаживать фруктовые деревья, выделял участки под лен и коноплю для домашнего ткачества; амбары строил не абы какие, а с умом – сухие, хорошо проветриваемые; конезавод организовал такой, что всем губерниям на зависть. Доходы тратил рачительно, обязательную треть вкладывая в развитие владений. Людей ценил, не обижал, жилы рвать не давал, но и бездельничать не позволял, за службу поощрял рублем да подарками.
Княгиня Александра во всем поддерживала мужа. Слабым находила посильную работу, в страду устраивала призор за детишками, содержала аптекарский садик, раз в три месяца отряжала лекаря на подушный осмотр. И обязательно следила, чтобы каждую осень в дубовых кадушках квасили капусту, а потом с помощниками самолично развозила ее в каждый дом, уберегая людей от цинги и всяческих простуд, не забывала при этом захватить и сладких гостинцев.
Потому зимой дела шли ладно, дружно, споро: подъездные пути к усадьбе расчищены, топление снега и сбор воды налажены, навоз на поля вывозится, шерсть прядется, полотна ткутся; скот ухожен, лошади на полном довольствии. По воскресеньям работать князем было не велено, сытые мужики и бабы в лучшей одежке, нарядив детишек, шли в церковь, где возносили молитвы за своего благодетеля Никиту Сергеевича Галицкого и все его семейство.
А в самом господском семействе царила небывалая тишина: домочадцы оберегали покой княгини, которую мучило утреннее недомогание. Ей были противны все запахи, ненавистны громкие звуки, а любое движение вызывало мигрень, потому Александра старалась не выходить из спальни, но и без того все говорили шепотом, ходили в мягкой обуви, вместе не собирались. Князь каждый раз возвращаясь с конезавода, сперва непременно заходил в баню, которую распорядился держать всегда натопленной, и избавлялся там от лошадиного духа, ополаскиваясь имбирной водой.
Княжны, предоставленные сами себе, не сговариваясь, решили каждая подготовить необычный подарок для родителей, желая сгладить их печаль в первое за долгие годы Рождество без старшей дочери и одновременно разделить радость ожидания четвертого ребенка.
Софья целыми днями пропадала где-то в сопровождении личной прислужницы Полинки и отставного солдата Никифора, служившего при конюшнях. На все вопросы, чем она занята, младшая княжна, закатывая глаза, загадочно изрекала: «Сие есть таинственная тайна, сказать – нарушить очарование», – и отказывалась что-либо пояснять.
Ольга же надумала поставить маленькое представление – развлечение, полюбившееся самой императрице Екатерине, а потому стремительно входившее в моду среди столичного и поместного дворянства. Сидя в тишине малой гостиной с гусиным пером в руке и листом бумаги, покрытым пометками, она старательно переводила французский текст о рождении божественного младенца и не услышала, как в помещение вошла ее личная горничная Маняша, румяная, чуть постарше Ольги девица с гладко зачесанными под платок темными волосами.
– Ольга Никитична, я вам тут сбитень подогретый принесла, пригубите, согрейтесь. Морозец сегодня лютый, хоть в доме и тепло.
Служанка вручила госпоже обернутую домотканой салфеткой глиняную кружку, над которой клубился духмяный пар, и выжидающе уставилась на Ольгу, выполняя наказ няньки Орины проследить, чтобы княжна непременно выпила напиток до дна.
– Спасибо, Маняша. – Ольга сделала глоток и зажмурилась, наслаждаясь разливающимся по телу теплом. – Нянюшка липовый цвет добавила, – безошибочно определила она. – В столице таким не балуют.
– Ох, – хлопнула себя по лбу Маняша и достала из кармашка накрахмаленного передника запечатанный сургучом конверт. – Простите, барышня, чуть не забыла, вам же письмо пришло с самого Петербурга!
– Посмотри от кого, – попросила Ольга, не желая выпускать из рук согревающую кружку со сбитнем.
Маняша повертела в руках конверт, зачем-то понюхала его и затараторила:
– Барышня, оно уж красиво очень начертано: тут и завитушки всякие, и вензелёк пририсован, и цветочек о многих лепестках нежно выведен, знать, подруга ваша писала.
– Ну точно, что не кавалер, – хихикнула Ольга, но сердце болезненно сжалось. – От кого письмо, Маняша, не томи!
– Так, Ольга Никитична, я ж грамоту не разумею, не обучена, как же я разберу, кто писал, – смутилась горничная.
Княжна посмотрела на служанку так, будто впервые ее видела. Ольга конечно знала, что крестьяне по большей части неграмотны. Но это знание относилось, как выразились бы ее любимые античные философы, к метафизической сфере, оно существовало отвлеченно, где-то там, в канцелярских бумагах или разговорах окружающих. А тут – Маняша, которая умела так ловко укладывать волосы, штопать кружева, знала все ее привычки, была рядом с тринадцати лет… И такая мастерица не умела прочесть имени отправителя?
– Совсем–совсем ни одной буквы не знаешь? – убирая в сторону моментально остывший сбитень, тихо спросила Ольга.
– Дык, никто, почитай, не знает, разве что нянька Орина, да и ту сперва по псалтырю кое-как батюшка ейный научал в детстве, а потом и матушка ваша постаралась, как–никак к дочерям княжеским приставлена… А нам и не надобно. Мы и так знаем, что к чему, – призналась Маняша и тут же, будто оправдываясь, добавила: – Ну на что нам, сударыня, грамотейство это? Дела наши – служить господам. Наша грамота – спорые руки да честное сердце. А письма читать – либо приказчик, либо дьячок в церкви, им положено.
Она произнесла это с такой пылкой убежденностью, что Ольге стало не по себе: «Неграмотный человек – как в темнице сидит».
Княжна забрала у Маняши конверт, прикрыла его листом и отпустила служанку до вечера, а сама поспешила на поиски отца.
Хоть Ольга и притомилась, разыскивая отца, но была этому даже рада – потраченное время помогло собраться с мыслями и утвердиться в правильности своей идеи. Наконец, от пробегающей на цыпочках служанки она узнала, что «Никита Сергеевич подле стряпной буйствовать изволят». Недоумевая, что могло понадобиться князю в традиционно женской вотчине, княжна направилась в сторону кухни.
– Живей ноги волочи, княгиня ждет! И без того ужо три четверти часа потеряли, пока повариха сообразила, чего от нее требуется. Смотри, держи ровно, не оброни ничего, – пенял князь лакею, несшему на вытянутых руках поднос, накрытый серебряным клошем.
Завидев идущую навстречу среднюю дочь, Никита сбавил шаг:
– Радость у нас, Олюшка!
Ольга приблизилась, желая узнать, что послужило поводом визита князя на кухню. Никита поднял клош. В ноздри ударил дымный густой запах копченой рыбы вперемешку с чем-то неожиданно сладким.
– Вот! Матушка нынче с утра в добром здравии, хворью не мается, аппетит проявила.
– Поэтому вы, батюшка, самолично к кухаркам отправились?
– Уж больно неожиданное предпочтение к завтраку Алекс высказала: понадобилось ей отведать сига, на ольховой щепе копченого, непременно с подушкой из взбитых на снегу парных сливок, укрытых малиновым вареньем.
– Никогда о таком кушанье не слыхала, – удивилась Ольга.
– А тебе покамест без надобности, – сдвинул брови Никита, – блюдо сие в рецептах не значится и что бы в составе не имело, называется завсегда одинаково: «Каприз женщины на сносях». Четвертый уже, – голос князя потеплел. – Только в те разы как-то оно попроще было. А в этот – изложил я все запиской подробно, и со Степкой к поварихе отправил.
Лакей, услышав свое имя, вжал голову в плечи, а князь меж тем продолжал:
– Только вот прочесть мои пожелания не смогли, потому пришлось идти самому растолковывать.
Ольга хихикнула, представив отца среди кухонной утвари, отдающего распоряжения перепуганной челяди. Немного помешкав, она все же решилась спросить:
– А когда матушка меня носила, какой каприз был?
– Яблок хотела, – даже не задумываясь ответил отец. – Все время яблоки. Свежие, печеные, с медом мешаные, миндалем пересыпанные. С иных просила кожицу тонко снять, да сама ту кожицу и съедала, а мякотью плодовой со мной делилась. Зима в тот год была лютая, – припомнил он, – к весне уже и припасов почти не осталось, а этого всего, почитай, и не было, – он повел рукой, жестом обозначая разросшееся за годы имение. – Ни дома, ни конезавода, ни погребов. Бросил тогда клич, и крестьяне, кто что в закромах нашел яблочного, то и принесли: и сидр, и ломтики сушеные, и яблочки моченые. Порадовали обожаемую свою княгинюшку. А спустя пару месяцев, в самый яблоневый цвет, и ты родилась. Как сейчас помню: вышел я на порог «Подковы» с тобой на руках, чтобы миру явить, тот цвет и опадать начал. Тут ветер завертел, закружил лепестки, и один прямо на твой носик крохотный прилетел. Думал, заплачешь, а ты только чихнула, глазенки небесные распахнула пошире и ручки ко мне потянула, да так, что до самого сердца дотянулась. С тех пор и держишь его. Все вы, алексашки, его держите – отпускать не хочется.
Никита вздохнул, а Ольга поежилась, опасаясь, что отец снова начнет намекать на замужество.
Заметив озабоченность дочери, Никита тем не менее решил, что не станет брать с места в карьер, а поначалу выведает, каковы намерения Ольги. Он жестом велел Степке идти вперед и выставил руку, предлагая княжне присоединиться и проводить его до покоев Александры.
– Знаю, ты с неохотой вернулась в имение, по душе тебе были просветительские посиделки в столице.
– Вы правы, папенька, сие было крайне занимательно.
– Коли нужны тебе книги какие, обратись к управляющему Федорову, все выпишет из-за границы.
– Благодарю, весьма кстати. – Ольга помедлила, но решилась высказать свою задумку:
– Заметила я среди крестьянских ребятишек немало смышленых да охочих к знаниям. Столкнулась еще с тем, что домашняя челядь не столь расторопна в услугах, потому как простых вещей не понимает. И подумалось мне, не заняться ли обучением избранных. Талантлив и смекалист русский народ.
– Только у холопов иная планида – служить барину. Ломоносовы раз в столетие рождаются.
– Ведь не испугалась наша государыня темноты да убогости простого люда, слывет просвещенной царицей. Долг подданных ей соответствовать. С вашего позволения, князь, наберу полдюжины человек и стану учить их самому простейшему.
– Эк, куда тебя понесло!
– Будет, чем заняться долгими зимними месяцами. Признаться, балы порядком наскучили.
– Хоть и не совсем понимаю, что выйдет из такой затеи, но препятствовать не стану.
– Вы в моих силах сомневаетесь?
– В твоих – нет!
– Отрадно слышать! На этом, позвольте удалиться. – Ольга распахнула дверь в родительскую спальню, пропуская вперед отца и лакея с подносом, а сама торопливо сбежала по лестнице.
«Похоже, ваше сиятельство, дочь опять вокруг пальца тебя обвела, – довольно хмыкнул князь. – Моя кровь!»
Быстро вернувшись в малую гостиную, Ольга достала припрятанное письмо и развернула его:
Милая моя Олюшка!
Прости меня, нерадивую подругу твою, что писать стала реже, да строки коротки. Круговерть, череда сует и сезонной рутины – так могу обозначить нынешнее свое пребывание в столице. Балы сменяют приемы, рауты, визиты и, не поверишь, все так однообразны, что скучно мне нынче средь Петербурга. Была радость – твое присутствие, да и то завершилось самым непредсказуемым образом. Уж как я ни уговаривала папеньку предложить тебе у нас остановиться, или мне с вами уехать, он выразился твердо, что сие решительно невозможно.