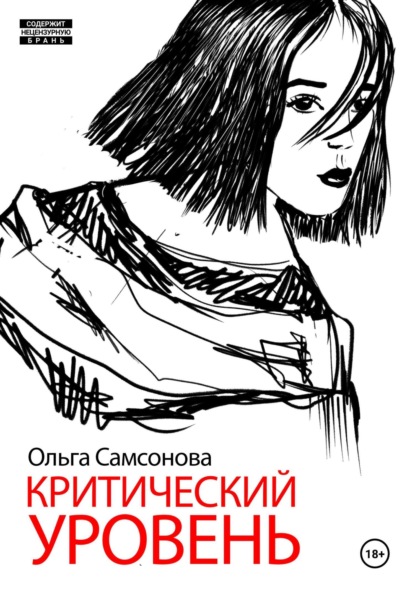Щетинин идет по следу. Тайна «Медной подковы»

- -
- 100%
- +

Глава 1. Женщина в трауре
Дверь скрипнула, впуская холод дождя и горький дух «Северка». Сутулый мужчина в потёртом котелке привычно постучал каблуками о порог, сбивая налипшую грязь, и шагнул в темноту.
Щетинин перешагнул порог, и контора встретила его привычной затхлостью – пылью старых бумаг и прогорклым табачным духом. Узкая комнатушка с обшарпанными стенами не менялась: та же конторка, заваленная папками, тот же стул, отпугивающий клиентов. Он стянул мокрый плащ, бросил на вешалку – та качнулась, но устояла. За окном моросящий дождь размазывал свет фонарей по лужам, и двор расплывался, как в дешёвом зеркале. Щетинин вытащил «Северку», чиркнул спичкой, затянулся – дым лениво пополз к потолку. Его отражение в жестяной пепельнице – угловатое лицо, мешки под глазами, седина в волосах – выглядело так же паршиво, как этот день. Конец октября дышал ледяным ветром, проникающим в щели рам, напоминая о скорой зиме.
– Унылая пора! Очей очарование! – саркастично хмыкнул Щетинин. – Черт бы ее подрал
Затем привычным движением раскрыл верхний ящик стола, достал початую пачку “Северка” и, щёлкнув спичкой, со вкусом затянулся. Щетинин выдохнул дым, глядя на свои руки – жилистые, с пожелтевшими от табака пальцами. Лицо, что отражалось в жестяной пепельнице, было угловатым, с глубокими морщинами у глаз и седеющей щетиной, что покрывала впалые щёки. Среднего роста, в поношенном сюртуке, он выглядел так же устало, как эта контора.
Тяжёлый смрад висел в затхлом пространстве, словно дыхание склепа, сливаясь с чернотой, что притаилась в углах, как непробудный сон. Мужчина скользнул взглядом по стрелкам часов. Рабочий день. Ещё одна капля в море безысходности.
Над столом криво висела карта Петербурга, изрядно потрёпанная. Её углы были намазаны клеем, липким и бесполезным, и всё равно сворачивались. В центре карты темнели жирные пятна от пальцев. В нескольких местах карту кто-то проткнул булавками, отмечая важные точки, но теперь она выглядела скорее как память о старых делах, чем как инструмент.
В дальнем углу стоял сейф – небольшая железная коробка с потертыми углами и тугой ручкой. Щетинин редко пользовался им, потому что денег, достойных запирания, в конторе не водилось. Внутри лежали старые дела, наган, несколько пистолетных патронов к нему и бутылка “Смирновской №21”.
Из-за плохо прикрытой форточки сквозняк шевелил пожелтевшие бумажные ленты на свёртках дел, свистел в щели двери. Где-то внизу, во дворе, кашлянул дворник, слышно было, как кто-то ругнулся, наверняка поскользнувшись на мокром булыжнике.
Щетинин стряхнул пепел в тяжелую жестяную пепельницу, уже полную огарков. Ещё одно утро, ещё одна работа. И, как всегда, без уверенности, что закончится этот день лучше, чем начался.
Ещё одно утро, ещё одна работа. Он уже потянулся к “Смирновской”, когда тишина старой конторы разорвал стук в дверь. Нерешительный, негромкий, но отчетливый удар по хлипкой двери. Такой, каким стучат люди, не уверенные, стоит ли им вообще входить.
Щетинин поднял голову, стряхнул пепел с папиросы в жестяную пепельницу и лениво бросил:
– Открыто.
Дверь чуть приоткрылась, затем шире. В проёме замерла женщина.
Она не была молода, но и старой назвать её язык бы не повернулся – лет двадцать пять, может, чуть больше. Лицо тонкое, с высокими скулами и правильными чертами, но усталость уже оставила на нём свои метки – легкие тени под глазами, тонкие морщинки у уголков губ. Губы крепко сжаты, словно она привыкла держать всё в себе.
Волосы тёмно-русые, гладко зачёсанные назад и собранные в узел на затылке, без лишних украшений. Только простая шпилька. Словно ей и хотелось бы подчеркнуть свою красоту, но обстоятельства не позволяли.
На ней было искусно перешитое платье из добротной шерсти. Приталенное, с аккуратным застегнутым воротничком и перламутровыми пуговицами, оно выдавало умелые руки, но и стесненные обстоятельства. Поверх платья – поношенное, но крепкое пальто не по размеру. Перчатки, связанные с удивительной тщательностью, но не кожаные, говорили о том же: талант и бедность шли рука об руку.
Она нервно покачивалась с пятки на носок, судорожно сжимая в дрожащих руках потертый ридикюль. Невысказанное словно комом стояло в горле.
Щетинин окинул её взглядом, выпрямившись в кресле. Его худое лицо, с резкими скулами и седеющей щетиной, казалось вырезанным из старого дерева. Тёмные волосы, спутанные под котелком, выбивались на лоб, а усталые глаза, глубоко посаженные, смотрели цепко, несмотря на мешки под ними.
– Проходите, – сказал он, указывая на стул. – Не трону.
Женщина шагнула вперёд, но садиться не спешила. Вместо этого прижала сумочку к груди и наконец заговорила, но голос её был робкий, словно у испуганной птицы:
– Вы… вы сыщик? Александр Николаевич? – Дрожь пробежала по её руке, когда она коснулась сумочки, после чего она нервно провела рукой по волосам, словно ища защиты в привычном жесте.
– Он самый.
Её кивок был почти незаметен, но в нём читалось отчаяние и решимость. Словно переступив невидимую черту, она села на край стула, выпрямив спину, как перед судом, и сжала ткань платья, словно пытаясь удержать ускользающую реальность.
Женщина боролась с внутренним смятением, её взгляд был прикован к полу, словно ища там подсказку. Щетинин покрутил в пальцах недокуренную папиросу. Он глубоко затянулся, выпуская сизую пелену, сквозь которую его взгляд стал требовательным.
– Давайте, выкладывайте, что стряслось.
Она сомкнула губы в тонкую линию, опустила взгляд в пол и медленно выдохнула, словно выпуская из себя тяжелый груз. Но слова, казалось, застряли у нее в горле, не желая вырываться наружу.
Женщина сидела на краю стула, спина прямая, ладони сжали ткань платья. Она кивнула, будто убеждая себя, что правильно сделала, что пришла.
Щетинин хранил молчание, терпеливо ожидая. Он понимал, что торопить её – ошибка, и позволял ей самой выбрать момент и слова.
– Я ходила в жандармерию, но там мне не помогли. Сказали, что без улик не возьмутся. Однако, мне посоветовали обратиться к частному сыщику… И я нашла ваше объявление, – выпалила она. Было очевидно, что она заранее продумала каждое слово, но волнение сыграло с ней злую шутку. Некоторые детали ускользнули, и её рассказ получился скомканным и неполным.
Щетинин бросил быстрый взгляд на стопку старых газет в углу, что объявление в “Новом времени” оказалось полезным.
– Муж мой… пропал, – наконец произнесла она. Голос был негромким, но чётким, с резкими нотами, будто каждое слово давалось с трудом, но отступать она не собиралась.
– Как давно? – спросил Щетинин, кладя руки на стол. Рабочая привычка. Щетинин уже пять лет не работает в жандармерии, а привычка осталась.
Женщина чуть повела плечом, раздумывая.
– Три дня, – ответила. – Нет, уже четыре.
Щетинин молча внимал, словно принимая ещё мрачную деталь как должное.
– Он и раньше пропадал, – продолжила она, быстро взглянув на сыщика и тут же опустив глаза, – но сейчас… это другое.
Она замолчала, словно подбирая слова. Щетинин отметил, как её кисти побелели, судорожно комкая подол платья.
– Другое чем? – уточнил он.
Женщина вздохнула, будто собиралась с духом.
– Михаил любит выпить, – наконец сказала она. Она явно не врала, да и зачем ей это в этом положении, но Щетинин отметил это. Опять рабочая привычка. – Бывало, конечно, загуливал, но чтобы вот так… четыре дня…
– Кто его друзья?
Она покачала головой. Ее губы дернулись, как будто она вспомнила о чем-то противном.
– Не знаю. Он не рассказывал, да я и не спрашивала. Бывало, приходил поздно, иногда на утро, но всегда возвращался. Пусть не в себе, пусть… неважно в каком состоянии, но возвращался. А теперь – ни слова.
Она замолчала, снова глядя в сторону. Щетинин заметил, как дрогнули её губы, но она тут же стиснула рот, а его взгляд скользнул к лежащему на столе коробку спичек, который он машинально начал крутить в руках.
– Я ходила на Сенную, – вдруг заговорила она. – Обыскала весь рынок, расспрашивала, не видели ли его… Кто-то говорил, что, может, был, но никто точно не помнит. Ходила к его приятелю… бывшему, – выделила она слово, – но и тот его не видел.
Щетинин постучал спичками по столу.
– Кто этот приятель?
– Павел Сазонов, – ответила она. – Сазонов пьянь, каких свет не видывал. И пьяным он с кулаками на всех лез, а пьяным он был каждый вечер. Михаил рассказывал, как этот Сазонов то там подерется, то тут… Вы не подумайте… Михаил с ним не дружил… Ну, или дружил. Я не знаю, он рассказывал что-то, а я его не слушала: говорит что-то и пусть говорит.
Желая сохранить имя, Щетинин потянулся к блокноту, но тот, словно призрак, исчез в недрах стола. Тогда Щетинин схватил первый попавшийся обрывок бумаги и быстро записал имя. Отложил бумагу в сторону.
– Михаил работал? – потер подбородок.
Женщина кивнула. Щетинин бросил взгляд на карту Петербурга.
– Да, в типографии. Печатником. – Она протянула визитку с адресом типографии. Щетинин взял ее, повертел в руках и аккуратно положил перед собой.
– Знаете, были ли у него враги? Долги?
– Долги были, – призналась она. – Но не знаю, какие. Михаил не любил говорить о таких вещах. Говорил, что женщине не стоит думать о деньгах… Знаю, что он в карты поигрывал.
Щетинин снова кивнул.
– Какие-то странности в поведении были?
– Он иногда возился у стола, будто что-то засовывал в щель. Я не лезла – его дела.
– Что вы хотите, барышня?
Она словно расправила плечи. Казалось, именно этот вопрос она ждала с самого начала.
– Найдите его, господин Щетинин. Просто узнайте, где он. Если он ушёл сам, я… я не стану его удерживать. Но мне нужно знать.
Голос её был ровным, но в ее серых, как осеннее небо, глазах мелькнуло что-то. Боль? Сожаление? Нет, что-то другое…
Щетинин некоторое время молча смотрел на неё, затем с улыбкой спросил:
– Ваше имя?
– Зинаида Павлова, – ответила она. Щетинин кивнул.
– Опишите его, – Щетинин откинулся на скрипучей спинке своего видавшего виды кресла готовый.
Женщина немного помедлила, словно подбирая слова.
– Михаил… не слишком высокий, но крепкий. Волосы тёмные, вьющиеся. Глаза карие. Носит бороду, но не длинную, аккуратно подстриженную. Одет… должен быть в коричневом сюртуке. Сапоги у него тёмные, добротные, он их недавно чинил.
– Приметы? Шрамы, родинки?
– Да… – она задумалась. – На правой руке, у большого пальца, шрам. Когда-то порезался, работа такая… И ещё у него…– она осеклась, на мгновение замявшись. – Он прихрамывает. Немного, почти не заметно, но после долгой ходьбы хромает сильнее.
Взгляд сыщика скользнул по лицу женщины, но ни один мускул не дрогнул, лишь в глубине глаз мелькнуло что-то, говорящее о том, что информация принята.
– Где его могли видеть в последний раз? – Щетинин с силой ткнул недокуренную папиросу в переполненную пепельницу, где уже покоилась целая братская могила её обугленных предшественниц. Тлеющий кончик ещё слабо мерцал среди серой золы.
– Я не знаю… – с тревогой сказала она. – Может, на Сенной, может, в какой-то из пивных, где он бывал… но точного места я не знаю.
Щетинин снова взглянул на женщину, оценивая её рассказ. Взял со стола визитку с адресом типографии и положил в карман.
– Я займусь этим. Я сам свяжусь с вами, как только у меня появятся новости. Не нужно вам лишний раз беспокоиться.
Женщина тихо выдохнула, как будто весь этот разговор отнял у неё последние силы.
– Благодарю вас, господин Щетинин.
Она встала, машинально проверила пуговицы на воротничке платья и направилась к выходу, оставляя за собой лёгкий след дешёвых духов. Щетинин проводил её взглядом, поднялся и подошёл к окну. За стеклом Петербург тонул в октябрьском мороке, воздух коченел, пронизывая зябким холодом. Небо нависало угрюмо, словно чугунная плита, придавливая город к земле.
Глава 2. Запах чернил и тайны
Щетинин чиркнул спичкой, поджёг «Северку» и смахнул карту Петербурга со стены. Она шлёпнулась на стол, потрёпанная, с загнутыми углами, припорошенная пылью. Он затянулся, выпустил дым и склонился над выцветшими линиями – Литейный, типография. Там сейчас станки гудят, печатники возятся в чернильной пыли, пока не свалят в кабаки. Сенная подождёт ночи, жандармерия – утра, когда бывшие сослуживцы начнут копаться в своих бумажках. Щетинин хмыкнул: Михаил явно вляпался в дрянь, о которой жёны узнают последними. Карта молчала, но опыт шептал – копать надо глубже, пока город не проглотил след. Щетинин в ту грязь не лез – пять лет как бросил жандармерию, ловил воров, а не крикунов с идеями, – но напряжение висело над городом, как гарь над трубами, цеплялось к горлу. Типография могла что-то выдать, если копнуть глубже. Опыт шептал: Михаил хранил в себе что-то, о чём жёны узнают последними.
Папироса тлела в пальцах, он не замечал, пока уголёк не обжёг кожу. Щетинин чертыхнулся, перевёл взгляд на руку – пепел осыпался, тонкое облачко поднялось над столом и осело на загнутый край карты, прилипнув к липкому клею. Серый налёт смешался с мелкой грязью, с клочками бумаги, с этой проклятой картой, что разваливалась под пальцами. Он стряхнул окурок в жестяную пепельницу, полную окурков, и выдохнул – дым сизой пеленой повис над столом. Надо идти, пока станки горячие. Щетинин встал, накинул пальто на плечи, сунул спички в карман и хлопнул дверью – скрип засова эхом отлетел от стен конторы.
Щетинин шагнул наружу – резкий холодный ветер с Невы хлестнул по лицу как пощечина. День тонул в серой мгле, моросящий дождь висел в воздухе, мелкий и цепкий, скрывая солнце за плотными свинцовыми тучами. Петербург дышал осенним разложением: мокрые камни мостовой блестели под сапогами, влажная листва липла к булыжникам, голые ветки торчали вдоль улиц, чёрные и тощие.
Он двинулся к типографии, скользя между людьми – пешеходы в поношенных пальто спешили, сутулясь под дождём, извозчики лениво покрикивали, колёса пролеток хлюпали по лужам. В воздухе мешались запахи – кислая вонь канализации, едкий дым труб, прогорклое масло от телеги с рыбой. На углу мальчишка, худой, с мокрой чёлкой, горланил: «Биржевые ведомости! Свежие, берите!» – размахивая размокшей пачкой газет. Щетинин прошёл мимо, задев плечом мастерового с чёрными от сажи руками – тот буркнул ругательство, но сыщик не обернулся. Улица ворчала: скрипели телеги, копыта чавкали в слякоти, нечистоты – окурки, обрывки газет, испорченные фрукты – волочились под ногами, подгоняемые порывами ветра.
Вдруг мысль кольнула: надо купить клей, прилепить эту проклятую карту – всё к ней липнет, кроме стены. Он нахмурился, вспомнив, как пепел осел на липкие углы. Справа фыркнула лошадь, хрипло и резко, – Щетинин моргнул, вынырнув из дум. Улица сомкнулась вокруг: дома в переулке теснились, тёмные и угрюмые, свет в окнах едва пробивался сквозь щели ставен. Где-то хлопнула дверь, донёсся сиплый окрик, но он шагал дальше. Улица осталась позади, впереди ждала типография
Щетинин свернул за кирпичную арку, и типография выросла перед ним – угрюмая громада, точно старая баржа, что осела в грязи. Узкий проход, словно зловещая пасть, поглощала непроглядная тьма, а влажный воздух, густой и удушливый, давил на грудь, неся в себе терпкий запах мокрой бумаги, словно её только что вырвали из-под типографского пресса, и едкую волну печатной краски – кислую, как предсмертный вздох умирающего города, чьи тайны и пороки сочились сквозь каждый камень мостовой. Над входом болталась вывеска, тусклая, обшарпанная: когда-то синие буквы названия облупились, оставив лишь рваные обрывки слов, будто кто-то вырвал имя здания из памяти. Стены, покрытые копотью и потёками, нависали над двором, а редкие окна, мутные от грязи, едва пропускали свет – словно глаза, что давно ослепли. Дверь, старая и покорёженная, скрипела под рукой, отзываясь низким стоном, будто нехотя впуская чужака в своё нутро.
Холод снаружи цеплялся за пальто – ледяной ветер с Невы гнал морось, пробирал до костей, оставляя кожу влажной. Щетинин шагнул внутрь, и его обдало волной тепла – душного, густого, пропитанного жаром раскалённых механизмов и запахом горячего металла. Типография гудела: глухой стук машин бил в уши, как пульс железного зверя, голоса рабочих тонули в шуме, приглушённые пеленой пыли. Но влажность не отступала – она клубилась здесь, в этом затхлом тепле, сплетаясь с едким запахом кислых чернил и мельчайшей древесной взвесью, оседая липкой плёнкой на стенах, на полях шляпы, на всём, что осмеливалось проникнуть внутрь. Щетинин стряхнул капли дождя с полей, выдохнул – пар от дыхания растаял в спёртом воздухе, – и двинулся дальше, в сердце этой шумной ямы.
Щетинин шагнул в проходную – тесную, вылизанную конуру, где каждая щель дышала чистотой. За столом сидела девушка, прямая, как шомпол, тёмные волосы выбивались из-под платка, глаза острые, как у кошки. Стены, утратившие былой алый цвет до призрачной бледности, словно выпотрошенные нутром, не хранили ни единой отметины, лишь призрачные следы первоначального цвета судорожно цеплялись за шершавую поверхность.
– Вам кого? – резкий женский голос прорезал шум, будто ножом по бумаге. В нём звенела сталь, но без злобы – просто привычка командовать.
За широким столом, слишком громоздким для этой конуры, сидела девушка лет двадцать, может больше – прямая, как шомпол, руки сложены на тетради. В глубине, вдоль стены, ряды гвоздей держали связки ключей, выстроенные с военной точностью, будто отступи хоть один – и рухнет весь порядок. Чайник прятался в углу, почти незаметный, словно стыдился своей потёртости, а рядом чашки – белые, без единой трещины – укрывались полотенцем с тусклыми пятнами, единственным намёком на слабость в этой стерильной крепости. Здесь всё кричало о хозяйке, что железной рукой держала чистоту, как щит против хаоса типографии с одной стороны и сырости улицы с другой.
– Михаил Павлов здесь работал? – спросил он ровно, скользнув взглядом по её лицу.
Она нахмурилась, прикинула его взглядом, будто решала, достоин ли он ответа. Тёмные волосы выбивались из-под красного платка, туго завязанного ровно по центру. Лицо её было строгим, высеченным из той же угрюмой чистоты, что и эта проходная, – красота, если и была, тонула в тени этой суровой маски, оставляя только холодный блеск взгляда.
– Павлов? Был такой. Печатник. Несколько дней как пропал. А вы кто ему? – голос сухой, без лишних ноток.
Щетинин улыбнулся, ответной улыбки не последовало.
– Александр Николаевич. Ищу его по просьбе жены, Зинаиды, – Щетинин чуть кивнул, будто это всё объясняло.
– Авдотья Петровна, – она коротко наклонила голову, опять без улыбки. – Приятно, что ли. Работал он, да. Хороший был печатник. Руки на месте, дело знал.
– Какой из него работник? – Щетинин шагнул ближе, оперся локтем о край конторки.
Авдотья отложила тетрадь, посмотрела на него прямо.
– Какой надо. Приходил, работал, станки не простаивали. Получку брал – и в трактир, конечно. Но на работе не пил, а остальное никого не касается. Главное – дело делал.
– С похмелья как? – Щетинин прищурился, проверяя её.
– С похмелья или без – какая разница? – она пожала плечами, будто он спросил о погоде. – Утром вставал к станку, листы ровные выдавал. Не его забота, что мастер ворчал. Работал – и ладно.
– А с людьми как ладил? – он крутанул спичку в пальцах, не отводя взгляда.
– С коллективом дружен был, – Авдотья чуть выпрямилась, голос стал твёрже. – Всегда заодно, слово вовремя скажет, дело подхватит. У нас тут каждый на своём месте, а он своё держал крепко. Без него станки не те.
– Весёлый, значит? Шутил, поди? – Щетинин ткнул спичку в пепельницу на конторке.
– Бывало, – она кивнула, но без тепла. – Разговор поддержит, если надо. Но я за этим не слежу. Работал – и работал. Остальное его дело.
– Врагов не нажил? – он постучал пальцами по дереву, будто выбивая ответ.
– Здесь? – Авдотья хмыкнула, но коротко. – Не слыхала. Ссориться ему зачем? С коллективом в ладу, а вне работы – не моё. В трактирах, может, и цеплялся к кому, но сюда это не доходило.
– Начальство что говорило? – Щетинин бросил взгляд на дверь в цех.
– Мастер Прохоров его держал. Грубый, но справедливый. Михаил под горячую руку попадал, но выгонять не спешили. Работник нужный, таких мало.
– А ты сама что думаешь? Куда он делся? – он прищурился, будто хотел поймать её на слове.
Авдотья отвела взгляд, пальцы легонько дрогнули на тетради.
– Думаю? Да что тут думать. Жил, работал, потом пропал. Может, в кабаке застрял, может, ещё где. Мне откуда знать? Я тут сижу, ворота стерегу да чайник грею.
– Ночью станки не гудят? – Щетинин кивнул на цех, будто невзначай.
Она замерла на миг, потом пожала плечами.
– Бывает. Заказы спешные, говорят. Ночь – не моё время, я домой ухожу. А что там гудит – не моё дело.
– Ясно, – Щетинин кивнул, выпрямляясь. – Спасибо, Авдотья Петровна. Где мастера найти?
– В цеху, за второй дверью. Спросите Прохорова, он там, – она махнула рукой, возвращаясь к тетради.
Щетинин двинулся к двери, но её голос догнал его:
– Если найдёте Михаила, скажите, чтоб к станку вставал. Без него работы больше, а рук меньше.
Девушка проводила его взглядом, в котором читалось что-то вроде лёгкого беспокойства. Или просто осеннее хмурое утро делало всех угрюмыми.
Щетинин продвинулся вглубь помещения, и типография сомкнулась вокруг него, точно чугунная клетка. Громадные машины дрожали, сотрясая пол под ногами, их железные рычаги двигались вверх и вниз с механическим стоном, словно выколачивая мрачный пульс неизбежности. Атмосфера давила своей густотой, удушливая – пропитанная исходящим от механизмов зноем, острым запахом горячего металла, резким ароматом кислых чернил и липким, приторным духом типографской краски. Мельчайшие частицы уличной грязи оседали на влажный от дождя плащ, образуя на ткани тонкий, землистый налёт. За мутными окнами, закопчёнными сажей, сгущались сумерки, но внутри газовые рожки бросали на стены рваные тени – силуэты станков и рабочих плясали в жёлтом свете, как призраки на заброшенном балу. Под ногами скрипели прогнившие доски, стонали под каждым шагом, словно жалуясь на чужую тяжесть. В дальнем углу тянулись массивные прессы с гладкими рычагами, отполированными сотнями рук, – время от времени один из них издавал низкий, надсадный скрип, точно старый зверь, что задыхается от работы. Чернильные отметины густо покрывали стены, напоминая о давно минувших днях, а пол окутывала плотная, серая бумажная крошка, неподвижная и заброшенная, словно прах забытых историй. Рядом громоздились столы с листами – одни уже несли отпечатки букв, другие лежали в ожидании, белые, как кости. ШШорох бумаги, металлический лязг и гул голосов сливались в спёртый воздух, затхлый, как сама смерть, что готовила здесь свои чёрные страницы.
Щетинин лавировал среди ревущих машин, скользя взглядом по напряжённым лицам сгорбленных фигур. Усталые, осунувшиеся, с глубокими морщинами от постоянного напряжения, они были серы от копоти, въевшейся в кожу. Пальцы рабочих, с облупившейся кожей и черными ногтями, были вечно испачканы краской, которую не отмыть до конца. Одни работали, склонившись над станками, с выражением обреченности и усталости на лицах, другие украдкой переговаривались, бросая на Щетинина настороженные взгляды.В тени, возле аккуратных стоп чистых листов, двое молодых линотипистов, с взлохмаченными волосами и тёмными разводами на лицах, прикурили свёрнутую на скорую руку папиросу, их тихие голоса тонули в клубах едкого дыма.
Щетинин миновал шумный рой, прошёл к двери мастерской и стукнул и постучал костяшками пальцев. Из-за гудящих агрегатов послышался голос:
– Да кто там ещё? – Прохоров вышел, вытирая руки о передник. Невысокий, коренастый, с облупившимся ногтем на большом пальце. По рукам мужчины было видно, что он стоит за массивным рабочем станком, а не бумаги перекладывает. – Вы по делу?
– По Михаилу Павлову, – ответил Щетинин, показывая визитку. Прохоров посмотрел на визитку, покрутил ее в руках, как будто оценивая не напечатанное на ней, а мастерство изготовления. – Александр Щетинин. Разбираюсь, куда он запропастился.
Прохоров нахмурился, окинул гостя взглядом и кивнул на стул у стены:
– Садитесь, коли по делу. Чего знать хотите?
– Михаил. Что за человек? Как работал? Что за характер?
Мастер усмехнулся:
– Михаил? Мужик работящий. Пьёт, конечно, но кто у нас не пьёт? – махнул рукой. – Только вот разница есть: кто-то с похмелья руки дрожат так, что буквы пляшут, а Михаил – нет. Даже если вчера перебрал, утром всё равно за дело берётся, не филонит. А трезвый – вообще золото, не работник, а загляденье. От станка не оторвёшь.