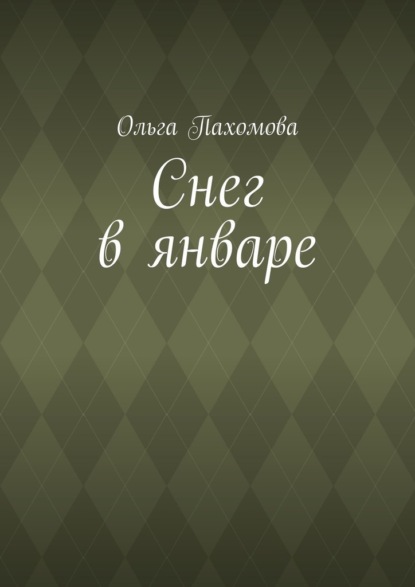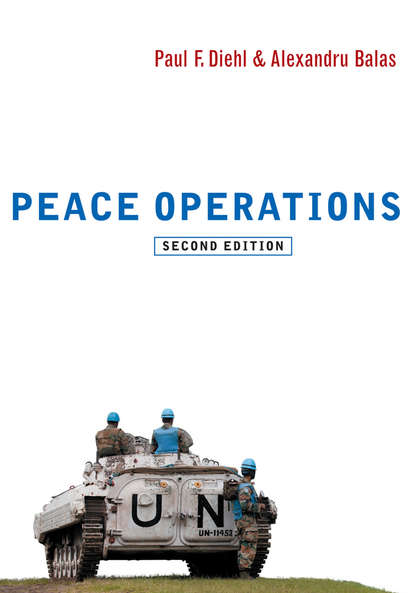- -
- 100%
- +

Час, когда Господь отвращает лик
Деревня Зарёвка, затерянная в дремучих, ещё не до конца покорённых крестом лесах Ростовского княжества, дремала под палящим июльским солнцем, будто под гнётом невидимой длани. Воздух был густым, как кисель, им было тяжело дышать, и каждый вздох обжигал горло. Крест на новом, срубленном год назад храме Покрова Богородицы – ещё пахнущий смолой и свежим тесом, но уже покрытый первыми трещинами, – отбрасывал короткую, утопшую в пыли тень, беспомощную и неспособную укрыть даже воробья.
Воздух над улицей, утоптанной множеством босых и лапотных ног, колыхался, словно жидкое олово, превращая дальние избы в зыбкий мираж. От края села тянуло сладковатым душком, смешанным с терпким ароматом конского пота и дымом тлеющих в печах углей. Пыль, поднятая утренним гоном скота к водопою, давно осела, и теперь каждый лист на придорожных лопухах и крапиве был покрыт её серым, удушающим налётом, словно седым прахом.
Улицы вымерли – даже бродячие псы, эти вечные бродяги, попрятались в глухой тени под сараями, тяжело дыша, высунув длинные, мокрые от жары языки. Из-под полуразвалившегося забора на Настю смотрел худой, покрытый паршой котёнок; его глаза были мутными от голода и жары, и он даже не имел сил испугаться. Лишь несчётная рать кузнечиков трещала неумолимо и монотонно в поблёкшей, выжженной траве, словно отсчитывала последние секунды этого застывшего мира, да изредка доносилось ленивое, сонное мычание коровы за околицей, у речки.
В такую пору каждый здешний житель, хоть и крещёный, от мала до велика, знал – с одиннадцати до трёх лучше сидеть в прохладной темноте избы, за плотно закрытыми ставнями, с мокрым, холодным полотенцем на голове. Не время для людских дел – время полуденной нечисти, когда, по старым поверьям, по земле ступает Сам Полуденник, и духи старых богов, что прятались в корнях дубов и в глубинах лесных омутов, просыпаются и шепчут из-под земли.
Анастасия плевала на эти глупые суеверия, доставшиеся от тёмных предков. Она, в отличие от них, знала буквы, умела читать по складам Псалтырь, и дьячок в городе говорил, что вера – в сердце, а не в страхе перед лешим или домовым.
Она сидела на скрипучих, горячих от солнца ступеньках бабушкиной избы, подставив лицо слепящему свету, будто бросая вызов самому небу. Доски под ней были шершавыми, истерзанными временем и множеством ног; в щелях между ними росли жёсткие травинки, тоже покрытые пылью. Солнечные лучи прожигали тонкую домотканую поньковую ткань платья, согревали кожу приятным, хоть и обжигающим теплом. Рыжие, словно раскалённая медь, пряди выбивались из-под поношенного холщового платка и липли к влажному виску. Веснушки на переносице и скулах, обычно бледные, теперь потемнели и проступили на загорелой коже, как рассыпанная корица.
В длинных, тонких пальцах она вертела сорванный стебель полыни – его горький, пыльный запах, запах древних степей и забытых божеств, смешивался с ароматом нагретой смолы и древесины. Бабушка настаивала, чтобы Настя носила его за пазухой, «от сглазу и лиха», но девица, наученная грамоте городским дьяком, лишь с раздражением теребила упругий ветвистый стебель. Она поднесла его к носу, вдохнула эту горькую пыль, и ей почудилось, что это не просто запах травы, а самый дух этой земли – суровый, неласковый, не желающий забывать своё языческое прошлое.
– Не ходи в поле в полдень, дитятко, – донёсся из полумрака сеней хриплый, старческий голос, похожий на шорох сухих листьев. И тут же, оттуда же, пахнуло на Настю прохладным дыханием подполья, запахом сушёных грибов, лечебных трав и старого, намоленного дерева.
– Не ровен час… В это время и Господь отвращает лик свой, и солнце-батюшка гневается. Не время для живых. – Голос бабушки Агафья плыл из полумрака сеней, густой, как смола, и такой же вязкий.
Бабушка Агафья, потомственная знахарка, чей род уходил корнями в те времена, когда по этим лесам ходили волхвы, сидела за массивным дубовым столом, все ребра и сучки которого были истёрты до гладкости её локтями и ладонями за долгие годы труда. Перед ней лежала груда сушёных трав, наполнявшая горницу густым, сонным ароматом – пьянящей мяты, горькой полыни, душистого чабреца. Луч солнца, пробившийся сквозь щель в ставне, резал полумрак комнаты, освещая миллионы пылинок, кружащих в воздухе, словно золотую пыль, и выхватывая из темноты её руки. Её морщинистые, узловатые пальцы, похожие на корни старого дерева, ловко и методично отделяли зверобой – «траву от ста недуг» – от ромашки, а сама она безостановочно бормотала что-то под нос – странную смесь из слов церковнославянской молитвы и древнего, дохристианского заговора, в котором мелькали имена «Полудницы» и «Ржаницы», что стережёт колосья. Казалось, сам воздух в горнице был пропитан этим двойственным знанием – и крестом, и древним обережным узором, вырезанным на притолоке.
– Опять про свою Полудницу? – Настя брезгливо скривила полные губы. От резкого движения платок съехал набок, и рыжие волосы, будто живые, вырвались на свободу, вспыхнув на мгновение в солнечном луче медным пожаром. – Да нет её! Бабкины сказки! Ныне вера одна, Христова, а вы всё про дедовских бесов да духов! – Её слова, громкие и резкие, казалось, с силой ударились о низкие, закопчённые потолки и глиняный пол, поглощавший звуки.
Бабушка медленно подняла на неё тёмные, как потухшие угольки, глаза. В их глубине, казалось, хранилась память веков, знание такой Руси, какой её уже не помнили ни летописцы, ни попы. Взгляд её был тяжёлым и влажным, как речной камень, и Настя невольно отвела глаза, делая вид, что поправляет сбившийся подол.
– А кто, по-твоей грамоте, унёс Авдотью Панкратову, что по спелой ржи пошла? Словно ветром сдуло с межи. Следов никих. – Бабушка на мгновение замолкла, давая тишине впитать ужас этих слов. – Или Фёдора-кузнеца, что железо в степи, у старого капища, ковать ходил? Силушища с него лошадиная была, а в одночасье испарился. Нашли только молот у дороги… раскалённый, будто только из горна. Она протянула руку и провела пальцем по лезвию ножа для трав, лежавшего на столе. Лезвие тускло блеснуло. Жест был полон невысказанной угрозы, отсылки к тому самому раскалённому железу.
– Сбежали они, наверное. В город, в Суздаль аль в Ростов! – с вызовом сказала Настя, но её голос прозвучал чуть менее уверенно, чем хотелось бы. Слова застряли комом в горле, потому что она и сама помнила Авдотью – румяную, с грудным колокольным смехом, и Фёдора – приземистого и молчаливого, как гранитный валун. – Кто здесь, в этой глуши, с медведями да лешими, оставаться захочет?
– Без вещей? Без скарба? С пустыми руками? – Бабушка хмыкнула коротко и сухо, словно скрипнула засушенная былинка. – Их всем миром искали. И княжьи дружинники проездом допытывались. И не нашли. Ни Aвдотьиного платка, ни Фёдоровой кузницы. – Она отодвинула пучок зверобоя и облокотилась на стол, приблизив к Насте своё лицо, испещрённое морщинами, как старинная карта. – Только в поле, на том самом месте… трава будто молоком кипящим ошпаренная лежала, кругом. И больше на том пятне ни травинка, ни былинка за три года не выросла. Голая земля, как струп
Настя с силой закатила глаза, демонстрируя своё презрение к этим нелепицам, но внутри у неё ёкнуло – коротко и неприятно, будто лопнула струна в глубине живота. Эти деревенские страхи, которые все здесь, под ликом церковным, принимали за чистую монету, уже достали её. Она видела, как по воскресеньям мужики и бабы истово крестились на новый крест, а вечером того же дня тайком несли бабке Агафье узелок с яйцами или горстку крупы, чтобы та «отвела худо» от дома или скотины.
Вчера у колодца тётка Дарья, озираясь на храм, шепталась с соседкой, что у Петрача корова «огневицей объелась» – стояла в поле, как идол каменный, глаза стеклянные, пока бабка не окропила её водицей, освящённой в Покров, и не прочла одновременно и «Отче наш», и старый заговор, где имя Христа соседствовало с просьбой к «Матери-Сырой Земле» и «Ветру-Батюшке». А неделю назад Лёнька, пасший овец на лугу, прибежал обратно бледный, как холстина, весь в лихорадочной дрожи, и бредил про «деву в белом, что стелется по траве, как туман, а лик у неё – как жаркое солнце, смотреть нельзя». И самое жуткое, рассказывали, что на его левой щеке, с той стороны, откуда он увидел видение, наутро проступило странное розовое пятно, будто от легчайшего ожога.
– Чепуха, – громко и вызывающе проворчала Настя, больше для самой себя, пытаясь заглушить внутреннюю дрожь. – Бесовские наваждения. – Она с силой сжала в кулаке стебель полыни, и его горький сок выступил, прилипнув к пальцам липкой, пахучей смолой.
Но в глубине души, под слоем новой, как парча, веры и городского скепсиса, шевельнулось холодное, древнее, как сама эта земля, чувство. Оно было похоже на тот лёгкий озноб, что пробегает по коже, когда из-под яркого, но чужого креста неожиданно попадаешь в тень старого, замшелого капища – сыро, темно и пахнет тысячелетней тайной. Пахнет влажным мхом, гниющим дубом и чем-то ещё, чего нет в молитвеннике – медным привкусом крови, давно впитанной землёй, и дымом тех костров, что жгли не для Христа.
И этот холодок был сильнее её. Сильнее грамоты, выученной у дьяка, сильнее креста на груди. Он был старше. Он помнил голоса волхвов, ропот жрецов и шёпот тех, для кого лес, река и полдень были не творением, а живым, грозным божеством.
И от этого контраста – палящего солнца снаружи и леденящей душу, уходящей в глубь веков истории – ей стало не по себе. Солнце за спиной вдруг показалось не дружелюбным светилом, а всевидящим, гневным оком, а тень от избы – не убежищем, а ловушкой, где таится нечто, что не признаёт ни крестов, ни молитв. Что было здесь всегда.
Деревенские будни
Бабушкин дом стоял на самом краю Зарёвки, у кромки бескрайнего ржаного поля, словно последний форпост против неведомого, что таилось в колышущихся стеблях. Отсюда, с порога, открывался вид на пригорке, темнел зубчатый частокол леса – владения лешего, куда без нужды и крепкой молитвы на устах не суйся. Старые, почерневшие от времени и дождей брёвна, тёплые и шершавые под ладонью, как кожа древнего существа, хранили дневное тепло даже глубокой ночью. Между ними в трещинах ютился мох, мягкий и влажный, а из-под самого фундатора буйно лезла крапива, будто сама земля пыталась поглотить это человеческое жилище.
В горнице, в красном углу, рядом с потемневшей от лампадного масла иконой Спаса Вседержителя с строгими, скорбными глазами, взиравшими на мир с немым укором, висел большой, истлевший по краям пучок полыни – «от лиха и наваждения». Но был там и другой, почти невидимый оберег – на одной из балок-матиц у порога чьей-то давней рукой был вырезан старинный символ, похожий на солнце с загнутыми лучами. Его не уничтожили, а лишь слегка зарубили топором, но знак всё ещё проступал из древесины, словно шрам. В низких, потрескавшихся сенях густо пахло сушёной мятой, земляным полом и парным молоком, стоявшим в глиняных крынках. Этот запах был таким же древним и плотным, как сама жизнь здесь. А на кухне, на лавке у двери, всегда стоял тяжёлый, обвитый влажным холстом глиняный кувшин с ключевой водой – бабушка шептала над ним старославянские слова, смешанные с молитвой, и говорила, что это «от зноя и нечистого духа». Вода в нём всегда была ледяной, даже в самый солнцепёк, и, отпивая, Настя чувствовала, как холодная струя стекает по горлу, до самых пяток.
По утрам, едва первые лучи солнца, ещё робкие и косые, пробивались сквозь запотевшие стёльки, украшенные причудливыми узорами инея даже в июле, Настя, зевая и спотыкаясь о порог, помогала бабке доить козу Машку – упрямую, вонючую тварь, которая вечно норовила лягнуть ведро, блеяла и бодалась. Тёплое, пенистое молоко звонко струилось в подойник, а в сарае стоял густой запах навоза, сена и животного пота. Потом, взвалив на плечо оглоблю с двумя пустыми вёдрами, отполированными до блеска руками многих поколений женщин её рода, она брела по росе к колодцу-журавлю. Роса на траве была холодной и обжигающей, словно слезы ночи, а с ржаного поля доносился влажный, хлебный дух. Там уже собирался деревенский «вече»: тётки в выцветших понёвах, с платками, накрепко повязанными под подбородком, обсуждали последние сплетни, перемежая их вздохами и крестными знамениями, которые они творили широко и размашисто, будто отгоняя незримых мух: у кого муж «до зелёного змия запил», у кого дочь «ночью с гулянья пришла», а у кого в хлеву «кикимора по ночам опять лапти плетёт, всю скотину смущает». И всё это – под скрип журавля, набирающего из глубины земли чистую, студёную воду, в которой, как в тёмном зеркале, отражались их усталые, обветренные лица.
Днём наступала пора прополки огорода – бесконечной, нудной борьбы с лебедой и мокрицей. Спина ныла от постоянного сгибания, под ногтями забивалась чёрная, жирная земля, а солнце припекало макушку сквозь платок. Бабка Агафья, стоя на коленях на меже, её пальцы, похожие на корни, с лёгкостью выдёргивали сорняк с корнем, строго следила, чтобы Настя не ленилась, не разгибала спину:
– Ты что, думаешь, капуста сама, силой крестною, вырастет? А репу-пострелу, нашу кормилицу, кто из земли таскать будет по осени? Ангелы с небес сойдут? Или, может, новый батюшка из города, в ризах парчовых, за тебя грядки полоть станет?
– Да я же вчера до самых сумерек полола! – огрызалась Настя, вытирая пот со лба грязной рукой, оставляя на коже тёмную полосу. Ей хотелось крикнуть, что в городе, у дьяка, она переписывала буквы на чистый пергамент, а не копалась в грязи, словно последняя холопка. Но слова застревали в горле, потому что бабкина правда была прочнее и древнее любой грамоты – правда земли, которую нужно было заслужить тяжким трудом, капля за каплей, словно милость нового, но такого же строгого Бога.
– Вчера – не сегодня. Вчерашней молитвой сегодня не спасешься, – отрезала бабка, и в её голосе звучала не просто старческая ворчливость, а нечто более древнее, закон природы, гласящий, что выживает лишь тот, кто борется за каждый колос. Она провела рукой по листьям капусты, и с её ладони на землю упала гусеница, которую она безжалостно раздавила босой, мозолистой пяткой. – И сорную траву, и лихую долю с утра пораньше вырывать надо, покуда корень в землю не ушёл.
После – скудный обед: грубый, кисловатый чёрный хлеб, выпеченный ещё на той неделе и заветревшийся до состояния камня, похлёбка из крапивы да щавеля, варёная репа, иногда яйца, если куры, «господни птицы», не ленились. Ели молча, под мерное тиканье сверчка за печкой и далёкий лай собак. Бабка ела медленно, почти ритуально, пережёвывая каждый кусок, будто боялась подавиться костью или невысказанной мыслью. Каждую крошку хлеба она подбирала с грубого стола и отправляла в рот, осеняя себя крестом перед едой и после. Настя же торопилась – ей нестерпимо хотелось сбежать к подружке Катьке, чтобы послушать её россказни, про парней, про песни, про то, что творится за околицей, в большом, незнакомом мире, но бабка не отпускала, хватая её за рукав костлявыми, но цепкими пальцами:
– Посуду, раба Божья, сначала перемой. Да пол, где святые углы, подмети. Негоже сору в божьей избе оставаться. Нечисть, она, милая, в пыли селится да в забытой крошке.
Вечером наступало самое снотворное время: бабка садилась на свою любимую лавку у печи, на том самом месте, где дерево просидело лунку от бесчисленных ночей, и принималась прясть шерсть. Монотонное жужжание веретена, кружащегося в полутьме, словно паучий кокон, смешивалось с треском лучинки в светце, отбрасывающей на стены гибкие, пляшущие тени. Настя же должна была, щурясь в полумраке, перебирать в большом лотке пшено-ядрицу, выковыривая из неё мелкие камушки и чёрных, сонных жучков. Зерно было прохладным и шершавым, оно шепталось, пересыпаясь сквозь пальцы, и этот монотонный шелест усыплял, как колыбельная. Иногда, если повезёт и бабка клевала носом, а веретено выскальзывало из её ослабевших пальцев и с глухим стуком падало на пол, можно было улизнуть на речку, послушать, как парни с соседней деревни играют на жалейках, и их тоскливые, пронзительные звуки неслись над водой, смешиваясь с запахом влажных ольховых веток и дымком костров. Но чаще старуха, будто чувствуя её порыв, находила новое занятие: то крапивы для кроликов нарубить, да так, чтобы руки потом горели огнём, то прохудившийся зипун починить заплаткой. Иголка тупо входила в грубую ткань, Настя укалывала пальцы, а на них выступали капельки крови, тёмные, как спелая брусника.
– Ты что, думаешь, я одна, старая, всё делать должна? Словно свеча пред иконой, догорать? – ворчала она, не отрывая взгляда от тонкой нити, бегущей из кудели. Её фигура в полумраке казалась вырезанной из самого тёмного дерева, неотделимой от избы и этой ночи.
– Да я же не раба твоя! – огрызалась Настя, чувствуя, как гнев подкатывает к горлу. – В городе люди по-иному живут! Там у девиц руки в иголках не исколоты, а платья не из грубой поньки!
– А я, значит, раба? Раба твоя да деревенская? – голос бабушки становился тихим и острым, как лезвие ножа. – Мы все рабы Божьи, дитятко. И у каждого крест свой. Мой – эту избу до гроба держать, твой – свою долю найти, не заплутав в трёх соснах. А городской твой дьяк, он тоже раб – своей грамоты да своей гордыни. Никто на этом свете вольным не ходит. Разве что птица небесная… да и та от ястреба в кусты прячется.
Споры эти, как правило, заканчивались тем, что Настя, ворча и топая ногами, всё равно делала, что велели. Она швыряла вёдра у порога с таким грохотом, что вздрагивала спящая на полатях кошка, и так грубо мела пол, что пыль столбом поднималась к закопчённому потолку. Но в душе, под грубой домотканой рубахой, копился молчаливый, упрямый бунт против этого уклада, против этой земли, что держала её цепкими корнями лебеды. Она чувствовала себя птицей, попавшей в силок, – чем больше билась, тем туже затягивались на её ноге невидимые путы долга и родства.
Иногда, глубоко за полночь, когда Настя притворялась спящей, затаив дыхание под грубым рядном, бабка, стоя у темного окна и глядя в сторону поля, начинала разговаривать сама с собой – то ли с домовым, то ли с духами предков, то ли с давно умершим дедом, чей образ сливался в её сознании с былинным богатырём. Стекло в окне было мутным, волнистым, и луна за ним расплывалась слепым, молочным пятном.
– Опять она пошла… по краю… – чуть слышно шептала Агафья, и в её шёпоте был леденящий душу ужас, густой, как деготь. – Опять в поле зовёт… на свою жниву… Кости собирать…
– Кто, баба? Кто зовёт? – не выдерживала Настя, приподнимаясь на локте. Сердце её стучало где-то в горле, громко и неровно.
Бабка вздрагивала, будто пойманная на краже, и резко оборачивалась, её лицо в отсветах лучины казалось вырезанным из старого, пожелтевшего дерева, а глаза были пустыми и бездонными, как ночное небо.
– Никто. Не твоё дело. Духи ночные бредят тебе. – Она сделала резкий, отгоняющий жест рукой, словно отмахиваясь от невидимого роя. – Иди-ка, воды свячёной принеси, спрысну углы. Да смотри, по дороге не обернись, кто позади тебя шёпотом кличет.
Но Настя знала – бабка боится. Не вымышленного, а чего-то настоящего, что жило тут испокон веков, чего не смогли изгнать ни кресты, ни молитвы. Это было знание, впитанное с молоком матери, с запахом этой земли, с шепотом листьев в непогоду. И этот немой, древний страх, который был старше самой веры, пугал её больше всего. Он был фундаментом этого мира, и всё здание новой жизни казалось хлипкой постройкой на вековых костях.
По дороге к колодцу Настя встретила соседку Фёклу, краснолицую и вспотевшую, которая, пошатываясь, тащила на коромысле полные, расплёскивающие воду вёдра. Деревянные ведра скрипели жалобно, а на землю падали тяжёлые, тёмные капли, тут же впитываясь в сухую, растрескавшуюся почву.
– О, Настька, раба Божья! – крикнула та, останавливаясь передохнуть и с шумом вытирая пот с лица подолом запачканной понёвы. – Слышала, у Лукерьи с утра корова Бурёнка сбежала? Всё село на ногах, ищут! А та, проклятая, следов не оставляет, будто сквозь землю провалилась!
– Опять? – Настя брезгливо скривилась. – Да она у неё каждую седмицу, словно по заговору, убегает. Ищет, видно, травы заговорённой, что ли.
– Ага, а вчера Петрович, наш грешный, с похмелья-то тяжкого, в овраг, что за околицей, свалился. – Фёкла понизила голос до конспиративного шёпота, и её глаза округлились. – Так орал, милая, будто его нечистая сила живьём на том свете жарит! Говорит, видел её – деву в белом, с косой до пояса, и лицо у неё – сплошное пламя! – Фёкла истово перекрестилась, сгоняя с лица пот и наваждение разом, зажав между пальцами сложенную троеперстием щепоть и прикладывая её ко лбу, животу и плечам.
Деревенские сплетни текли медленно, как густой мёд, но Настя уже знала – к вечерней зау́рене вся Зарёвка будет смаковать историю о том, как Петровича «не сам чёрт, а полуденная дева в овраг заманила, с пути сбила». И в сумерках, у колодца, за плотно закрытыми ставнями, этот рассказ обрастёт новыми страшными подробностями: и про холодный ветерок среди зноя, и про шёпот из-под земли, и про то, что на дне оврага нашли след – один-единственный, будто от босой ноги, странно вытянутый и холодный, как лёд, даже на солнцепёке. И в этих разговорах, при всей их кажущейся глупости, проступал тот самый древний, двоеверный ужас, против которого её городское неверие было таким же хрупким, как стебель полыни, что она сломала и бросила под ноги, и который теперь безжалостно втаптывался в пыль множеством босых и лапотных ног.
Вечерние посиделки
Бабушка Агафья не отпускала Настю со двора до тех пор, пока солнце, огромный раскалённый денница, не начинало клониться к зубчатому краю леса, отбрасывая длинные, усталые тени, которые протягивались через всю деревню, как холодные пальцы. Эти сиреневые полосы ложились на землю, поглощая дневной зной, и от них веяло сыроватой прохладой, пахнущей мокрым песком и спящей крапивой. Последние косые лучи цеплялись за соломенные крыши, превращая их в золотые покровы, золотили пыльные, утоптанные дорожки между избами и заставляли куриться лёгким паром влажную землю у колодцев. Сам воздух словно густел, наполняясь невидимой жизнью: в нём танцевали мошки, собравшиеся в клубящиеся облачка, и слышалось последнее, сонное жужжание пчёл, возвращающихся в ульи. Он становился густым, сладким и тяжёлым, пропитанным запахами нагретой за день глины, скошенной и уже начавшей преть у заборов травы, и едким, душистым дымком от разожжённых вечерних печей, в которых уже пыхтели глиняные горшки с варевом. Этот дым, вкусный и наваристый, пах будущей похлёбкой, луком и жирной бараниной, и он медленно стелился по Зарёвке, словно призывая всех к домашнему очагу.
– После пяти, когда солнце-батюшка на покой, иди, если охота смертная, – ворчала старуха, не отрываясь от своего занятия. Её корявые, узловатые пальцы, покрытые синими прожилками, как мхом старый дуб, ловко и бережно перебирали пучки сушёной мяты, раскладывая их на грубом, небелёном холщовом полотне. Каждое движение её рук было отточенным и полным смысла – это был не просто труд, а некий древний ритуал, передававшийся от матери к дочери, знание о том, как удержать здоровье и отогнать хворь силами земли. Запах стоял терпкий, горьковато-сладкий, пьянящий, он смешивался с острым духом развешанных по углам пучков зверобоя – «молодильной травы» – и чабреца, которым окуривали избу от дурного глаза. В этом ароматическом клубке переплетались не просто растения, а целые пласты верований: христианское смирение перед болезнью и языческая, могучая вера в силу кореньев и стеблей. В красном углу, под иконой, тускло поблёскивал медный складень, отражая в себе кривое, дрожащее подобие комнаты, а за печкой, в темноте, чуть слышно шуршала солома – может, мышь, а может, и домовой, к которому бабка с вечера всегда ставила мисочку с парным молоком, густым и желтоватым, с плавающими на поверхности жирными сливками.
Настя сидела на самом краешке дубовой лавки, протёртой поколениями до гладкости, подпирая щеку загорелым кулаком, и косилась на низкую, притворённую дверь, за которой уже слышался отдалённый, заливистый смех ребятишек, зовущих её к реке на вечерние купания. Сквозь щели в косяке пробивались соблазнительные звуки жизни: всплески воды, крики перегонок, далёкий, залихватский напев жалейки. Нога её, обутая в поношенные лапти, непроизвольно дёргалась, будто живая, готовая в любой момент сорваться с места и понестись на этот зов. Она вздыхала так громко, выразительно и протяжно, что, казалось, от её вздохов колышется пламя в глиняной светильне, бросая на стены гибкие, насмешливые тени, пока бабушка, наконец, не выдержала и не махнула на неё рукой, чьи пальцы пахли травами и дымом: