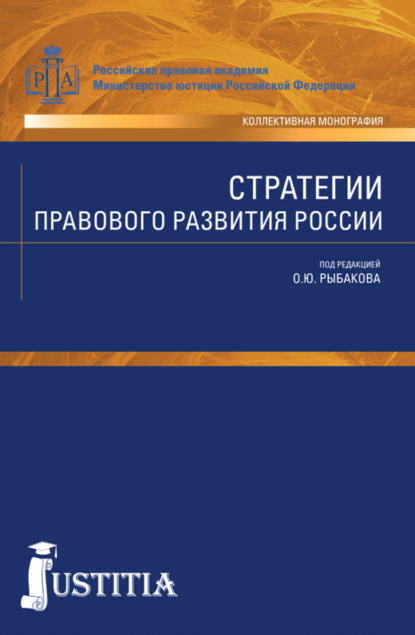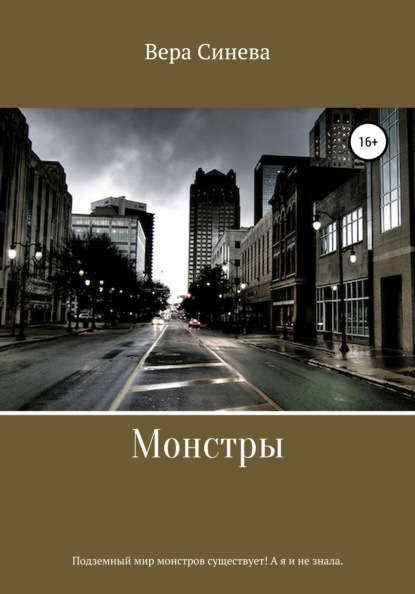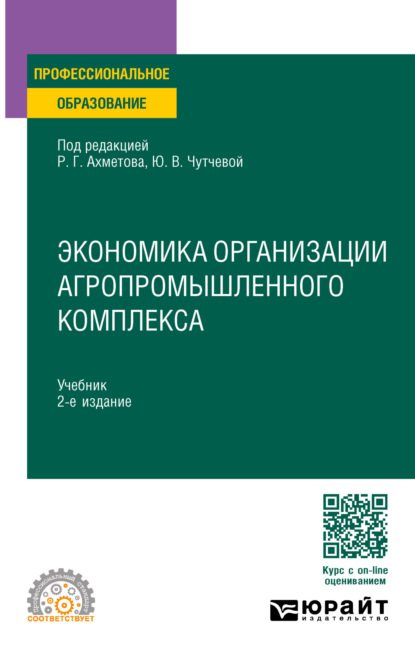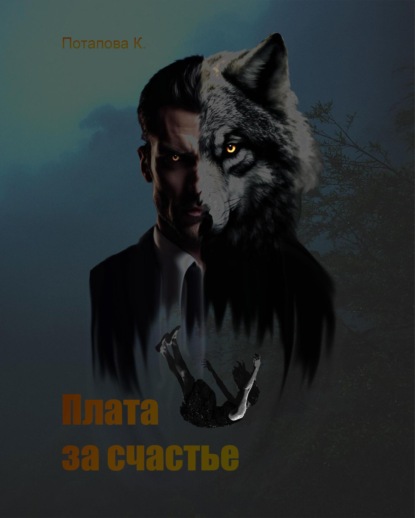Путь к морю, которого нет
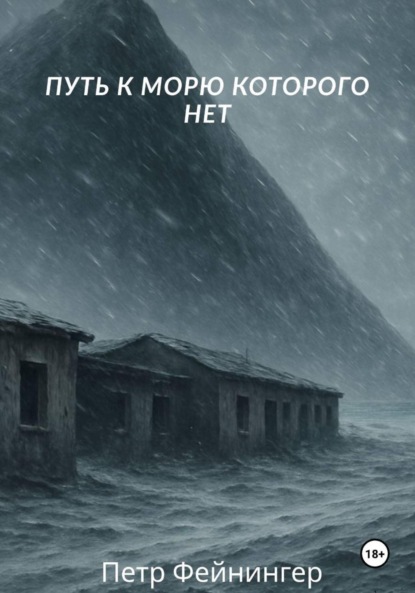
- -
- 100%
- +

Эта книга – написана в первую очередь как дань памяти поколению, которое родилось в конце пятидесятых, начала шестидесятых годов прошлого столетия в стране, которой больше не существует. Многие из которых прожили короткую, но яркую жизнь. В книге я рассказываю историю своей жизни и о тех, кто был мне близок, – для того, чтобы те, кто еще жив, могли вспомнить о своей молодости, а их дети и внуки узнать немного о том, в какое время жили их отцы и матеря, дедушки и бабушки. Тебе, дорогой читатель, предстоит судить, удалось ли мне достичь этой цели или нет.
Глава
Воспоминания детства
Старуха с «бородавкой»
Когда пытаюсь вспомнить свои первые детские годы, на ум сразу приходит один случай. Был я тогда совсем малышом – может, три или четыре года, и жили мы тогда в «Старом городе», в скромной землянке. Была осень, на дворе быстро темнело, и, наигравшись с детьми на соседской улице, я возвращался один домой по глубокой и дождями размытой колеи дороге. Остановившись чтобы поглазеть на каркающего ворона, сидевшего невдалеке на столбе, я тут же неожиданно увяз в липкой глине. Пытаясь выбраться, я изо всех сил старался сдвинуться с места, но всё было напрасно. На мне было короткое, старое пальтишко, а на ногах – огромные, явно не моего размера, мамкины резиновые сапоги. Порывы холодного ветра и сырость проникали до костей, меня охватил озноб, я весь задрожал и вдруг ощутил острое чувство одиночества и невыразимый страх. В этот момент появился наш дворовый пёс Шарик. Он ласково прижался ко мне, и я, обрадовавшись его присутствия, обеими руками вцепился в его густую шерсть, ощущая хоть каплю тепла и живой поддержки рядом. И вдруг я заметил, как со стороны терриконика по направлению ко мне, согнувшись и опираясь на палку, приближается старуха, которую все вокруг называли «ведьмой». Она жила отшельницей в низкой, почти полностью провалившийся под землю «норе-землянке» на самом краю нашего района, известного как «Шанхай». Люди рассказывали будто она часто появлялась на болоте и вылавливала там пиявок сачком, а иногда по ночам видели ее на кладбище, где она ходила среди могил и шепталась с мертвецами. Когда мы с мальчишками играли на улице, всегда старались держаться подальше от её «развалены». И вот теперь, когда я смотрю как эта «ведьма» направляется в мою сторону у меня от страха перехватило дыхание. Я вижу, как по раскисшей глиняной жиже она с трудом ковыляет в своих галошах, едва передвигая ноги, правой рукой опираясь на палку, а левой – машет, будто гребет по воде. В охватившей меня панике я отчаянно пытался вырваться из трясины и убежать прежде, чем старуха доберется до меня, но все попытки были тщетны – я словно прирос к земле… Старуха была уже совсем близко, я мог разглядеть ее лицо: из-под темного платка выглядывает седая прядь волос, мне показалось что в ее глазах мелькнула злобная искра, губы беззубые, а на носу у нее огромная уродливая бородавка, похожая на спелую ягоду крыжовника. Я слышу её тяжёлое дыхание, сиплый голос, который шепчет: «Погодь, малец, сейчас я тебе помогу…» Даже Шарик, обычно смелый, при виде старухи поджал хвост, перестал лаять и лишь жалобно стал скулить, прижимаясь ко мне всё крепче. Старуха уже была совсем рядом, и, казалось, вот-вот цапнет меня своими кривыми пальцами…. Охваченный жутью и покрытый мурашками, я не стал ждать, пока «ведьма» коснется меня своей костлявой кистью, и одним махом выпрыгнув из мамкиных сапог, я босиком, не чувствуя ни холода, ни вязкой грязи, со всех ног бросился на утек к дому…. В тот момент моя грудь разрывалось от бешеного стука сердца. С тех пор, каждый раз, когда мне очень холодно и моё тело пробивает дрожью, особенно когда с холода залезаешь в ванну наполненной горячей водой и покрываешься мурашками, мне непроизвольно приходит на память тот случай из моего далекого детства, переживая вновь, то моё состояние. Меня не отпускала эта история с “ведьмой”, и уже повзрослев, я специально разыскал людей, которые когда-то жили в тех же местах и могли вспомнить эту старуху и рассказать о её судьбе. С удивлением я узнал, что за пугающей внешностью, ее поведением и слухами – скрывалась трагическая судьба: эта женщина в прошлом была женой одного из советских партийных руководителей, которого в 1937 году расстреляли. Она сама оказалась узницей лагеря для членов семей "врагов народа" – ЧСИР, который располагался в Спасске, неподалёку от Караганды, где она родила сына. После лагеря она вернулась в наш район и жила с сынишкой в землянке. Однажды эта женщина задумала постирать бельё, и для этого ей необходимо было натопить печку и согреть воду. Когда большой таз с водой закипел, она осторожно сняла его с горячей плиты и поставила на пол. В этот момент во дворе залаяла собака и во двор зашёл кто-то из соседей. Женщина впопыхах вышла во двор чтобы узнать, кто пришёл, и тут из дома вдруг донёсся детский крик. Когда она вернулась обратно, ее ждало ужасное зрелище: ее маленький сын лежал в тазу с кипящей водой. В отчаянной попытке его спасти, она бросилась к емкости, схватила мальчика и вытащила его, но было уже слишком поздно— при этом сама получила сильные ожоги. Горе матери не было предела – и если врачи смогли хоть как-то залечить её физические раны, то душевные – после утраты сына – так и остались открытыми, надломив её навсегда. На самом деле, то, что все принимали за бородавку на носу этой старухи, было не чем иным, как следом от ожога и неудачно сделанной операции.
ФокусВ Старом городе, рядом с нашей землянкой, как уже упоминалось находился магазин, который все называли «Дежурным». Это было типичное советское заведение, подобные которому, наверное, и сейчас можно встретить в сельской местности, которые называются «Сельпо». В нашем Дежурном магазине в основном продавались продукты питания, а также самые необходимые вещи вроде хозяйственного мыла или стирального порошка «Айна», названия который до сих пор помню.
Входишь в магазин – и сразу оказываешься перед прилавком, за которым стоят и обслуживают пышнотелые тёти-продавщицы в белых халатах и накрахмаленных колпаках, перед ними на столе – деревянные счёты и механические весы с гирями. Справа от них стояла стеклянная витрина со льдом: в отсеках лежала мороженая рыба, крупные куски мяса, колбаса, курица, сало и молочные продукты. Справа на полках лежал хлеб, батоны, сушки, конфеты и прочие сладости, которые особенно притягивали нас, детей. На обоих концах прилавка были деревянные перекладины, которые продавщицы подымали, для того чтобы выйти в фойе к покупателям. Зимой мы с мальчишками часто забегали в этот магазин погреться, и продавщицы, работавшие там, хорошо знали нас и разрешали немного погреться внутри.
Однажды, незадолго до наступления Нового года, в наш «Дежурный» магазин привезли необычный товар – замороженные сливы, в брикетах. Новость об этом быстро разнеслась по всему Старому городу, и люди потянулись к магазину, надеясь успеть купить хоть что-то из фруктов к праздничному столу. К вечеру у входа выстроилась длинная очередь – все ждали по нескольку часов, терпеливо дожидаясь каждый своего момента переминаясь с ноги на ногу женщины кутаясь в платках и перешёптываясь о грядущем празднике. Атмосфера была напряжённой: каждый боялся, что ему не достанется желаемых слив, а время шло медленно и мороз крепчал.
Когда продавщица, уставшая и с красными от холода руками, наконец объявила, что сливы заканчиваются, в толпе вспыхнула ссора. Недовольные и разгорячённые люди начали ругаться, некоторые стали толкаться, и вскоре перепалка переросла в настоящую драку. Крики и шум дошли до соседних улиц, и, чтобы унять разъярённых покупателей, пришлось вызывать милицию. Эта история ещё долго обсуждалась в округе, став очередным поводом для разговоров на лавочках у молодых и пожилых женщин.
В другой зимний день, когда снег покрывал улицы лёгким белым покрывалом, мы с соседскими ребятами, как обычно, бегали, играя в снежки и устраивая догонялки по сугробам. В тот день мой брат – всего на полтора года старше меня, но уже прославившийся среди детворы своим озорством и бесконечными выдумками – вдруг предложил: «Пойдёмте, покажу вам фокус!» Все с радостью согласились, потому что никто не умел веселить нас так, как он. Мы гурьбой двинулись за ним, предвкушая что-то необычное.
Вместе мы забежали в наш привычный «Дежурный» магазин, где в фойе находилось несколько покупателей, одна продавщица была где-то в подсобке занята, а другая их обслуживанием, а мы, частые гости, не вызывали особого подозрения. Детское любопытство разгорелось – все ожидали, какой же фокус придумал мой брат на этот раз.
«Теперь все закройте глаза и не подглядывайте, иначе фокус не получится», – весело сказал мой брат, и мы послушно подчинились. Прошла минута-другая, он что-то таинственно пробормотал, вроде «Карамба Марамба Чигрики Мигрики», а затем, досчитав до десяти, разрешил нам открыть глаза. В его руках оказалась плитка шоколада, которую он с широкой улыбкой разломил и каждому протянул кусочек.
Улепетывая шоколад, все были в восторге от этого «фокуса», а мой брат смотрел на нас и гордился своим изобретением.
Когда каждый съел свой кусочек шоколада, мы все разом стали его просить, чтобы он повторил трюк. Он огляделся и убедившись, что никто не наблюдает за ним, и сказал «хорошо»: он попросил нас снова закрыть глаза и повернуться.
Я, не выдержав и от любопытства, повернул голову в сторону прилавка и приоткрыв один глаз и увидел, как брат ловко скользнул к прилавку, нырнул под стойку, где стоял ящик, и вытащил оттуда новую плитку шоколада. Как и в первый раз, он произнес какое-то волшебное заклинание, мы все дружно досчитали до десяти – и вот каждый снова держал в руках свой кусочек шоколада.
Всем так сильно захотелось продолжения праздника, что стали снова просить его показать фокус. Да и он, желая дальше упиваться славой непревзойденного мага, тоже не мог отказать благодарной публике.
Тем временем продавцы заметили что-то неладное и стали наблюдать за нами. Когда мы в очередной раз зажмурили глаза, а мой брат снова пригнулся под стойку и протянул руку к ящику, чтобы достать шоколад, продавщица с другой стороны прилавка резко схватила его за руку и крепко удерживая обеими руками.
«Ах ты воришка, теперь попался!» – громко выкрикнула продавщица. Мы с ребятами тут же все выскочили через дверь на улицу и бросились врассыпную, спрятавшись за углом магазина и затаив дыхание, ожидая, что же будет дальше.
Через несколько минут брат вышел на улицу – волосы его были растрёпаны, по лицу читалась смесь страха и смущения: видно было, что в магазине ему как следует прочитали нотацию и, возможно, даже слегка оттаскали за уши. Вслед за ним появилась продавщица, покрикивая, чтобы он больше не смел показываться у них, а потом отправилась к нам домой рассказывать обо всём маме.
«Вор»Если рассказ о «старухе с бородавкой» – самое раннее моё воспоминание из детства, то эта история стала для меня первым настоящим уроком морали. В то время у родителей было трое детей, и я был самым младшим из них и еще не ходил в школу.
В то утро, как и обычно, я проснулся, когда родители уже ушли на работу, а брат с сестрой отправились в школу.
Я нашёл на столе оставленный мамой для меня завтрак, поев, и, не зная, чем себя дальше занять, сидя за столом смотрел в сторону окна на улицу. Несмотря на то, что календарь сулил весну, она в Караганде всегда задерживалась – и во дворе всё ещё лежали сугробы, потемневшие от угольной пыли и покрытые ледяной коркой.
Пасмурное небо и серая мгла создавали ощущение осени, во дворе не было слышно детских голосов, и мне ничего не оставалось, кроме как коротать время в одиночестве дома. Я придвинул стул к окну, забрался на него и стал наблюдать, что происходит на улице: по проводам и забору прыгали воробьи, а редкие прохожие спешили по своим делам…
Серая мгла за окном нагоняла тоску, и я тихо, протяжно начал напевать песню, часто звучавшую по радио: «Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян…» Устав стоять у окна и томиться от скуки, я начал бродить по комнатам, заглядывая в разные уголки нашего дома – искал хоть какое-то занятие, сам не зная, чего именно хотел найти.
Мой взгляд остановился на шифоньере, который отец сколотил собственными руками и где нам, детям, лазить было строго запрещено. Я осторожно открыл дверцы: с одной стороны на полках лежало аккуратно сложенное бельё, а на другой висело одежда взрослых.
Поддавшись искушению, я начал шарить по карманам пальто родителей, которые висели на вешалке, и вдруг во внутреннем кармане одного из них нащупал сложенный листок – это оказалась десятирублёвая банкнота. Я был в полном восторге от своей «находки» и, долго не думая быстро одевшись, радостно побежал в центр «Старого города», к трамвайному кольцу.
Там, среди зданий, «пельменной», аптеки, книжного и других магазинов, всегда было оживлённо: возле бочки с пивом толпились шахтёры и работяги, закончившие ночную смену.
Тут же, возле трамвайной остановки, в любое время и погоду стояли женщины, продавая жареный шашлык, горячие манты, пирожки и другую снедь. Воздух всегда был наполнен аппетитными запахами… Я понимал, что держу в руке настоящие деньги – купюру, на которую можно было что-то купить. Но я еще не знал её формальной ценности и размышлял, на что потратить: купить ли аппетитные манты, что так вкусно пахнут, или соблазниться сладким петушком – карамельной фигуркой на палочке?
Пока я колебался с выбором, пожилая женщина в белом замасленном халате, продававшая манты, громко объявила очереди, что манты закончились и будут только позже, после обеда. Тогда я подошёл к бабульке, что, переминаясь с ноги на ногу от холода, громко выкрикивала: «Петушки! Сладкие, вкусные петушки!» Я протянул ей «бумажку» и попросил дать мне один леденец.
Старушка внимательно посмотрела на «червонец», затем огляделась по сторонам, будто проверяя, не смотрит ли кто за нами, и ловко спрятала купюру под фартук, в карман своей фуфайки. Она широко улыбнулась, протянула мне красного «петушка» и к тому же еще в придачу насыпала в ладонь горсть жёлтой мелочи – сдачу.
Я сжал сдачу в одной ладони, а в другой руке держал “петушок” и, радуясь, что у меня всё ещё остались деньги, сразу отправился через дорогу в магазин «Шолпан», где продавали детские игрушки. Когда я переходил дорогу, возле магазина остановился старик, который ехал на бричке запряженной лошадью.
Вокруг него собрались детишки с пустыми бутылками из-под лимонада, пива и др., меняя их он давал им взамен цветные глиняные свистульки, яркие мячики из опилок, завернутые в фольгу на резинке и другие поделки. Особенно меня заинтересовал блестящий пистолет с пистонами, который старик протянул одному мальчишке за бутылки. Я, заворожённый, стоял возле повозки, мечтая о таком же. Старик обратился ко мне: «Ну что, нет бутылок?» Я показал ему мелочь, которую держал в ладони. Он вздохнул: «Ладно, давай сюда!» Я отдал ему всю мелочь, а он с улыбкой протянул мне серебряный «револьвер», пугач, вылитый из олова и к нему несколько «патронов». «Когда закончатся пистоны – приходи с бутылками, дам ещё», – крикнул мне дед вслед, когда я, счастливый, переходил дорогу направляясь в сторону дома.
Когда я вернулся домой, я сразу прошел во двор, где стоял наш маленький сарай, в котором мы хранили дрова и уголь для печки. Свой «револьвер» я хорошо спрятал среди сложенных поленьев, а затем снова вышел на улицу играть с соседскими мальчишками.
Через некоторое время я услышал громкий голос отца, он звал меня домой. Это насторожило меня – обычно нас звала мама. В его голосе я уловил раздражение, и, когда вошёл в дом, увидел отца и нашу соседку тётю Зою, они вдвоем сидели у стола. Мама с братом и сестрой были в спальной комнате, дверь в которую была плотно закрыта.
На столе лежал мой пугач, а рядом – знакомая уже мне смятая купюра, что привело меня в замешательство.
Я взглянул на отца, заметив, как он устрашающе сверлил меня своим взглядом. Внутри у меня всё холодело от напряжения – казалось, сейчас он сорвётся, и как слон мышь растопчет меня от гнева…
Указывая на пугач и смятую бумажку денег, он спросил: «Это твоё?»
Я стоял и молчал. В тот момент мне больше всего на свете хотелось исчезнуть… Я подумал, что если сейчас закрою глаза и посчитаю до трёх, то обязательно растворюсь в воздухе. Я зажмурился и внутренне весь сжался. Медленно досчитав до пяти, я стал ощущать себя совсем крошечным …
Но когда медленно открыл глаза, с разочарованием понял, что я не растворился. Настроившись на худшее, я со страхом предвкушал яростное приближение урагана, которое меня вот сейчас настигнет и разорвёт на части.
Отец попросил тётю Зою повторить всё то, что она уже ему рассказывала, но теперь при мне, чтобы я услышал всю историю своими ушами.
Тётя Зоя посмотрела на отца, затем косо взглянула на меня, и, не упуская ни одной детали, подробно начала рассказывать всё с самого начала: как она ехала с работы на трамвае и случайно заметила меня у «Кольцевой». Когда она увидела, как я подошёл к старушке, торговавшей петушками, и протянул ей крупную купюру, у неё возникли подозрения, и она решила за мной проследить. Пока я переходил дорогу и приближался к телеге, где старик менял пустые бутылки на игрушки, тётя Зоя подошла к торговке петушками и стала расспрашивать о ситуации. Та, чтобы избежать лишнего шума, согласилась вернуть деньги – этот самый червонец. Тётя Зоя расплатилась за петушок и вернула сдачу, которую торговка дала мне, а потом всё время следовала за мной, наблюдая, как я иду домой, пересекаю улицу и прячу свою новую игрушку в сарае.
Отец внимательно слушал тети Зоин рассказ, а я стоял, опустив голову чувствуя, как с каждым её словом становится всё тревожнее на душе.
Когда она закончила, отец подошёл ко мне, развернул меня к себе и присел на корточки стал смотреть мне в глаза.
А затем спросил:
– Ты понимаешь, что сделал?
В его голосе звучал гнев. Не дождавшись ответа, он тряхнул меня и яростно крикнул:
– Смотри мне в глаза!
Его раздражение росло, и он стал сильнее сжимать мои плечи:
–Это были наши последние деньги, слышишь ты мерзавец. А до следующей зарплаты нам ещё больше недели пахать. Ты понимаешь это? Скажи тёте Зои спасибо, что она вовремя заметила тебя у этих мелких спекулянтов и смогла вернуть нам деньги.
Я поднял голову и неожиданно заметил, что тётя Зоя смотрит на отца с какой-то робкой улыбкой – так обычно смотрят друг на друга взрослые, когда между ними есть что-то особенное. Поняв, что я это увидел, она мгновенно изменилась в лице, и её взгляд стал строгим.
– Ты должен извиниться и поблагодарить тетю Зою! – снова закричал отец. Я не совсем понимал, за что, но, обращаясь к нашей соседке, тихо сказал: «Извините меня пожалуйста и спасибо вам большое».
После непродолжительной паузы отец задал вопрос:
– Скажи мне, вот зачем ты это сделал? Мне нужно знать, кто тебя этому научил?
Он кричал на меня повторяя снова и снова те же вопросы:
– Зачем и почему?
Я не понимал, что он от меня добивается, поэтому просто молчал, не решаясь произнести хоть слово.
– В нашем роду никогда не было воров, и всегда все честно зарабатывали деньги. Ты можешь представить, сколько труда и времени уходит, чтобы заработать 10 рублей? – Отец не унимался, становясь всё более агрессивным. – Ты ещё даже в школу не ходишь, а уже начинаешь воровать! Я не допущу, чтобы из-за тебя мне приходилось перед людьми краснеть и испытывать стыд.
Отец смотрел на меня, и я заметил, как его глаза стали мутнеть. Он ударил меня ладонью по щеке.
Затем он взял табурет, стоявший у стола, поставил его посреди комнаты и велел мне положить на него руки. Когда я это сделал, он с силой ударил меня резиновым шлангом по пальцам…
Я почувствовал острую боль, «как будто защемил пальцы в двери», и заскулил, как дворняжка, которую я однажды видел, когда пьяный мужик бил ее палкой…
Услышав мой крик, моя сестра и старший брат вбежали в кухню в испуге и со слезами на глазах, а мать закричала на отца: «Что ты делаешь, Ирод? Побойся Бога!?!»
– Пусть мерзавец запомнит на всю жизнь, что такое воровать и кто такой вор! – сказал отец. – Если когда-нибудь ещё захочет взять чужое, пусть посмотрит на свои пальцы и вспомнит этот день!
После такого «урока» мои руки на самом деле сильно распухли, пальцы стали похожи на надутые перчатки, а боль не отпускала меня ещё очень долго…
Но самое страшное – я перестал чувствовать отца близким для себя человеком!
Первый раз в первый классВ школу я пошел в 1967 году. Я помню первое сентября тот первый день начало календарной осени, ту праздничную атмосферу и то, как я был взволнован. Это было солнечное утро, когда мама с самого рассвета приготовила мне школьную форму – выглаженные черные брюки, пиджак такого же цвета и накрахмаленная белая рубашка. Когда я пришел в школу и увидел как все ученики выглядели нарядно, особенно девочки с большими белыми бантами в волосах – это производило особое впечатление.
На территории школы нас всех учеников выстроили по классам на так называемую «линейку» и образовался большой прямоугольник, в центре которого, рядом с флагштоком с красным флагом, стояли учителя вместе с учениками десятиклассниками, которые на следующий год будут покидать школу.
После торжественной речи директора школы, на середину вышел один из будущих выпускников, на плечах которого сидела моя будущая соседка по парте Таня с колокольчиком в руке, и после команды директора она начала энергично трясти его, и колокольчик зазвенел, символизируя для всех присутствующих, что прозвенел первый звонок нового учебного года. После чего по традиции все ученики, познакомившись со своим новым учителем, дарят ему букет цветов, приготовленный родителями. Я подарил своей первой учительнице, букет из цветов, в котором были так называемые «Бархатцы» на латыни «Tagetes» и чей аромат мне до сих пор очень приятен.
В свой первый день в школе я познакомился с чеченским мальчишкой по имени Вахид. В те времена ученики начальных классов в школы учились писать не авторучкой, а металлическим пером, которое насаживалось на длинную деревянную палочку и перед тем, как что-либо написать перо макали в чернила, которые каждый ученик приносил из дома в чернильнице. И когда учительница начала представлять новых учеников друг другу, называя по фамилии, каждый из нас должен был встать из-за парты и назвать своё имя.
Когда подошла очередь Вахида и он встал, мальчик по имени Андрей, который сидел за партой позади Вахида и воткнул ему в сиденье перо. Я увидел это и, прежде чем Вахид снова сел на место я успел убрать это перо. После этого случая я с Вахидом подружился, и мы часто играли с ним в «войнушку» в яме напротив нашего дома. В яме было много деревянной стружки и пустые упаковочные коробки, это был использованный упаковочный материал из продуктового магазина. Мы строили крепости из картонных коробок и нам никогда не было скучно. Мы с Вахидом вместе ходили в школу до нового года, а когда наступили зимние каникулы я с ним больше не виделся, потому что в январе 1968 года наша семья переехала жить в новый район города. Позже я узнал, что Вахид с родителями тоже переехали жить на северный Кавказ.
Возникновения Караганды
Существует версия, что в начале XIX века юный пастух, пасший скот в степях Сары-Арки, ночью развёл костёр и случайно подбросил в огонь найденный в норе суслика камень. К удивлению присутствующих, камень раскалился и начал отдавать жар. Так Аксакалы казахского рода Аргын узнали о наличии в этих местах «чёрного камня», способного гореть – это был уголь. Позже данный участок земли приобрёл русский фабрикант Ушаков, который начал промышленную добычу угля. Впоследствии управление шахтами перешло к англичанам. Но уже в конце 1920-х – начале 1930-х годов, в период индустриализации Советского Союза, в Казахстане были обнаружены значительные запасы угля. Для быстрого освоения месторождений и строительства города Караганды сюда направляли рабочих со всей страны. Этот процесс сопровождался коллективизацией и репрессиями, что также повлияло на формирование населения и развитие региона. Многих людей арестовывали внезапно, чаще всего ночью, когда они спали. Их будили арестовывали и уводили, иногда забирая целые селения. А те, кто сопротивлялся, сразу же на месте расстреливали. Люди были вынуждены брать с собой только то, что могли унести в руках, ведь никто не знал, что ждёт впереди: их, словно стадо, загоняли в товарные вагоны и везли неделями, а порой и месяцами, зачастую в не человеческих условиях. По дороге погибали многие, особенно дети, пожилые и больные. Их привозили в незнакомую и суровую казахстанскую степь, где зимой свирепствуют бураны, снег ложится толстым слоем, а морозы достигают более минус сорока градусов, а летом зной температура поднимается выше тридцати, и кроме кустов караганы, верблюжьей колючки и перекати-поля в этой местности почти ничего не росло. Только благодаря крепкому духу взаимовыручки, сплочённости и широкой душе местных жителей – казахов, которые делились с новоприбывшими всем, что имели, многие из ссыльных смогли выжить и избежать гибели от голода. Среди людей оказавшихся здесь были жители народов из разных уголков страны, представители различных национальностей, религий и социальных слоёв, а также бывшие заключённые – и политические, и уголовные, в том числе из крупных городов, таких как Москва и Ленинград. После окончания срока в тюрьмах и лагерях КАРЛАГа, согласно постановлению о «101 километре», им запрещалось возвращаться домой, и поэтому единственным вариантом было остаться здесь, начинать всё с нуля и работать на благо этого края. Все эти люди стали основателями будущего города Караганда и региона.