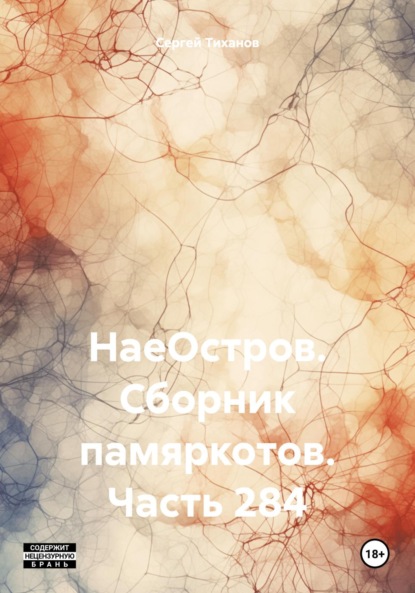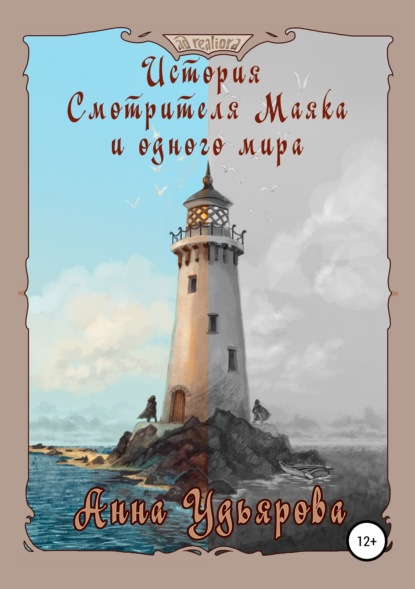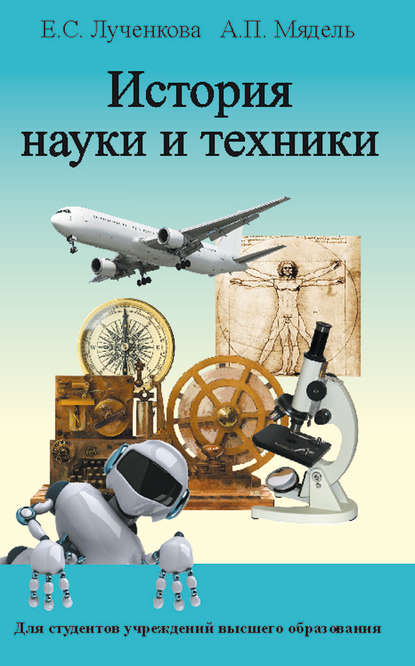Путь к морю, которого нет
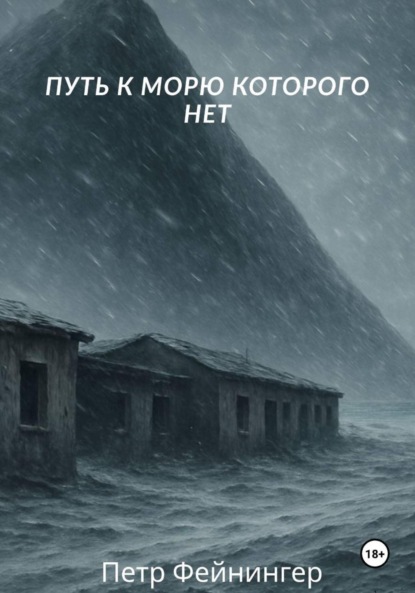
- -
- 100%
- +
Когда я родился, наша семья жила в «Старом городе», в районе, между «трамвайной кольцевой» и «Капай-городом». Местные жители называли это место «вокзальный тупик». Помню даже название улицы и номер землянки, где мы жили: Туркменская 18, а по соседству с нами был небольшой магазинчик, который называли «Дежурным». Именно там в Старом городе, в сентябре 1967 года, я впервые пошёл в школу учится в 1 класс. Зимы в Караганде были суровыми: морозы до минус сорока градусов считались обыденностью, а вьюги, которые у нас называли «бураном» – могли идти целыми неделями подряд. Наша маленькая землянка в такие дни почти исчезала под сугробами, и мы всей семьёй теснились у печки, слушая, как ветер снаружи за тонкими стенами словно голодный волк взывает к своим сородичам. В такую погоду взрослые жители близлежащих землянок и бараков по утрам если кто-нибудь первым выбирался наружу, он сначала расчищал проход своего жилища от снега и дорожку к улице, а затем помогал соседям выбраться из своих хибар, занесённых сугробами. Район «Старый город» в Караганде образовался между шахтными выработками, то есть терриконами – огромными насыпями каменной породы. В социальном отношении район напоминал «бразильскую фавелу» на советский манер: здесь жили те, кого жизнь заставила искать крышу над головой в трудных условиях. Чтобы пережить зиму, первые жители строили себе жильё из того, что находили поблизости: старые шахтные укрепления- балки, доски, фанеру, остатки рубероида и саманные блоки. Каждый сооружал себе жилище как умел. Постепенно появлялись землянки, лачуги, бараки, все они строились спонтанно. Название «Шанхай» у этой местности появилось неслучайно – беспорядочные многочисленные постройки, переплетение кривых улочек ассоциировался с многомилионным китайским городом, где в начале 20 века царила суета, а людской поток такой густой, что порой и сами жители терялись среди бесконечных лачуг и переулков. Я и сам однажды, второпях бежал по знакомой тропинке, где вдруг оказался на крыше чей-то землянки и неожиданно провалился прямо во двор чужого жилища, где громко лаяла собака, а вокруг бегали маленькие дети, встречая меня удивлёнными взглядами и испуганными детскими голосами… В районе «Старого города» Караганды оседали в основном из бедных слоев населения и те рабочие, приехавшие по вербовке на заработки и мечтавшие о лучшей доле в своей жизни. А также здесь было много семей немецкой национальности которых называли «верующими». Однако эти люди не относились к православным, а также не были католиками или лютеранами, как некоторые другие немецкие семьи. Они не крестились и их называли баптистами. В школе на стенде висели фотографии, сделанные милицией для всеобщего осуждения: на них взрослые женщины и маленькие девочки, укутанные в черных платках, стояли на коленях, опустив угрюмо головы, молились, или, например взрослые мужчины, стоя на крышах домов, с раскинутыми руками устремив взор в небо. Под этими снимками было написано: «Это сектантство! Религия – опиум для народа!» Или например: «В наше время, когда советский человек первым побывал в космосе, стыдно было продолжать верить подобному!» Люди все равно в большом количестве каждое воскресенье из центра старого города по дороге мимо «дежурного» магазина шли в «Капай» где у них находился ни церковь, а как они сами называли: «молитвенный дом». Но несмотря на все разнообразие тяготы жизни здесь в старом городе завязывались крепкие соседские узы: делились последним, помогали с провизией, вместе переносили лютые зимы. По вечерам взрослые собирались у печки, рассказывали истории, обсуждали городские новости, а дети играли во дворе или прятались от метели в тесных коморках. И хотя жизнь была тяжёлой, в этом районе все знали: на помощь всегда придут рядом живущие, и никто не останется один перед лицом беды. На одной из соседних улиц жила молдавская семья с двумя сыновьями: старшего звали Бовар, а младшего – Хабиб. Родители часто выпивали, и вскоре старший сын тоже пристрастился к алкоголю. Младший, Хабиб, напротив, любил читать книги и хорошо учился. Однажды летом мы вместе с Хабибом отправились купаться в небольшой водоём, который образовался в низине между терриконами – такие «лужи» образовывались там, где из-за подземной добычи угля верхний слой земли проседал и в этих впадинах собиралась талая и дождливая вода. Мы собрали какие-то деревянные отходы, щепки, бумагу и даже сухой навоз, чтобы развести костёр возле нашего «пляжа», и, когда огонь угас, принялись играть в индейцев – измазав себя сажей и пеплом. Нам казалось, что после забавы вся грязь легко смоется в воде, но как мы ни старались, отмыться не удалось. Пришлось возвращаться домой в таком виде, где меня ждала хорошая трепка, после чего мама еще долго скоблила меня щёткой в этот вечер. Через несколько дней после этого случая, рядом с тем местом, где мы купались и играли, произошёл сильный взрыв метана – выброс газа унес жизни нескольких десятков человек.
Прощай старый городПосле череды взрывов и пожаров на шахтах в районе Старого города приехала городская комиссия. В ходе проверок выяснилось, что из-за подземных работ и скопления метана наш район стал опасным для жизни: земля проседала, а старые бараки могли обрушиться в любой момент. Власти приняли решение срочно переселить всех жителей, чтобы избежать трагедии.
Так получилось, что, когда я проучился две четверти в первом классе, а после зимних каникул началась третья, нашу семью переселили в новый район – Новый Майкудук.
Я помню тот холодный январский день 24 января 1968 года, когда в начале второй половины дня, отец, на грузовике со своим приятелем которого звали Данилом подъехали к нашей «землянке». У Данила не хватало половина правой руки, но это не помешало им вдвоем быстро загрузить в кузов машины тяжелые вещи, такие как шкаф, дубовый стол, несколько табуреток, панцирные койки с матрацами, пока сестра с братом собирали кухонную утварь и остальной скарб и мама связывала все это в простыню.
Я в это время гладил нашу собаку Шарик, который все это время бегал вокруг нас и скулил, как будто понимал, что мы его бросаем одного… Это было как предательство с моей стороны. Я плакал и просил отца, чтобы мы его взяли собой, но он был непреклонен. Когда все вещи были загружены отец посадил моего брата и маму в кабину грузовика, моя мама была на последних месяцах беременности и хотя в нашей семье о таких вещах не говорили, мы, дети, все равно знали о ее состоянии, а я вместе со старшей сестрой и папином другом Данилой залезли в кузов, где были вещи, и мы поехали в «Новый Майкудук» где нас ждала новая квартира.
Этот момент навсегда остался в моей памяти: Шарик отчаянно гнался вслед за нашим грузовиком, а я, глядя на него, осознавал, что больше никогда не смогу его увидеть и потому, прощаясь с ним не мог сдержать слёз и плакал…
Мои родители:
У моих родителей всего было шестеро детей, из которых двое умерли еще в раннем возрасте. Я был предпоследним пятым ребенком в семье.
Мама
Моя мама появилась на свет в небольшой немецкой семье в Одесской области – там находились так называемые «колонии», организованные немецкими переселенцами несколько столетий назад, где люди жили преимущественно по религиозному признаку. Ее отец работал бухгалтером, а мать занималась домохозяйством. В семье у них было двое детей: моя мама и ее брат, который был младше ее на год.
Когда началась вторая мировая война, маме исполнилось всего семь лет. Ее отца, как и других мужчин немецкого происхождения из этого региона, отправили на фронт – они воевали на стороне Германии и, по большей части, не вернулись. Семьи – старики, женщины и дети, включая мою бабушку с детьми, были вынуждены пешком пройти через всю Европу до Германии.
После войны всех «русских немцев», оказавшихся в восточной части Германии, советские власти отправили обратно, но не в родные места, а преимущественно на Северный Урал в Сибирь и Алтай, на тяжелые работы и лесозаготовки.
Маме пришлось очень быстро повзрослеть, чтобы заботиться не только о младшем брате, но и о своей матери, у которой не было профессии и которая почти не знала русского языка. Еще до войны бабушка не была готова к столь тяжелой жизни, а после того, как на ее глазах группа солдат насиловали девушек и молодых женщин односельчан, у неё появились тяжелые психические расстройства: мания преследования, страх голода и прочие. Поэтому мама была вынуждена взять на себя роль главного опекуна семьи, ведь поддержки со стороны матери она получить не могла. Как рассказывала мама, в Сибири им зачастую приходилось бороться за жизнь – чтобы не умереть с голоду, они вынуждены были тайком подбирать на мусорных кучах у местных жителей картофельные очистки.
Моя мама рано вышла замуж, надеясь найти в будущей семье защиту и опору.
Отец
Мой отец, напротив, вырос в многочисленной семье: у него был старший брат и шесть сестёр. Все они тоже были родом из Украины, а после войны вся семья перебралась жить в Узбекистан.
Дедушка мой, как и отец, носил одно и то же имя. Воспоминания о нем у меня довольно расплывчатые: я встречал его всего несколько раз, и он всегда казался мне человеком суровым и строгим. Он страдал от болей в ногах, на которых долго не заживали раны, доставлявшие ему немало мучений. Мне казалось, что все его дети испытывали перед ним определённый страх.
Бабушку, то есть мать по линии отца я никогда не знал – она умерла ещё до моего рождения, и даже её национальность мне неизвестна, ведь с отцом на такие темы я не разговаривал, а если кто-то начинал спрашивать его при мне, он обычно отделывался шуткой. Под конец жизни у дедушки появилась спутница – интеллигентная женщина, в прошлом она учительница, которая иногда приезжала к нам в гости и делилась своими воспоминаниями.
Трудовые будни моих родителей в «Старом городе»
Когда мои родители оказались в Караганде, отец сначала подрабатывал сапожником и занимался столярными работами, но этих заработков едва хватало на жизнь.
В это время мама, будучи беременной мной, устроилась на работу в шахту, где занималась тем, что наполняла аккумуляторы кислотой и щёлочью. Эти батарейки шахтёры брали с собой в забой, чтобы освещать штрек – путь под землёй во время работы.
Позже отец устроился работать шофером на грузовике – рефрижераторе, где занимался развозкой пива с пивзавода по разным магазинам. Это пиво, называлось «Шахтёрским», «Жигулёвским», «Сары-Су» и т. д. и пользовалось популярностью даже за пределами Казахстана. Говорили, что такой вкус и качество напиток получал благодаря отличной воде и, возможно, особому немецкому рецепту, который держали в секрете.
Отец часто «доставал» пиво для знакомых – чаще в знак признательности или чтобы расположить к себе нужных людей. Были случаи, когда, желая получить помощь или наладить отношения, он дарил целые ящики свежего пива. Пивзавод славился не только отличным пивом, но и тем, что там готовили отменный лимонад.
Пивоварня находилась по соседству с другими пищевыми предприятиями – мясокомбинатом и молочным заводом, где производили различные виды колбас, сыры, масла и другие продукты. Поблизости располагалась и кондитерская фабрика, известная на весь Советский Союз своим хорошим качеством изделий.
Со временем рядом с этими предприятиями вырос жилой частный сектор, который называли «Мелькомбинатом». В основном в этом районе жили и работали немцы.
Однако все это разнообразие и качество продуктов, которыми славились окрестные предприятия, никак не отражалось на жизни нашей семьи. Мы жили очень бедно, носили многократно заштопанные вещи друг за другом. Мама радовалась, если перед сном удавалось накормить нас, детей, хотя бы скромной похлебкой. Мы были счастливы, когда в доме оказывалась картошка или немного муки с подсолнечным маслом или каким-нибудь комбижиром, чтобы было что пожарить на ужин.
Переезд в новую квартиру
Когда отец на грузовой машине привёз нас в новый район, где нам выделили квартиру, на улице уже сгущались сумерки, мела метель, и едва в этой завесе были видны контуры недавно построенных пятиэтажек.
Подъехать к самому входу было невозможно – всюду возвышались сугробы, а между ними спешили новосёлы, прибывшие из разных районов города: каждый старался внести свои вещи и мебель, из-за чего движение в подъезде иногда надолго стопорилось.
Первые дни в новом доме царила полная суматоха: двери в подъезд почти не закрывались ни днем, ни ночью. Часто приходили какие-то проверяющие чиновники, работники управдома с милиционерами, проверяли документы у жильцов. Электрики подключали электричество, сантехники устраняли различные поломки – где-то не было отопления, в других квартирах отсутствовал газ или по стенам текла вода.
Соседи, только что въехавшие, просили одолжить молоток, гвозди иногда кто-то приходил просить немного сахара или соли, а иногда и просто помощи с переноской мебели.
Мне самому не раз приходилось помогать кому-то заносить стулья или что-то по мелочи. На лестничных площадках повсюду лежали вещи, завернутые в простыни, и коробки.
Дом буквально сотрясался от шума: где-то стучали, кто-то пилил, передвигал мебель, падала посуда, доносился детский плач, хлопали двери – тогда мне всё это казалось особенно чуждым и неуютным…
Но со временем жизнь в доме постепенно входила в привычное русло. Вскоре двери в подъезд начали закрываться, появилось горячее отопление, подали газ, и жильцы стали обживаться в своих квартирах.
Наша квартира находилась в средней части дома, что считалось большим преимуществом, однако даже двойные рамы не спасали от холода – ветер находил дорогу сквозь мельчайшие щели. Мама затыкала щели паклей, а пространство между рамами устилала ватой, поверх которой раскладывала яркие фигурки и снежинки, вырезанные из блестящей цветной фольги, чтобы создать праздничного настроения.
Зимой окна всегда были плотно закрыты. Оставались только небольшие форточки, которые открывали для проветривания.
Когда у жителей в новых домах холодильника еще не было, зимой форточка становилась настоящей морозильной камерой: продукты складывали в хозяйственную сетку которой называли «авоськой» и вывешивали за окно. Хотя это было рискованно, особенно для жильцов нижних этажей: иногда по ночам такие сетки исчезали – их уносили мелкие воришки – «форточники», которые иногда проникали через окна и обворовывали квартиры.
Чтобы нагреть воду для стирки или купания в ванне жильцам приходилось самостоятельно заготавливать дрова и топить так называемый титановый бойлер, установленный в каждой квартире в ванной комнате.
Еду готовили уже не на печке, как прежде, а на газовой плите, а сжиженный газ доставлялся по расписанию транспортом в специальной ёмкости, и закачивался в резервуар, который находился в центре домов – так называемой «коробке» и это место огорожено металлической защитной сеткой.
«Коробки» представляли собой несколько домов, выстроенных прямоугольником или квадратом: подъезды располагались с внутренней стороны двора, чтобы дети могли играть, не выходя на проезжую часть дороги.
Дом, в котором наша семья получила трехкомнатную квартиру, был одним из самых больших и протяжённых – восьми-подъездный.
За нашим домом проходила главная дорога, по которой постоянно ездили автобусы и другой городской транспорт. Рядом с ней тянулись трамвайные рельсы, по которым сновали трамваи, а неподалёку находилась стоянка такси. Прямо напротив, через дорогу, в двенадцатом микрорайоне, на первом этаже кирпичной пятиэтажки располагался просторный продуктовый магазин с говорящим названием «Горняк».
Позднее, в 70-х и 80-х годах, именно этот район станет сердцем «Нового Майкудука» с развитой инфраструктурой. Если раньше мы жили в «Старом городе», окружённом шахтами, лесным складом и обогатительной фабрикой ЦОФ – а среди соседей преобладали рабочие и шахтёры, – то теперь, в «Новом Майкудуке», рядом появились поликлиники, больницы, разнообразные учебные и технические заведения, учреждения сферы обслуживания и многое другое. Благодаря этому по соседству стали жить люди самых разных профессий и социального положения.
В нашем подъезде было пятнадцать квартир – по три квартиры на каждом этаже. Это значило, что только в одном доме бок о бок жило около 120 семей, и у каждой своя история, культура, темперамент, привычки и характер. А если учесть четыре дома, объединённые в «коробку», то получалось уже минимум триста семей.
Наверное, нигде в мире нельзя было увидеть столь уникальное сосуществование разных социальных слоёв, народов и традиций, живущих бок о бок относительно не принужденно как здесь в средней Азии и Казахстане.
К примеру, по соседству с нами проживала корейская семья, которую во времена войны с Японией несправедливо обвинили в шпионаже и выслали в Караганду с Дальнего Востока.
Глава семьи работал начальником отдела на обувной фабрике в Караганде, а его жена вела домашнее хозяйство и заботилась о детях. Их быт проходил спокойно и незаметно – никто толком не знал, есть ли они дома или ушли. При встрече супруги всегда вежливо кивали соседям, но никогда не начинали разговор первыми и отвечали кратко и сдержанно, только если кто-то обращался к ним напрямую. Казалось, что над этой семьёй постоянно витал некий печальный оттенок.
По соседству проживала грузинская семья. Они всегда между собой общались громко – их разговоры были настолько эмоциональными, что поначалу соседям казалось, будто между ними происходят постоянные жаркие и ожесточённые ссоры. Но стоило кому-нибудь из соседей постучать к ним в дверь, чтобы поинтересоваться, не случилось ли чего, как всё тут же превращалось в радостное застолье: хозяева щедро угощали вином, раскладывали на стол ароматные хачапури, домашний сыр и свежие овощи, а заодно с улыбкой объясняли особенности своей культуры. Грузины с удовольствием рассказывали о старинных традициях гостеприимства, которые для них – святое дело: в каждом госте они видели почти родственника, считали, что человек, пришедший в дом, приносит счастье, и потому старались сделать его пребывание максимально приятным. За столом звучали тосты, анекдоты, а иногда даже пели застольные песни, пронизанные тоской по родным горам и солнечному Тбилиси. Атмосфера становилась настолько тёплой и дружеской, что гости забывали о своих заботах и с радостью возвращались к этим людям вновь. Так соседство с грузинской семьёй обогащало наш дом особой щедростью души и учило всех нас видеть в культурных различиях не повод для недоразумений, а источник радости и взаимопонимания.
Среди новых жильцов встречались и такие, кто вырос в степных или горных посёлках и никогда прежде не жил в городе. Им было непривычно существовать в многоэтажных домах, где жильцы располагаются друг над другом, словно в муравейнике. Некоторые удивлялись необходимости пользоваться туалетом внутри квартиры вместо привычного уличного, и сетовали на тонкие стены, из-за которых любой звук разносился по всему подъезду. Других же поражало, что в квартирах нельзя держать домашних животных или забивать, например, кур или баранов, даже на балконе, что вызывало у них искреннее недоумение.
«Майкудук»
Название «Майкудук» имеет тюркские корни и означает «масляной колодец». С этим названием связана любопытная история: когда-то здесь находили необычные родники, на поверхности которых виднелась маслянистая плёнка, напоминающая нефть. Кочевники считали такие источники очень ценными, и именно из-за них район получил своё имя, отражающее природные черты этой местности.
В конце 60-х годов район Майкудук, было принято делить на три части:
«Старый Майкудук», «Майкудук» и «Новый Майкудук». Каждая из них обладала своим особым прошлым и уникальной атмосферой. «Старый Майкудук» был местом, которые основали переселенцы – будущие шахтеры 35 Шахты; здесь преобладали частные дома с огородами. Центральная часть «Майкудука» отличалась характерной каменной застройкой, возведённой руками военнопленных и заключённых, а также насыщенной культурной жизнью. В свою очередь, «Новый Майкудук» представлял собой типовой район с многоэтажками, куда съезжались люди разных профессий и национальностей, формируя своеобразный сплав традиций и культур.
Старый Майкудук в прошлом – эта небольшая часть окрестности, которая состояла из небольших селений – таких как «Водокачка», «Бабушкина», «Берлин», «Сахалин». Внешне этот район больше напоминал деревню, куда еще до войны переселяли людей из разных уголков Советского Союза.
Большинство жители «Старого Майкудука» составляли шахтеры. Со стабильной и достойной зарплатой их благосостояние постепенно росло. Почти у каждой семьи был крепкий частный дом и свой огород, где выращивали картофель, помидоры, огурцы, а также держали домашнюю птицу и скот – кур, гусей, кроликов, поросят и другую живность. Остальные жители часто с легкой завистью называли их «кержаками», отмечая их хозяйственность и бережливость.
В «Берлине» в основном проживали немцы, в «Сахалине» – славяне и корейцы.
Примечательность района Старого Майкудука – кинотеатр «Маяк», где всегда шли фильмы, а рядом находилась школа для детей с нарушениями зрения.
На окраине Старого Майкудука, вблизи посёлка Зелёная Балка, располагалась воинская часть. На её территории был небольшой сад, куда мы пробирались тайком, чтобы набрать ранеток.
«Центральная часть района Майкудук», как и многие центральные районы Караганды, возводилась преимущественно силами заключённых и военнопленных, среди которых были и японцы.
Эти с характерным видом двух- и трёхэтажные кирпичные дома, с коричневым фасадом вытянувшиеся вдоль главных улиц всегда поражали меня своим необычным архитектурным обликом во время прогулок или визитов к друзьям. Внутри таких домов были просторные помещения с высокими потолками, а прочность и добротность строений внушали уважение.
Культурным центром был Дворец культуры Майкудука, где устраивали концерты, кукольные спектакли для детей, работали кружки танцев и музыки.
Возле Дворца культуры раскинулся сквер, в котором росла джида; её плоды напоминали крошечные финики с мучнистым и терпким вкусом. В домах вдоль главной улицы на нижних этажах находились маленькие магазинчики.
Среди них выделялся книжный магазин «Факел», а рядом располагался музыкальный магазин «Мелодия», где я купил свою первую гитару.
Там же неподалеку находился горный техникум, где обучали специалистов для угольной промышленности, а также несколько ПТУ. В одном из них – номер 16 – я позже начал заниматься классической борьбой.
Также в памяти осталась пару небольших павильонов и кафе, где можно было купить вкусные коржики, пирожные, мороженое и прохладительный молочный шейк. Поблизости находился кинотеатр «Спартак», а молодёжь из этого района называли «спартаковцами».
«Новый Майкудук» начал формироватьсяКогда в северной части Караганды, в районе Майкудука, наряду с шахтами стали строиться новые промышленные предприятия – такие как чулочно-носочная фабрика, завод пластмасс, завод металлоконструкций и другие, – сюда стало приезжать всё больше рабочих с семьями, остро нуждавшихся в жилье. Район быстро застраивался и расширялся, получив название «Новый Майкудук».
Здесь будто после летнего дождя появлялись пятиэтажные дома – сначала кирпичные «хрущёвки» с низкими потолками и маленькими кухнями, где под подоконниками размещалась ниша: зимой туда складывали продукты вместо холодильника, а летом – посуду.
Позже стали строить дома из бетонных панелей – их возводили значительно быстрее, а квартиры в них отличались большей площадью и высокими потолками. Такие дома называли «крупнопанельными», а за их строгую форму и одинаковый вид местные жители прозвали их «коробками». Характерной чертой этих зданий была прочность конструкции и наличие балконов.
В «Новом Майкудуке» привычные улицы сменились микрорайонами, которые обозначались порядковыми номерами.
Многоквартирные дома здесь имели несколько подъездов: в длинных пятиэтажках их могло быть до восьми, в коротких – четыре. В каждом подъезде размещалось примерно по пятнадцать квартир, и в результате в одном доме могло проживать до ста шестидесяти семей.
Сегодня, оглядываясь на эти серые панельные хрущёвки, не один молодой человек удивляется: как вообще можно было жить в таких условиях? Но стоит вспомнить прежние реалии – старый город без центрального отопления, газа и удобств, – и становится понятно, что пятиэтажки казались воплощением мечты и настоящей роскошью.
Жители подъездов нашего большого дома
Если взрослые часто относились к окружающим с опаской – слишком свежи были в памяти «сталинские времена», когда необдуманное слово могло привести к доносу или даже стоить свободы и жизни, – то нам, детям, жилось гораздо легче. Мы быстро привыкали к новому району, легко находили общий язык с ребятами из других семей и заводили друзей. Вместе ездили на трамвае или автобусе в школу, ведь новая школа в микрорайоне еще только строилась, а в погожие дни носились во дворе «коробки», стараясь исследовать каждый уголок.