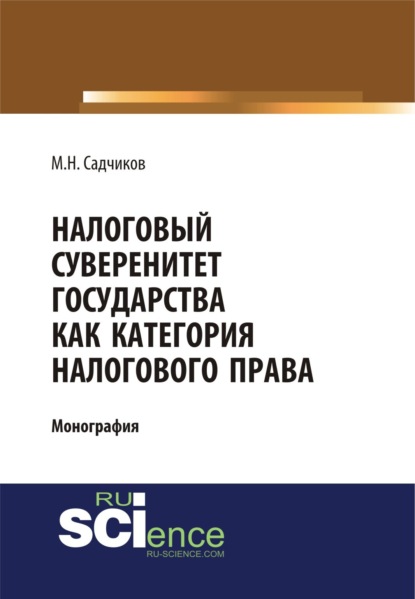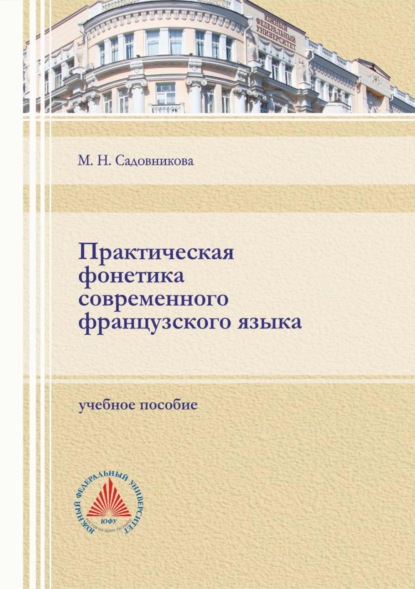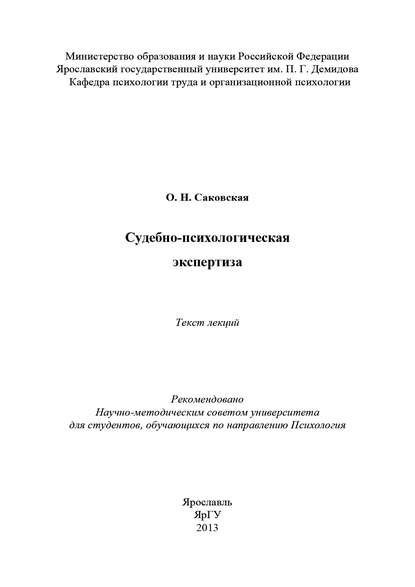Жизнь простого человека
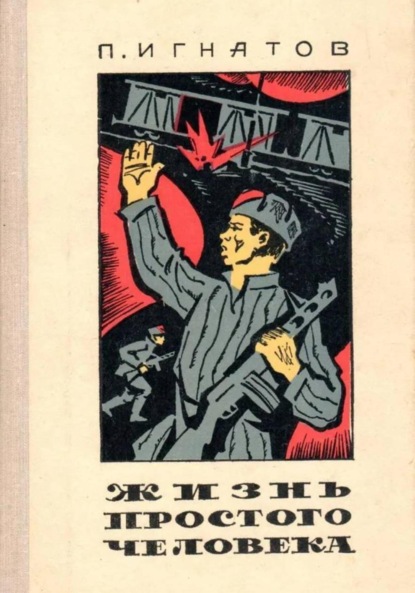
- -
- 100%
- +
я решил, что это от учёности, – наверно, Николай слишком много читал умных книжек. Долго не
решался я заговорить с ним. Наконец он сам обратил внимание, что я, как тень, хожу за ним, и
прямо спросил:
– Что ты всё увязываешься за мной? Что тебе нужно, малыш?
Он сказал «малыш»! От негодования и обиды я покраснел. Сбиваясь и путаясь,
пробормотал, что, во-первых, никакой я не малыш, а во-вторых… во-вторых:
– Примите меня в кружок!
Арбузов пристально посмотрел на меня сквозь очки, потом удивлённо поднял брови и
расхохотался.
– Кружок? Какой кружок? Ты просто бредишь, бедное дитя!
Он провёл ладонью по моим волосам «против шерсти» и повернулся, чтобы уйти. Но я уже
знал, что такое конспирация. Я забежал вперёд, загородил ему дорогу и дрожащим от слёз
голосом сказал, что он не имеет права не принять меня в революционный кружок, потому что я
знаю, что революционеры – самые смелые и справедливые люди, что я читал книгу о Парижской
коммуне, что я люблю коммунаров и ненавижу подлых версальцев, что я видел восстание
моряков в Севастополе и что лейтенант Шмидт – замечательный человек…
– Тише! Не ори! – негромко и строго проговорил юноша, быстро оглядевшись по сторонам.
Разговор наш происходил в длинном коридоре на перемене, и мимо нас то и дело проходили
ученики и преподаватели. Арбузов положил мне руку на плечо и сказал, что поговорит со мной
– только не сейчас, а позже и не в стенах училища.
Обещанной беседе не суждено было состояться. Через несколько дней над нашим
училищем разразилась гроза. Были арестованы двенадцать учеников старших классов –
участников и руководителей кружка, в том числе и Арбузов. Училище взяли под особое
наблюдение. В нём появились какие-то странные личности, которые совали нос во все дела и то
вдруг оказывались около собравшихся в кружок учеников, то заглядывали в класс во время урока.
Законоучитель, необыкновенно злобный и ехидный поп, кричал на нас, брызгая слюной и
тряся жиденькой сивой бородёнкой:
– Говорю вам, олухи царя небесного, крамола не только богу противна, но противна
естеству человеческому! Человеку положен закон – повиноваться, покорствовать, и смирение
есть первая добродетель его!
Класс понуро и хмуро молчал.
А я всё думал об Арбузове. Я представлял себе, как он лежит на соломенной подстилке в
тесной тюремной камере с толстыми каменными стенами, покрытыми пятнами сырости, с
маленьким окном, забранным решёткой. Перед ним на полу – глиняная кружка с водой. Он
кормит крошками хлеба маленького мышонка, единственного своего друга в тюрьме…
В эти дни в жизни нашей семьи произошло событие, которое заслонило собою не только
всё остальное, но и как бы погасило для меня свет солнца…
На нашу семью обрушилось тяжкое горе: умер отец. После ранения в голову он как-то
заметно сдал. Это был уже не тот сильный, уверенный в себе человек, каким он выглядел год
назад. Он быстро уставал, часто бывал грустным, задумчивым, как-то замкнулся в себе. Мать
порой начинала плакать, глядя на него, а он сердился, когда она плакала. «Что с тобой, что?
Скажи, не мучай меня», – спрашивала она. «Ничего, устал», – отвечал он и отворачивался, чтобы
не встретиться с ней взглядом.
Тогда я этого не понимал, а теперь думаю, что отец надорвался на непосильной работе и,
чувствуя, как уходят силы, беспокоился о семье. Одиноко нёс он свою тоску, свою тревогу… А
тут ещё он сильно простудился на работе, обострилась застарелая болезнь печени. С неделю
пролежал отец в больнице, а потом… потом мы с матерью проводили его в последний путь: на
Богословское кладбище.
Стоял светлый осенний день, но мне казалось, что всё померкло вокруг меня…
Вернувшись с кладбища, мать долго сидела молча, беспомощно опустив руки на колени.
Она не плакала, не причитала, думала горькую, вдовью думу. И то, что было у неё на сердце,
высказала простыми словами:
– Как жить-то будем, детки?
Я был старшим и понимал, что должен что-то ответить матери, подбодрить её. Но что я мог
сказать ей? Слёзы текли по моему лицу, и всё-то мне слышалось, как стучат комья земли о
крышку гроба, в котором лежал безучастный к нашему горю человек, без которого нельзя было
и представить себе нашей жизни. Отец!.. Глядя сквозь слёзы на мать, на сестру, я только теперь
понял, как плохо нам будет без отца и как спокойно жилось нам за его спиной. Я думал о том,
как он любил нас, как заботился о нас. Ну, а теперь я сам должен отвечать за себя, да не только
за себя – за всех: я ведь старший…
После долгих и унизительных просьб и хлопот мать добилась получения крохотной пенсии
за отца, которая ему полагалась за ранение на судостроительном заводе. Жить на эти гроши с
двумя детьми было нельзя; пришлось ей снова начать работать прачкой. С утра до ночи гнула
она спину над корытом. Она была отличной прачкой. Её очень ценили «господа» за отличное
глажение крахмального белья, но за четырнадцать – шестнадцать часов работы она получала
ничтожную плату. В некоторых домах в виде награды за усердие её кормили обедом.
Матери целыми днями не бывало дома, и все домашние заботы легли на нас, детей.
Сестрёнка моя была ещё мала, главным «хозяином» был я. Я и на базар ходил, и в лавочку бегал,
и полы мыл, и даже наловчился готовить нехитрый обед.
Всю эту работу, хотя и была она скучной, утомительной и, главное, отнимала много
времени, я выполнял охотно – знал, что помогаю матери, освобождаю её от части забот.
На сердце у меня, как говорится, «кошки скребли»: я скоро понял, что учение, за которое
нужно было платить немалые деньги, расходы на форму, на учебники теперь нам не по карману.
И вот после раздумий и терзаний пришёл я к твёрдому решению – оно приводило меня в
отчаяние, но казалось единственно возможным, правильным – бросить училище и начать искать
работу.
Ничего не сказав матери о своих планах, я пошёл к одному из друзей отца, старому
рабочему, и попросил его устроить меня на работу. Он выслушал мои доводы, покачал головой:
– Эх, малый!.. Был бы жив Поликарп Игнатьич, по другому бы пути твоя жизнь пошла!..
Впрочем, он одобрил моё намерение и обещал помочь. Через несколько дней он определил
меня в учение к знакомому кустарю – в механическую мастерскую на Забалканском проспекте,
около Фонтанки.
В последний раз перелистал я свои учебники и положил на полку, строго наказав сестре не
сметь их трогать. Снял форму, бережно убрал её в сундук. Долго вертел в руках форменную
фуражку, – красивая была фуражка, с белым кантом, с якорями вместо кокарды. Мы, ученики,
лихо козыряли, встречая на улицах военных моряков; прочих военных мы презирали. Надел
вылинявшую косоворотку, старенькую домашнюю курточку – и из ученика технического
училища сразу превратился в мастерового мальчишку, в несчастное, бесправное существо, каких
было много в то время в разных мастерских.
Велико было огорчение матери, когда вернувшись вечером с работы, она узнала от меня
сразу обо всём: и о том, что я решил бросить училище, и о том, что поступаю учеником в
механическую мастерскую. Весь вечер она проплакала, и мне пришлось её утешать, хотя и сам я
нуждался в утешении. Я говорил ей, что, как только начну зарабатывать, буду продолжать
учиться и стану, как хотел отец, образованным человеком.
– Ах, сынок, – сказала мать, – что огорчать тебя… Знаю: уж если пойдёшь ты этой дорогой,
так и идти тебе по ней до гробовой доски!.. Задавит тебя жизнь. Нет уж, видно, не бывает для
нашего брата счастливой доли!..
11
Плохо спалось мне ночью накануне того дня, когда я должен был отправиться в мастерскую
на работу.
На работу!.. Я иду на работу! Это было чем-то новым, тревожащим, даже пугающим.
Невольно вспомнилось, как отец каждый день рано утром собирался и уходил на работу,
спокойный, знающий себе цену человек. Уж он-то всегда умел при случае постоять за себя. А
что ждёт меня?.. Да и примут ли меня? А если примут? Я ведь не только слышал рассказы о
тяжёлой жизни мальчиков-учеников, но и сам много раз видел их и знал, что никто не заступится
за меня, что рассчитывать я могу только на себя…
Сестра давно уже спала, а мы с матерью всё не ложились, всё разговаривали, сидя за столом,
на котором стоял остывший самовар. Вспоминали отца, нашу прежнюю жизнь. Мать впервые
говорила со мной, как со взрослым, – ведь теперь я выходил на рабочую дорогу, становился
«добытчиком», кормильцем семьи. Это и беспокоило меня, и льстило моему самолюбию. Я
старался держаться спокойно, говорить рассудительно, как взрослый. Плохо это удавалось мне.
Да и перед кем было притворяться? Перед матерью?.. Мы обнялись, поплакали, и на душе стало
словно бы и полегче.
Наконец мы легли. Мать погасила лампу, но заснуть я не мог, всё ворочался с боку на бок,
в сотый раз, стараясь представить себе, что будет завтра. «Неужели бить будут?» – думал я, и
сердце замирало от тоски. То и дело вскакивал, чиркал в темноте спичками, смотрел на ходики:
не проспать бы!..
Чуть посерело за окнами, я и мать были уже на ногах. Меня знобило от волнения, я
торопливо пил горячий чай из кружки, а к жаренной со шкварками картошке – матери хотелось
побаловать меня – так и не притронулся. Сунул кусок хлеба в карман, надел старенькое пальтецо
и, взяв в руки шапку, подошёл к матери. Ничего не сказала мне она в эту минуту, только обняла,
поцеловала крепко и, сунув мне в руку два медных пятака, торопливо перекрестила на прощанье.
Лицо её было бледным, губы что-то беззвучно шептали… Матери хотелось проводить меня,
поговорить с хозяином, но сделать это она не могла: ей тоже нужно было идти на работу.
И вот я вышел на улицу. Над огромным городом стояла темень ненастного рассвета. Каким
мрачным, суровым выглядел в этот час город, вернее, наша и без того безрадостная улица с её
старыми, уродливыми домами. Окна тускло светились жёлтыми огнями. Надрывно, хрипло и,
как мне казалось, озлобленно выли гудки. По тёмной, грязной, словно придавленной низким
небом улице медленно двигался чёрный людской поток. Люди понуро брели, подняв воротники,
шлёпая по лужам, разбредаясь по проездам и переулкам, ведущим к фабрикам и заводам.
И я вошёл в этот поток, смешался с толпой рабочих, не отдавая, конечно, себе отчёта в том,
что с этой минуты вошёл в великую армию труда, чтобы жить с нею одной жизнью, вместе с ней
идти, вместе с ней бороться. Чувство кровной близости с этой армией, понимание её сил и
могущества пришли значительно позже. В это же утро всё окружавшее меня казалось мне
особенно сумрачным, а люди с их шаркающей походкой, поднятыми воротниками – недобрыми
и угрюмыми…
Потратив один из полученных от матери пятаков, я мог бы довольно быстро доехать на
трамвае до Забалканского проспекта. Но я пошёл пешком, малодушно стараясь отдалить время
прихода в мастерскую.
Путь был неблизкий, но рано или поздно он должен был кончиться. И вот я стоял в
вонючем, похожем на глубокий колодец, дворе, заваленном разным хламом и мусором, у двери
в механическую мастерскую Кузьмы Ивановича Иванова, как значилось на заржавленной,
покосившейся вывеске.
Помню, меня охватило тоскливое желание немедленно, сейчас же убежать с этого двора и
никогда не возвращаться сюда…
С робостью открыл я тяжёлую скрипучую дверь на блоке и очутился в довольно
просторном помещении, но с таким низким и чёрным потолком, с такими закопчёнными стенами,
что оно производило впечатление какой-то подземной пещеры. В пыльные, покрытые копотью и
паутиной окна проникал со двора тусклый свет. Воздух в этой пещере был тяжёлый, угарный.
Пахло дымом, раскалённым металлом, какими-то кислотами. За верстаками и станками –
сверловочными и токарными, – склонившись, работали люди. В мастерской стоял дробный
звонкий стук молотков, резкий скрежет напильников. В углу, в небольшом горне, синее пламя
перебегало по раскалённым углям.
Я стоял у двери, не решаясь сделать и шага вперёд. До этого мне не раз приходилось бывать
в мастерских, в которых работал отец, но тогда всё выглядело как-то по-другому. Я ведь в любую
минуту мог уйти домой, выйти на улицу. Здесь же я должен был работать, здесь я должен был
проводить большую часть своей жизни, и этот тёмный каменный сарай показался мне тюрьмой.
– Тебе кого? – крикнул один из рабочих, худой, черноволосый парень с бледным, испитым
лицом, в изорванном фартуке. – Дверь-то закрой хорошенько, небось, не лето!
Когда я сказал, что мне нужно хозяина, Кузьму Ивановича, он насмешливо поднял брови.
– Хозяина? Ишь важный какой! От заказчика, что ли?
Робея и смущаясь, я пролепетал, что пришёл наниматься на работу. Парень оглядел меня с
ног до головы и свистнул.
– Братцы! – крикнул он. – Новый мастер заявился. Гляди, гордый какой!.. Вошёл – шапку
не снимает, поздороваться брезгает… Не иначе как его теперь старшим над нами поставят!
Я покраснел и сдернул шапку с головы. Некоторые из рабочих повернули в мою сторону
головы и равнодушно посмотрели на меня. Парень указал мне на маленького седенького
старичка, что-то мастерившего, согнувшись над верстаком, и сказал:
– Вот хозяин, иди. Да пониже кланяйся, невежа!
Я подошёл к старичку и поклонился, комкая шапку в руках. Он посмотрел на меня сердито,
подозрительно. Сославшись на знакомого отца, рекомендовавшего меня, я достал из кармана
бумажку, в которой удостоверялось, что я учился в техническом военно-морском училище.
Старичок проворчал что-то, раздражённо махнул рукой и отвернулся. Я оглянулся по сторонам,
не зная, что делать. Кругом послышались смешки.
– Ещё поклонись, да пониже! – крикнул парень. – Видишь, гневается хозяин!
Я поклонился ещё раз, смех усилился. Ко мне подошёл худенький юноша, почти мальчик,
синеглазый, с тонким бледным лицом, с копною светлых, давно не стриженных волос.
– Смеются они над тобой, – сказал он мне. – А ты не сердись… Это и не хозяин вовсе, это
дедушка Ионыч, он глухой, совсем глухой, как есть ничего не слышит… А хозяин дома чай пьёт.
Я только что за сайками в булочную бегал… Вот чаю напьётся и придёт… Ты в ученики?
– В ученики…
Я сразу почувствовал доверие к этому юноше и хотел расспросить его о хозяине, добрый
он или злой, но кто-то грубо окликнул моего защитника:
– Родька, где ты провалился? Нечего языком трепать. Живо сюда!
И синеглазый Родька помчался на зов, хлопая по полу вконец изношенными опорками.
Долго ждать мне не пришлось. Вскоре заявился хозяин, Кузьма Иванович, не старый ещё
человек, с нездоровым, опухшим лицом, маленькими глазками, жидкой бородкой, которую он то
и дело теребил пухлыми пальцами правой руки. На нём были узкое демисезонное пальто и
новенькие, блестящие калоши. Хозяин на меня не обратил ни малейшего внимания, хотя я и
низко поклонился ему. Отвечая чуть заметным кивком головы на почтительные поклоны
притихших с его приходом рабочих, он не спеша прошёл к своей конторе, помещавшейся в
глубине мастерской у пыльного окна.
Только с одним из рабочих – с высоким, худым стариком в очках он поздоровался за руку.
Хозяин долго говорил о чём-то с этим стариком, подзывал к себе то одного, то другого рабочего.
Парня, который подшутил надо мною, он за что-то долго ругал, грозил ему пальцем, и когда
парень, получив головомойку, вернулся на своё место, его бледное лицо было искажено злобой,
на скулах горели красные пятна. Мне стало жаль его…
Дошла очередь и до меня. Хозяин подозвал меня кивком головы, я подошёл к конторке. Он
некоторое время разглядывал меня своими заплывшими глазками, потом нахмурился,
сокрушённо покачал головой и вздохнул, словно мой вид доставил ему огорчение. Молча
прочитал мою справку из училища.
– Так-с!.. – Пухлые пальцы забарабанили по конторке. – Ты что же, думаешь, я тебя, может,
сразу мастером сделаю? Может, думаешь сразу золотые горы загребать? Ну, так не думай и не
мечтай. Ростом ты ещё не вышел, голова у тебя ещё пустая, попотеть тебе ещё хорошенько
нужно!.. – И противным, скрипучим голосом он долго поучал меня, что все должны трудиться «в
поте лица своего», терпеть, покорствовать, благодарить старших за науку, не лезть вперёд, не
смутьянничать и помнить о боге…
Мне вспомнился наш училищный законоучитель, и недоброе чувство шевельнулось в душе.
Но я стоял, понурившись, глядя на новые калоши хозяина, и с покорным видом слушал.
В заключение Кузьма Иванович сказал, что он, пожалуй, согласен взять меня в ученики и
что я должен понимать и ценить это, должен быть «по гроб жизни» благодарен ему. И тут же
добавил, чтобы я и думать не смел до поры до времени о жалованье и чтобы послушно исполнял
любую работу, какую мне прикажут.
Он подозвал высокого худого старика, с которым беседовал, придя в мастерскую, и сказал
ему, кривя губы в кислой улыбке:
– Вот тебе, Платон Никитич, раб божий Пётр, а проще сказать – Петька. Погляди, пощупай,
на что он годен… Да шкуру-то его не очень береги, в случае чего и новая вырастет. Вижу, привык
он за отцовской спиной да у мамкиной юбки сидеть, ну, ты и вразуми его…
Я взглянул на старика. Лицо у него было строгое, суровое, всё в морщинах, седые усы
прокурены до янтарной желтизны. Но глаза, спокойно и внимательно смотревшие на меня сквозь
очки, не казались мне злыми…
Началось моё «учение».
В мастерской теперь то и дело слышалось: «Эй, Петька, где ты там, пострелёнок? Иди
сюда!» Или: «Сбегай туда-то, принеси то-то». И я бегал и приносил, что требовалось.
Случалось, что, когда другого ученика, Родиона, не было в мастерской или он был чем-
нибудь занят, жена хозяина, тощая, злющая женщина, носившая по праздникам шляпку с
лиловым пером, гоняла и меня в лавчонку или на базар.
Случалось и мне, правда, довольно редко, получать под горячую руку увесистый
подзатыльник… Парень, подшутивший надо мной в первый день, – его звали Пашкой Жомовым,
– больше других отравлял мне жизнь. Он почему-то невзлюбил меня, называл «слюнтяем»,
«маменькиным сынком». Раз он приказал мне подать чугунную болванку, предварительно
раскалив её в горне. Я схватил болванку и жестоко обжёгся.
Как водится, в начале учения мне поручили изготовить для себя зубило. Традиционная
закалка свинцового зубила – обычная шутка мастеров над новичками – не удалась: я сказал, что
свинец закалить нельзя.
Обязательным методом тогдашнего обучения были побои. За каждую промашку на
безответных учеников так и сыпались затрещины, зуботычины, подзатыльники. Конечно,
попадало и мне, но всё же я сумел постоять за себя с первых же дней. Когда хозяин,
рассердившись за какую-то ошибку, схватил меня за ухо, я, хоть и был небольшого роста и слаб
на вид, таким волчонком поглядел на него, что пальцы у хозяина разжались, и он отошёл в
сторону, бормоча что-то себе под нос. Это видели рабочие, и с той поры редко кто задевал меня.
Можно сказать, мне повезло: поколачивали меня не часто и не сильно, и я не был только
мальчишкой на побегушках или нянькой хозяйских детишек, как это бывало обычно с другими
мальчиками-учениками.
Все эти прелести ученичества с избытком выпали на долю моего дружка Родиона, или
Родьки, как называли его в мастерской. Я сдружился с ним с первого же дня. Не случалось мне
ещё встречать более кроткое, безответное существо!
Родион приехал в Питер из далекой голодной деревни. Никого у него в городе не было,
деваться было некуда, и ничего ему не оставалось, как покорно терпеть все издевательства в
мастерской. Ему шёл семнадцатый год, но он был так мал ростом, так худ, что больше
четырнадцати лет ему никто не давал. На ногах он был с самого раннего утра и до поздней ночи
– работал то в мастерской, то на квартире хозяина, который жил в доме, где помещалась
мастерская. Спал Родион в кухне, на холодном полу, кормился объедками с хозяйского стола. За
свои труды получал он три рубля в месяц. Помыкали и командовали злосчастным Родькой все,
начиная с хозяина, хозяйки, рабочих и кончая хозяйскими ребятишками. И всё-таки, несмотря на
мучительства, на тяжёлый труд и побои, Родион не озлобился, не очерствел. Он был добр,
привязчив, отзывчив на малейшую ласку, всегда готов помочь другому.
Позднее, когда мы сдружились с Родионом, он, случалось, забегал ко мне домой.
Одинокому пареньку нравилось бывать у нас, но часто приходить он стеснялся, да и не мог: ведь
работал он до поздней ночи, и даже праздников у него не было.
Когда он сидел за столом в нашей бедной, но чистенькой комнате и мать ставила перед ним
полную тарелку щей и пододвигала поближе к нему каравай хлеба, на его бледном, худом лице
появлялось выражение блаженной растерянности: о нём заботятся, с ним обращаются, как с
человеком!..
– Счастливый ты! – не раз говорил Родион мне. – У тебя дом есть, мамка есть! – И его синие
глаза затуманивались грустью. У него не было ни дома, ни матери. Отец Родиона умер давно,
мать уехала куда-то на заработки, да так и не вернулась. Избу продали за долги, Родьку привезли
в город и определили в «учение». Вот он и мается теперь…
В те времена не умел я по молодости лет правильно разбираться в людях, правильно
оценивать их поступки, поведение. Окружавших меня людей делил на добрых и злых, смотря по
тому, как они относились ко мне. Но когда теперь я оглядываюсь назад, и в моей памяти проходят
люди, с которыми я работал в мастерской Иванова, – их было человек пятнадцать, считая меня и
Родиона, – я вижу, что это были не злые, а несчастные люди, изуродованные нищенской,
безрадостной жизнью, задавленные тяжёлым трудом.
Взять хотя бы того же Жомова. Много слёз пролил я из-за него и, конечно, относил Пашку
к «злым». В то же время в душе у меня не было к нему злобы, как, например, к нашему хозяину.
Должно быть, я понимал, что Жомов не столько злой, сколько несчастный человек. Ему не было
ещё и двадцати пяти лет, но иногда, особенно по понедельникам, когда он выходил на работу с
трещавшей с похмелья головой, ему, глядя на его бледное, осунувшееся лицо, можно было дать
и все сорок.
Пил Жомов, что называется, зверски, пропивал все заработанные деньги и жил со своей
старухой матерью впроголодь. Во хмелю он был буен, задирист, его часто и жестоко избивали
под пьяную руку. Работу свою Пашка ненавидел – то есть, вернее, ненавидел ту работу, которую
ему приходилось делать в мастерской. Хозяин никого так часто не ругал, как Жомова; они
платили друг другу взаимной ненавистью. И всё же было в этом спившемся, несчастном
мастеровом что-то такое, что выделяло его из числа других рабочих и заставляло даже такого
строгого, не терпящего озорства человека, как старый мастер Платон Никитич, не то что уважать,
а по-особенному ценить беспутного Пашку Жомова.
Про Пашку рабочие говорили, что у него «есть глаз». Как я теперь понимаю, это означало,
что у Жомова было прирождённое чутьё к красоте, к правильной пропорции – неосознанное,