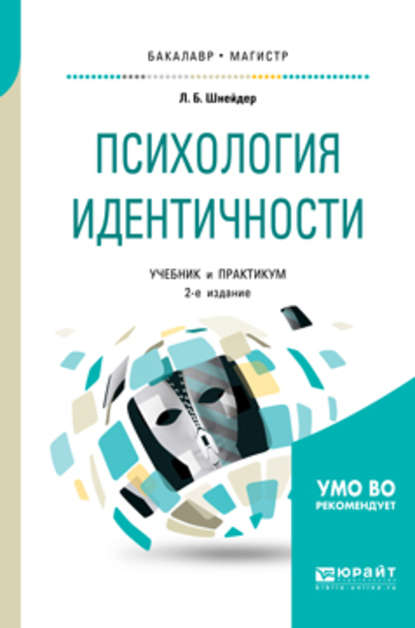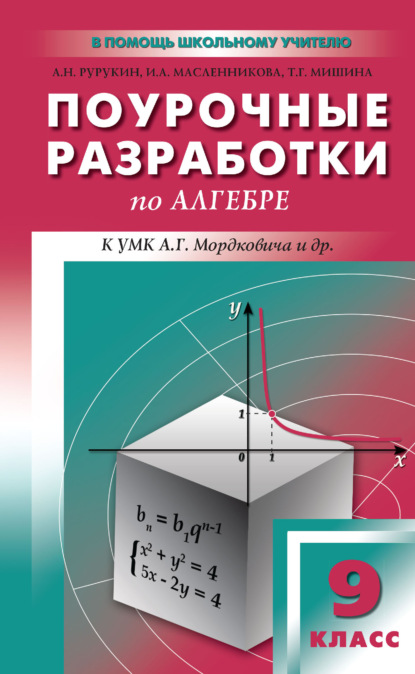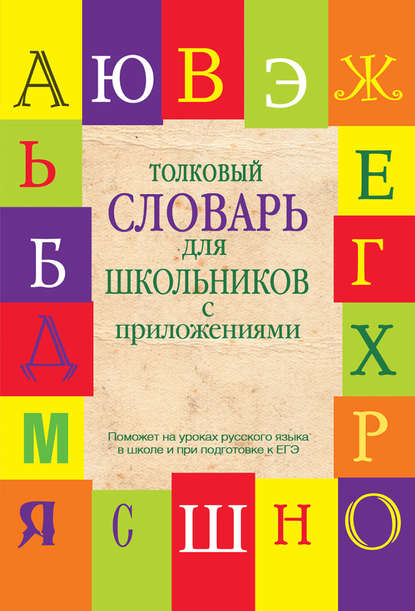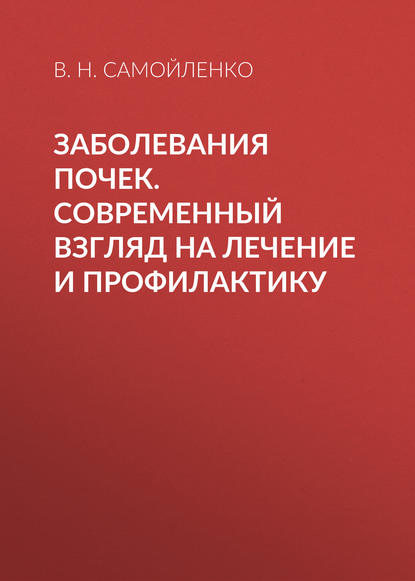Жизнь простого человека
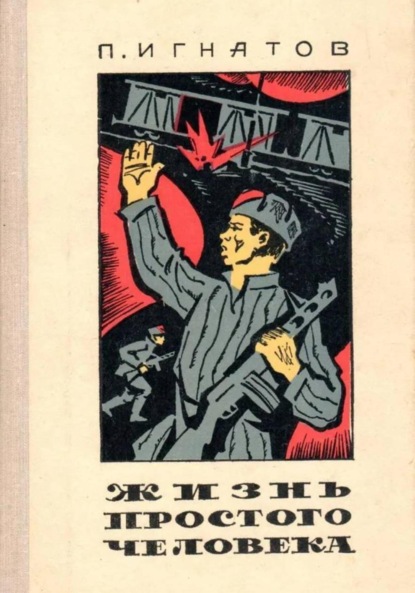
- -
- 100%
- +
такие дела, о которых не нужно спрашивать и болтать зря не нужно… Борются люди за нашу
свободу, за наше счастье, чтобы нам лучше жилось. Великое дело делают, сынок!.. И мы им
должны помогать, беречь их должны. Понимаешь?
Я не понимал тогда, в чём заключается борьба, о которой говорил отец, и какое отношение
к этой борьбе имеют встречи дяди Фёдора с молчаливым человеком у нас в комнате. Но то, что
это «тайна», я понимал. И, кажется, скорее откусил бы себе язык, чем стал бы рассказывать кому-
нибудь об этом.
Побродив по городу, мы возвращались домой. Мать уже не сидела на лавочке у ворот. В
комнате было накурено. В открытую форточку тянуло осенним холодком.
Один раз молчаливый гость пришёл, когда я лежал в постели больной. Я простудился, у
меня был жар, побаливало горло.
– Как же ты так, Фёдор? – сказал гость. – Мальчик болен, не следовало бы нам беспокоить
людей!
– Да я ж не знал, Платон Иваныч, что он больной, – оправдывался смущённый дядя Фёдор.
– Ничего, – сказал отец, – мы выйдем, а он полежит.
– Ну хорошо, спасибо, мы недолго…
Отец с матерью вышли. Человек, которого дядя Фёдор называл Платоном Иванычем,
подошёл к моей постели, положил мне на лоб узкую холодную ладонь.
– Жарок есть, – проговорил он. – Простыл? Ну, лежи, детка, спи! Мы тут потихоньку… А
папироску, Фёдор, брось. Давай уж не будем сегодня дымить…
У него были добрые глаза, худое усталое лицо. Меня тронула его ласка. Я улыбнулся ему и
повернулся лицом к стене. Сердце у меня учащённо билось. Я думал, что услышу сейчас о чём-
то необычайном, таинственном. Но Платон Иваныч и дядя Фёдор говорили вполголоса о каких-
то кружках, листовках, книжках. Платон Иваныч спрашивал, а дядя Фёдор отвечал, торопясь и
волнуясь. Несколько раз в разговоре была упомянута «Искра», – должно быть, та самая, о которой
дядя Фёдор говорил отцу. Я, признаться, был разочарован. Конечно, я не понимал того, что, по-
видимому, речь шла о подпольной революционной работе во флоте, и был удивлён, когда в
заключение беседы Платон Иваныч похвалил дядю Фёдора:
– Молодец! Дело у тебя идёт!
– Да ведь я, Платон Иваныч, всей душой! – радостно отвечал дядя Фёдор.
– Знаю, что всей душой! Только не горячись, об осторожности не забывай. Помни: дорог
нам каждый человек!..
Первым из комнаты вышел дядя Фёдор. Платон Иваныч прошёлся по комнате, остановился
около моей кровати.
– Спит, – тихо сказал он и засмеялся.
Немного погодя вышел и он, ступая на носки, и, стараясь не шуметь, прикрыл за собой
дверь.
И ещё помню бурный осенний вечер. Глухо и тревожно шумело море. Дождь хлестал в
окна. Порывами налетал сильный ветер. Где-то хлопала ставня. Наверху, над головой, гремело и
стучало, словно кто ходил по крыше. В порту тоскливо, надрывно выла сирена.
Я уже лежал в постели, вслушиваясь сквозь дрёму в тревожные шумы ненастного вечера.
Отец с матерью тоже собирались ложиться.
В дверь постучали. Вошёл дядя Фёдор в мокром бушлате. Он торопился, был озабочен, и
сразу в комнате стало неспокойно, словно вместе с ним к нам ворвался свист ветра, шум моря.
Не раздеваясь, он шёпотом заговорил о чём-то с отцом. Мать стояла в стороне, бледная, кутаясь
в платок.
Дядя Фёдор достал из-под бушлата небольшой свёрток и передал отцу. Отец молча кивнул
головой, подошёл к постели, сунул свёрток под подушку.
Что было в свёртке, переданном дядей Фёдором отцу, не знаю. Думаю, что это были
листовки.
– Передам, – коротко сказал отец.
– Спасибо тебе… за всё! – сказал дядя Фёдор.
– Тебе, Федя, спасибо, – растроганно проговорил отец. – Правильный ты человек, Федя!
Они обнялись, поцеловались, как перед долгой разлукой. Матрос протянул руку матери,
шагнул к порогу. Остановился, словно вспомнил о чём-то, на цыпочках подошёл к моей постели.
Увидев, что я не сплю и во все глаза смотрю на него, он заговорщицки подмигнул мне.
– А что, брат, – сказал он, обращаясь к отцу, – небось этот парнишка счастливей нас с тобой
будет? А? – И ответил сам себе: – Непременно будет! Дотопает до свободной жизни!..
Он вышел. Мать торопливо погасила лампу. Но спать отец с матерью не легли. Они долго
сидели в темноте, молчали. И я не спал, всё слушал, как шумит непогода…
С того вечера я больше не видел дядю Фёдора, весёлого матроса. Отец строго-настрого
запретил мне говорить кому бы то ни было, что он был у нас в тот вечер…
Жизнь шла своим чередом.
Утром отец уходил на работу, я бежал в училище, где рыжий, с подвязанной платком щекой
учитель обучал нас чтению, сложению и вычитанию, а толстый, добродушный поп заставлял
зубрить молитвы. Казалось, ничего не изменилось, – вот только дядя Фёдор перестал бывать у
нас…
В один из сереньких октябрьских дней 1902 года я шёл в училище. Я опаздывал к началу
занятий и очень торопился. И всё же, проходя берегом канала, мимо матросских казарм, невольно
замедлил шаги. Обычно здесь было тихо, безлюдно, только у раскрытых чугунных ворот стоял
часовой-матрос. А сегодня казармы гудели от шума голосов, как ульи. Ворота были закрыты. И
в этом было что-то тревожное, что заставило меня забыть об училище.
Что случилось?
Мерно стуча сапогами, торопливо прошёл взвод солдат под командой молодого безусого
офицерика.
Навстречу мне бежал вприпрыжку один из моих товарищей по училищу.
– Занятий не будет! – радостно крикнул он, размахивая сумкой с книгами. – Матросы
бунтуют!.. Пошли в гавань!
Я было увязался за ним, но вдруг где-то совсем близко сухо затрещали выстрелы. Прохожие
бросились во дворы, в подъезды домов. Я испугался и бегом кинулся домой.
А на другой день Кронштадт наполнился хмурыми, сердитыми солдатами в длинных серых
шинелях. На притихших, пустынных улицах слышался топот их подкованных сапог, тускло
поблёскивали штыки винтовок.
То и дело можно было видеть, как солдаты вели куда-то арестованных матросов.
Ребята в училище рассказывали, что около базара между моряками и солдатами было
«сражение». Поползли слухи о том, что многие матросы расстреляны. Тягостное уныние
опустилось на город…
Так закончилась одна из мятежных вспышек, или, как тогда говорили, «бунт»
кронштадтских моряков.
Я всё приставал к отцу, спрашивал, почему бунтовали матросы.
– А ты разве не слыхал, – отвечал отец, – что рассказывал дядя Фёдор о матросской жизни?
От этакой жизни забунтуешь!.. Терпит, терпит человек, а потом уж у него и терпежу не хватает…
Из разговоров отца с матерью я узнал, что арестовали и дядю Фёдора.
«За что арестовали этого весёлого, доброго человека? Не мог он сделать что-нибудь
плохое!» – думал я, вспоминая его улыбку, блеск его глаз.
Товарищ, мы едем далёко,
Подальше от нашей земли… –
вспоминался мне его глуховатый голос.
На глазах у матери я часто видел слёзы. Отец приходил по вечерам с работы сумрачный,
неразговорчивый.
Может быть, это было первое ощущение несправедливости, первое зерно внутреннего
протеста, зароненное «бунтом» матросов в мальчишескую душу.
И зерно это не заглохло. Этому способствовали и время – бурные годы нараставшей и
крепнувшей революционной борьбы, – в которое прошли мои детство и отрочество, и среда –
простой рабочий народ, с которым я жил одной жизнью.
5
Осенью 1904 года наша семья снова отправилась в дальнее путешествие – на этот раз с
севера на юг. Отца перевели в Севастополь, на постройку нового большого военного корабля.
Снова мы увидели тёплое южное море.
За время нашей жизни в Кронштадте я не только привык к неярким, неласковым просторам
Балтики, но и полюбил их своеобразную, суровую красоту. И всё же южное море, щедрое теплом,
светом, красками, было как-то ближе, роднее – должно быть, по воспоминаниям раннего детства.
Когда я увидел его синий простор, ощутил на лице его тёплое, мягкое дыхание, это было как
ласка, как привет старого друга после длительной разлуки!
В Севастополе мы поселились в Корабельной слободке, населённой в те времена рабочим
людом – семьями моряков, рабочих, рыбаков, – в ветхом флигельке из двух комнатёнок,
стоявшем в глубине двора, в кустах сирени и акации.
Мать повеселела, расцвела. Два дня она мыла и скребла наше новое жилище и внутри и
снаружи. Она уже мечтала о том, как вскопает грядки под небольшой огородик, заведёт курочек.
Отец тоже был весел и доволен. Насвистывая, он строгал раздобытые им где-то старые
доски, пилил, стучал молотком – ладил скамьи, полки, табуретки, даже топчан смастерил.
У меня скоро завелись приятели среди соседских ребятишек, и я целыми днями пропадал
из дому – то бродил с новыми друзьями по улицам незнакомого мне города, то шатался в шумном
порту.
Здесь, так же как и в Сухуми, у прибрежных камней плескалось тёплое синее море, на
холмах зеленели сады, виноградники, было много цветов, зелени.
На рейде, на ослепительно голубом шелку бухты, стояли серые стальные громады военных
кораблей. На улицах, в порту, на набережной было много матросов в белых блузах с синими
воротниками. Это напоминало Кронштадт, только всё здесь было ярче, нарядней, праздничней.
Мне очень нравился Севастополь – красивый белый город, раскинувшийся на холме.
Нравились его широкие улицы с тенистыми деревьями по обочинам, с большими красивыми
домами. Но, конечно, лучше всего было море, видное из города отовсюду, в какую сторону ни
посмотришь. Спокойная поверхность Южной бухты казалась исчерченной непрестанно
снующими из конца в конец катерами, лодками, яликами.
В глубине Корабельной бухты были в те времена сухие доки, в которые заходили самые
большие корабли. Перед огромным зданием Лазаревских морских казарм возвышался памятник
Лазареву, на котором славный русский флотоводец был изображён без шапки, с подзорной
трубою под левой рукой. От памятника открывался великолепный вид на Адмиралтейство, на лес
мачт и труб, на гранитную набережную, на эллинг (помещение на берегу, где строится или
ремонтируется корпус судна. – Прим. ред.), на огромный плавучий док.
Памятников в городе было много, чуть не на каждом шагу. С невольным почтением
вглядываешься, бывало, в суровые черты бронзовых лиц людей, которые создали бессмертную
славу русского флота.
На площади, против Морского собрания, стоял огромный памятник адмиралу Нахимову.
Меня привлекала необыкновенная простота и в то же время сила этого человека, сутулого, в
скромном сюртуке с эполетами, в небрежно сдвинутой на затылок фуражке. У ног его навеки
застыли бронзовые складки поверженного турецкого знамени.
Самым же удивительным казался мне памятник Тотлебену на Историческом бульваре, где
в дни Севастопольской обороны 1854-1855 годов находился знаменитый Четвёртый бастион.
Пьедестал этого памятника – глыба грубо отёсанного гранита – изображал окопы, изрытые
снарядами. Здесь были бронзовые фигуры солдат, защищающих обвалившийся окоп, сапёров,
орудующих лопатами, минёра с киркой в руках, работающего в минной галерее, матроса около
мортиры (артиллерийское орудие с коротким стволом для навесной стрельбы. – Прим. ред.). Это
были простые люди – те самые матросы и солдаты, которых можно было встретить на каждом
шагу в порту или около казарм. Если им поставлен памятник, – значит, и они герои?..
Копаясь вместе с ребятишками в раскалённой солнцем сухой земле на склонах Малахова
кургана, заросших рыжей колючей травой, я с любопытством и невольным волнением
разглядывал тяжёлые осколки чугунных ядер и круглые пули, которые мы там находили и
продавали за медяки гуляющей публике из приезжих.
Любил я смотреть, бывая на Приморском бульваре, откуда нас, босоногих ребятишек,
нещадно гоняли сторожа в часы гуляния «чистой» публики, на высокую, увенчанную орлом,
гранитную колонну, возвышавшуюся над водой недалеко от яхт-клуба. Я знал, что на этом месте
были затоплены русские корабли, чтобы преградить неприятелю доступ к Севастополю с моря.
Всё это было когда-то очень давно, много лет тому назад, но героическое прошлое города
было живо и сейчас. Оно придавало Севастополю особое очарование, тревожившее
любопытство, заставляющее мечтать о подвигах…
Не помню уж почему, но только отец не сразу начал работать на строительстве. У него
оказалось недели две свободного времени. Сидеть без дела он не любил, – да и почему бы не
подработать немного? Вот он и устроился на это время механиком на лесопилку под Балаклавой.
Мать с моей маленькой сестрёнкой остались в Севастополе, а меня отец взял с собой.
В Балаклаву мы отправились на рассвете погожего дня, пешком с котомками за плечами,
как заправские мастеровые.
Тогда Балаклава была маленьким городком, раскинувшимся на скалистых террасах,
спускающихся к тихой, бирюзового цвета бухте, закрытой высокими берегами.
Поселились мы с отцом у грека-рыбака, в домике с плоской крышей, сложенном из
ноздреватого камня.
Хозяин лесопилки, татарин с нездоровым, оплывшим лицом и злыми глазками, торопил
отца: лесопилка стояла второй день из-за болезни механика. Мы с отцом сейчас же, как только
пришли в Балаклаву, приступили к работе.
Лесопилка была маленькая – в одну раму. На ней пилили доски для ящиков под фрукты, и,
кроме отца и двух подсобных рабочих, заправляющих брёвна в лесопильную раму, людей на ней
не было.
Отец поручал мне дежурить у машины, когда ему нужно было что-нибудь сделать в
слесарной мастерской. Кроме того, я помогал отцу качать воду в водонапорный бак, работать у
кузнечного горна. И как же я гордился тем, что помогаю отцу, как я задирал нос перед соседскими
ребятишками, которые целый день только и делали, что возились в песке на берегу да
полоскались в тёплой водичке. Конечно, и меня неудержимо тянуло в море, но я крепился. Зато,
когда мы с отцом кончали работу и шли купаться, я уж старался наверстать упущенное!..
В маленькой слесарной мастерской, оборудованной под навесом около лесопилки, отец
учил меня рубить металл зубилом, обрабатывать его слесарной пилой. Он научил меня делать
резьбу на водопроводных трубах, на болтах и гайках. Наверно, все эти поделки были далеки от
совершенства, но я с таким любовным тщанием отделывал «свои» болты и гайки напильником,
шлифовал их шкуркой, что как-то раз отец, скупой на похвалу, долго разглядывал мою работу, а
потом сказал: «Что ж, этого я достиг, когда мне было лет на шесть больше, чем тебе теперь».
Я так и просиял от похвалы отца.
Вернувшись домой после долгого, двенадцатичасового рабочего дня и освежившись в море,
мы с отцом с жадностью накидывались на хлеб, помидоры, рыбу, которую тут же, на дворе,
поджаривала для нас на таганке худенькая, большеглазая девочка, старшая дочь рыбака. Звали
её, как мне казалось, странно и красиво – Киприда.
После еды я с наслаждением вытягивался рядом с отцом на жиденьком тюфячке, на котором
мы спали, и слушал, как трещат за стеной цикады, как тихо шумит, набегая на прибрежные скалы,
близкое море.
В эти мирные вечерние часы отец рассказывал мне о своём тяжёлом детстве, о годах
ученичества, о трудном пути, которым должен был идти рабочий человек, чтобы в непрестанном
труде добывать себе кусок хлеба.
В голосе его слышались горькие нотки, когда он говорил, что для себя не ждёт уж ничего
лучшего, а вот меня хотел бы видеть другим – свободным, образованным человеком.
Я лежал не шевелясь. Мне было жалко отца, так же как было жалко мать, когда я видел её
склонившейся над корытом в тёмном, сыром подвале…
Почему одним живётся хорошо, а другим плохо? Одни катаются по улицам города в
нарядных экипажах, гуляют по Приморскому бульвару, красивые, нарядные, а другие работают,
работают с утра до вечера, живут в тесных, душных конурках, носят бедную, некрасивую одежду.
Почему? Почему?
Я гордился тем, что отец разговаривает со мной как со взрослым, как с равным себе, как с
товарищем. Но задать ему мучивший меня вопрос «почему?» я не решался. Мне казалось, что
этот вопрос его обидит, что он может подумать, будто я недоволен, что у меня отец – рабочий,
что мы живём небогато, не катаемся по городу, не гуляем по бульвару. А я твёрдо был уверен,
что мой отец замечательный человек!
Нередко наш вечерний отдых нарушался. Хозяин домика, в котором мы жили, частенько
приходил пьяный. Он был буен во хмелю. Огромный, страшный, с палкой в руке, он входил в
дом, расшвыривал вещи. Слышался звон разбитой посуды. Мешая русские и греческие слова, он
громко бранился, искал Киприду, хотел побить её. Неизвестно, за что можно было сердиться на
эту кроткую девочку, выполнявшую всю работу по дому. Маленьких ребятишек он не трогал, –
сбившись в кучу на кровати, они молча со страхом следили за тем, как бушует их отец. Киприда
же, как только грек приходил пьяным, бесшумной тенью проскальзывала в нашу комнату и
забивалась в угол. Там она садилась на земляной пол и, обхватив колени руками, замирала, зная,
что пьяный не посмеет войти сюда.
Грек долго бродил, спотыкаясь и бранясь, по тёмному двору. Потом подходил к двери
нашей комнаты и, выкрикивая угрозы, требовал к себе Киприду. Мой отец вставал, открывал
дверь и выходил к греку.
– Эй, Сатырос, не мешай спать и оставь девочку в покое! – слышал я в темноте спокойный
голос отца. – Давай сюда палку-то. Так! Ну вот, теперь давай сядем, поговорим… Ты что это
взбунтовался? Глупый ты человек. Сатырос! Пьёшь много, шумишь, мало работаешь. Горе твоё,
бедность тянут к вину, а ты не поддавайся, крепись. Киприда – девочка хорошая, работящая, всё
твоё хозяйство ведёт, а ты её бить хочешь, злой человек… За что? Подумай сам…
– Злой? Не злой! Глупый – да, бедный – да! – раздавался хриплый голос грека.
Вероятно, уже в десятый раз рассказывал он отцу о смерти жены, о том, что он в
безысходной кабале у богатого грека-кулака, отбиравшего у него за долги весь улов.
– Зачем работать? Зачем жить?
Он сползал со скамьи, на которой сидел рядом с отцом, на землю, становился на колени. Он
плакал, раскачиваясь и дёргая себя за волосы. Киприда выбегала из комнаты во двор, обнимала
тоненькими руками своего отца за шею, приглаживала его взлохмаченные волосы. Он ловил её
руки, целовал и наконец засыпал, положив голову на колени дочери.
Отец возвращался, ложился рядом со мной.
– Ох, люди, люди! И за что у вас жизнь такая подлая? – бормотал он. Вздыхал, долго
ворочался.
А мне до слёз было жалко и бедную Киприду, и даже этого несчастного Сатыроса. И снова
я думал: «Почему так плохо, так несправедливо устроена жизнь людей?» Когда отец брал расчёт
– пора уже было возвращаться в Севастополь, – хозяин лесопилки попробовал было обсчитать
его. Отец сгрёб татарина за шиворот и, хотя был не очень высокого роста, приподнял от земли,
заваленной опилками и стружками. Глядя на помертвевшее от страха лицо хозяина, он спокойно
сказал:
– Ты что же думаешь, раз я простой, рабочий человек, так у меня и управы на тебя нет?
Врёшь! Мы, приятель, посильнее вас!.. Не лезь в чужой карман, а то сейчас под пилу суну!
Татарин испуганно пискнул. Отец отпустил его, он швырнул на верстак деньги и, как заяц,
прыгнул из лесопилки.
– Шайтан! Шайтан! – вопил он на бегу.
Отбежав, он остановился и, потрясая кулаком и брызгая слюной, грозился позвать
полицию.
Через полчаса мы шагали с котомками за плечами.
Пройдя с полверсты, отец остановился и громко расхохотался. Глядя на него, засмеялся и
я.
– «Шайтан! Шайтан!» – проговорил отец сквозь смех, подражая писклявому голосу
татарина. – Сам-то он и есть шайтан!.. Эх, сынок! Никогда не дозволяй этим шайтанам, этим
живоглотам проклятым хватать тебя за горло! Верно Фёдор-то говорил – на силу надо силой
отвечать!..
Это было в первый раз, что он вспомнил дядю Фёдора, нашего кронштадтского гостя.
Мы шли с отцом по пыльной, жаркой дороге, и я чувствовал себя, не знаю уж почему,
сильным и смелым.
Когда мы вернулись в Севастополь, я упросил мать сшить мне из старой отцовской рубахи
рабочую блузу. Мать сделала на левой стороне груди узенький длинный кармашек, в который я,
когда надевал блузу, засовывал обломок складного аршина и старый отцовский кронциркуль.
Мы прожили в Севастополе немногим больше года, но я на всю жизнь сохранил память о
нём. Многим я обязан этому городу!
Здесь мне впервые довелось увидеть и понять величие созидательного человеческого труда.
Здесь, в Севастополе, я увидел богатырскую силу, могущество, сплочённость и мастерство
простых рабочих людей – тех самых людей, к великой семье которых принадлежали отец, мать,
я сам.
Отец, случалось, брал меня с собой на работу, на постройку нового боевого корабля. Я готов
был на какие угодно жертвы, лишь бы заслужить право пойти с отцом.
В эти дни я вставал раньше всех, облачался в свою блузу, завёртывал в узелок припасённую
матерью еду и с нетерпением ждал, когда отец позовёт меня.
Мы плыли по сверкающей под ещё низким солнцем бухте на барже, которую тащил
отчаянно пыхтевший катерок. И вот наступала долгожданная минута: мы оказывались на
территории эллинга, в чудесном, сказочном мире. Мы проходили мимо низкого, приземистого
здания с огромными воротами, в тёмной глубине которого, как в таинственной пещере, что-то
гудело, громыхало, лязгало, ослепительно вспыхивало.
Я привык к виду больших судов в Кронштадте, но гигантский, чёрный, весь в ржавых
потёках и красных пятнах сурика ребристый скелет корпуса корабля, вздыбившийся в синее небо,
не был похож ни на что, виденное мною. Невозможно было даже представить себе, что эта чёрная
железная громадина когда-нибудь будет рассекать морские волны.
Вокруг этой махины двигались ажурные мачты кранов. Гремел оглушительный перезвон
молотков клепальщиков. Слышались пронзительные гудки, скрежет и грохот металла, свист и
шипенье пара. Багровые вспышки огня, разноцветные клубы дыма…
Всё это сначала оглушало, пугало, заставляло невольно жаться к отцу. Но вот испуг и
растерянность проходили. И тогда всё становилось необыкновенно интересным. В оглушающем
хаосе звуков раскрывался слаженный труд многих сотен, а может быть, и тысяч людей, и этот
труд невольно захватывал, вызывал чувство восхищения.
Не спуская глаз с отца, я следил, как он, неторопливый в движениях, говорил о чём-то с
рабочими своей бригады, рассматривал чертежи, спокойный, сильный человек в синей блузе.
У отца была бригада, состоявшая из двух десятков квалифицированных рабочих разных
специальностей. Отец умел разобраться в чертежах, знал разметку и обычно сам давал рабочим
указания, где и как, под каким углом следует обрезать броневые плиты и стальные доски для
переборок, где сверлить дыры для соединений при сборке листов на корабле.
С отцом часто советовались другие бригадиры, – все знали, что бригада отца не допускает
брака в работе и ещё ни разу не «запорола» дорогую броневую плиту. Знали о нём и другое: