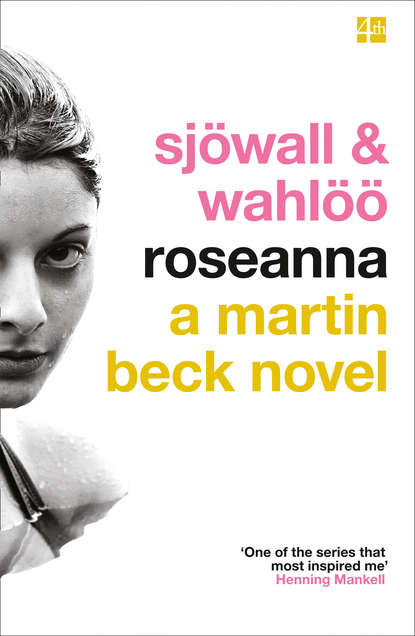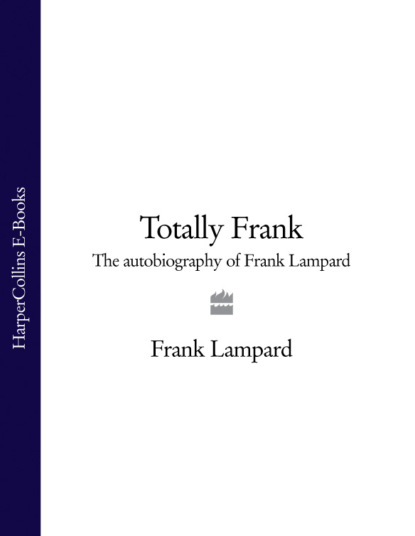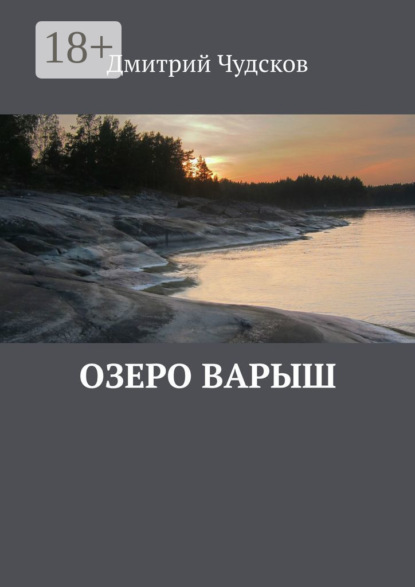Жизнь простого человека
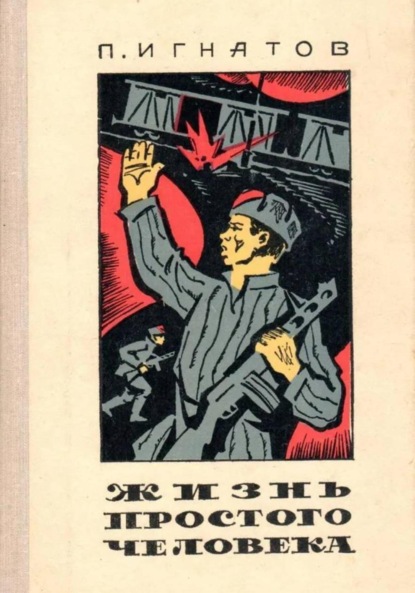
- -
- 100%
- +
происходит это не потому, что отец бережёт «казённое» добро, выслуживается перед
начальством, а потому, что портить материал не позволяла ему рабочая честь, честь хорошего
мастера.
Больше всего меня поражал гигантский пресс, который с удивительной силой и точностью
продавливал в огромных стальных листах отверстия, словно это была не сталь, а мягкий воск.
Часами мог я простаивать около клепальщиков, хотя от их шумной работы у меня потом
полдня звенело в ушах. У переносных горнов, пышущих нестерпимым жаром, стояли
мальчуганы чуть постарше меня. Они внимательно следили за нагревом небольших
цилиндрической формы кусков металла – заклёпок, – которые рабочие выхватывали из горнов
длинными клещами, быстро и ловко вставляли в отверстия в обшивочных листах и зажимали
кувалдами. В ту же секунду с другой стороны листа раздавался дробный перезвон молотков. Это
принимались за дело клепальщики, точными, быстрыми ударами придававшие головке заклёпки
аккуратную полукруглую форму.
Я знал, что эта работа, выполняемая, казалось, словно играючи, на самом деле требует не
только сноровки, но и выучки, мастерства и даётся человеку нелегко. И это вызывало уважение
к людям с утомлёнными, потными лицами, с молотками или клещами в сильных, мускулистых
руках.
Становилось неловко, стыдно, что я стою и смотрю, как работают другие. И не было для
меня большей радости, если удавалось помочь кому-нибудь из рабочих, как и не было большего
огорчения услышать чей-нибудь окрик: «А ну, не вертись тут под ногами, видишь, люди
работают!».
Я бегал по всей стройке, заглядывал во все щели. Но когда раздавался гудок на обеденный
перерыв, я неизменно оказывался около отца. Интересно было слушать разговоры рабочих из
«нашей» бригады, когда они, расположившись где-нибудь в тени и развязав свои узелки,
неторопливо принимались за еду.
– Что, Поликарп Игнатьич, – говорил кто-нибудь из рабочих, обращаясь к отцу, –
парнишка-то твой, похоже, по нашей дорожке пойдёт!
Отец, усмехаясь, смотрел на меня, смущённого общим вниманием, и отвечал:
– Дорожка рабочего человека хорошая – прямая, чистая. Нелёгкая только…
6
Севастополю я обязан ещё и тем, что именно в нём впервые начал раскрываться для меня
глубокий, волнующий смысл пламенного слова «революция».
Это слово я слышал и раньше, но не понимал его значения и знал только, что люди
произносят его с оглядкой и в то же время с какой-то душевной взволнованностью, как будто в
нём, этом слове, скрыто что-то заветное, дорогое. От слова «революция» у людей светлели лица,
загорались глаза и расправлялись плечи, согнутые нуждой, безрадостной жизнью и тяжёлым,
подневольным трудом.
Слушая по вечерам в Кронштадте дядю Фёдора, я понимал: то, о чём он говорил, имеет
отношение к революции, хотя он редко произносил это слово. С этим же словом в моём
представлении связались и восстание матросов в Кронштадте, и стрельба на улицах, и хмурые
солдаты, ведущие арестованных матросов.
И вот случилось так, что здесь, в Севастополе, пламенное слово «революция» стало
понятным, близким, оно вошло в нашу жизнь.
Шла ненавистная народу русско-японская война. Война была где-то очень далеко, на краю
земли. К нам её отголоски докатывались в виде рассказов о героической обороне Порт-Артура, о
подвиге матросов эсминца «Стерегущий», которые не захотели сдаться в плен японцам и
предпочли погибнуть, открыв кингстоны и потопив корабль.
Была и другая сторона войны – неутешные вдовьи слёзы, нищета, разорение, сиротство. В
народе ходили тревожные, пугающие слухи о том, что царская армия плохо вооружена, плохо
обучена, что царские генералы продались врагу, что русских бьют…
Какие-то нарядные барыни собирали в Севастополе пожертвования в пользу «героев-
матросиков». Говорят, целый вагон образков и крестиков отправили на Дальний Восток, тогда
как русские солдаты нуждались в оружии и хлебе…
В городе появились раненые – страшные, изуродованные калеки. Их можно было видеть на
каждом перекрёстке, они назойливо просили милостыню под окнами, останавливали прохожих,
требовали помощи, кляли войну, ругали начальство.
Мальчишки – дошлый (способный дойти до всего, смышлёный, ловкий. – Прим. ред.)
народ. Шныряя в свободное от учения время в порту, прислушиваясь к разговорам и спорам
рабочих или матросов, я и мои приятели были в курсе всех событий. А событий было – хоть
отбавляй. Время было тревожное, беспокойное. Россия кипела, как в котле. Все ждали чего-то –
неотвратимого, грозного, что нависло над жизнью людей, как грозовая туча нависает над
притихшими полями…
На окраине Корабельной слободки, по соседству с нами, в таком же маленьком домике, как
и наш, жила небольшая рабочая семья.
Старик Кузьма Данилыч Белоус работал в порту, в слесарно-сборочной мастерской; старуха
Егоровна, больная и слабая, вечно охавшая от «ломоты во всех косточках», вела небогатое
домашнее хозяйство. Со стариками жила жена их единственного сына Андрея, Настя, молодая,
тихая женщина. Самого Андрея не было дома: он служил на флоте, года два назад его угнали на
Дальний Восток «бить японца».
Настя с утра до вечера пропадала на подённой работе – то на виноградниках и огородах, то
ходила по людям стирать бельё. Она, видно, сильно тосковала по своему Андрею. Редко можно
было увидеть на её бледном лице улыбку.
Отрадой и утешением была трёхлетняя Катюшка, забавная девчурка, дочь Насти и Андрея.
С утра и до вечера она копошилась в маленьком садике у дома, играла с большим кудлатым и на
редкость незлобивым псом Полкашкой. Её голосок весь день звенел, как щебетанье весёлой
птички, и нельзя было не улыбнуться, заслышав его.
От Андрея давно не было писем, и в семье тревожились о нём. Появился он в один
прекрасный день нежданно-негаданно, ни словом не известив семью о своём возвращении. Меня
в это время не было дома. Мать рассказывала потом отцу, что Настя, увидев мужа, «так замертво
и повалилась». И не мудрено: Андрей Белоус вернулся инвалидом, без одной ноги, с
простреленной грудью.
На следующее утро на крылечке соседского дома я увидел худого, без кровинки в лице,
человека с небольшими чёрными усиками. Он был в чистой белой рубахе, в чёрных брюках
навыпуск. Из левой, казавшейся пустой, штанины выглядывала деревянная нога с набитым на
конце куском резины, чтобы не стучала. Рядом с ним сидела Катюшка в новом розовом платьице
и, по своему обыкновению, звонко болтала. Он внимательно слушал её, бережно проводя рукой
по лёгким светлым волосам девочки, и его болезненное лицо светилось радостью.
Андрей Белоус был своим человеком в Слободке. Вскоре познакомился он и с нашей семьёй
и нередко заглядывал к нам – побеседовать с отцом. Отцу Андрей пришёлся по душе. Ему
нравилось, что, несмотря на свою беду, Андрей головы не вешал. «Моряк без ноги, – сказал
Андрей отцу, – всё равно что рыба без хвоста… Что ж, руки есть, голова цела, – значит, без дела
сидеть не буду!».
И верно, без дела Андрей не сидел: стал сапожничать. Теперь всегда можно было видеть в
открытом настежь окне его черноволосую голову, склонённую над работой. Он был хорошим
мастером, за работу брал «по-божески», и у него отбоя не было от заказчиков.
Впрочем, не только мастерство молодого сапожника и сходность запрашиваемой им цены
привлекали людей в каморку Андрея, люди любили побеседовать с ним, потолковать по душам.
Он умел и нужный совет дать, и просто сказать доброе, приветливое слово, и объяснить многое
из того, что волновало тогда народ.
Поговаривали, что по ночам в маленький домик Белоусов приходят тайком какие-то люди,
всё больше матросы.
Но что это были за люди и зачем они приходили – никто толком не знал.
В моей мальчишеской жизни «дяденька Андрей» занял со временем большое место. Он
любил детей, хорошо умел ладить с ними – не как взрослый, а как равный, как товарищ. У его
окна часто можно было видеть ребятишек, которым он рассказывал какую-нибудь
увлекательную историю.
Сколько хороших часов провёл я в его маленькой каморке, сидя на низенькой скамеечке у
окна, в то время как он, постукивая молотком или орудуя иглой с крепкой дратвой, рассказывал
мне и Катюшке, не отходившей от отца, о дальних странах, в которых ему довелось побывать,
плавая матросом на различных кораблях.
Он рассказывал нам о коралловых островах и пальмовых рощах, глядящихся в голубые
зеркала лагун, о скалистых шхерах (архипелаг, состоящий из мелких скалистых островов,
разделённых узкими проливами и покрывающих значительную часть прибрежной морской
полосы. – Прим. ред.) с чёрными отвесными стенами, уходящими в неподвижную воду, о зелёных
садах солнечной Калифорнии, о знойном, иссушающем дыхании пустыни в Красном море, о
джонках с камышовыми парусами (традиционное китайское парусное судно для плавания по
рекам и вблизи морского побережья. – Прим. ред.), тысячами толпящихся в китайских портах, о
летающих рыбах в южных морях и китах, резвящихся в суровых водах Ледовитого океана…
Маленькой Катюшке рассказы её отца казались удивительными сказками. А я старался
отыскать на карте из школьного учебника места, в которых побывал Андрей, завидуя, что он
изъездил чуть ли не весь земной шар.
Да, во многих краях земли побывал этот человек с бледным, болезненным лицом и
внимательным взглядом добрых глаз, постукивающий теперь сапожным молотком!.. Где бы
Андрей ни побывал, он видел: плохо, трудно живётся рабочему человеку, какого бы цвета ни
была у него кожа – белой, чёрной или жёлтой – и где бы человек ни работал – в доках, в порту,
на плантации, на фабрике.
– А почему так, дяденька Андрей? – спросил я.
– А потому, что много охотников жить за чужой счёт, на чужой спине ехать!
– Да ведь нас-то больше! – не унимался я.
Он поднял голову и посмотрел на меня.
– Кого это – нас?
– Да тех, кто работает!
– Это ты, дружок, верно сказал!.. Нас больше, и сила у нас большая. Надо только
организовать, собрать всю эту силу, в один крепкий кулак собрать. И тогда, если стукнуть тем
кулаком, от любителей жить за чужой счёт мокрое место останется!
Больше всего я любил, когда дяденька Андрей, отдыхая, откладывал в сторону работу,
закуривал самокрутку и начинал на память читать стихи любимого своего поэта – Некрасова. Я
тогда впервые понял, что такое стихи, – они производили на меня такое же впечатление, как
песни, которые пел нам в Кронштадте дядя Фёдор:
Мало слов, а горя реченька,
Горя реченька бездонная!..
В душе поднималось щемящее чувство тоски, на глаза навёртывались слёзы. Хотелось как-
то выразить свои чувства, но нужных слов не было… Заметно бывал взволнован и сам Андрей.
Прочитав стихи, он долго сидел молча, курил, и лицо у него было печальным, задумчивым.
Потом встряхивал головой и брался за работу; снова постукивал его молоток.
На полке Андрея лежала стопка тоненьких книжечек, которые он охотно давал читать всем,
кто просил. Несколько книжечек прочитал и я. Помнится, это были издания «Посредника». Читая
их, я сделал новое для себя открытие: что правдивый рассказ об обыкновенной жизни простых
людей – какого-нибудь Антона Горемыки, мальчика Ваньки Жукова, глухонемого Герасима –
может волновать нисколько не меньше, чем самые необыкновенные похождения героев сказок,
которые до сих пор были главным моим чтением.
Однажды вечером – солнце только что наполовину окунулось в море – я возвращался домой
с рыбной ловли. На верёвочке у меня болталось несколько рыбёшек – большеголовых пёстрых
бычков.
– Ого, славный улов! – услышал я незнакомый голос.
Смотрю, на лавочке у забора сидит человек в парусиновом пальто, сапогах, в картузе,
сдвинутом на затылок. Я никогда не встречал этого человека на нашей улице.
– Жарить будешь, или мать уху сварит? – спросил он.
– Жарить.
– Ну и правильно!.. А может, продашь бычков-то?
У незнакомца было круглое румяное лицо, пушистые прокуренные усы. Я подошёл к нему
ближе.
– Может, продашь бычков-то? – повторил он. – Полтину дам… Люблю я этих самых
бычков.
Полтину? Это было для меня целым богатством! На базаре мне и гривенника не дали бы за
моих бычков.
– Да ты подойди, чудачок, не бойся! Садись-ка, потолкуем… – Он взял из моих рук связку
бычков. – Хороши бычки! Не жалко денег за них!..
На его широкой ладони блеснул новенький полтинник. Но когда я протянул было к монете
руку, он сжал пальцы в кулак.
– Деньги от тебя, хлопчик, не уйдут, – сказал он, – не сомневайся. Деньги – твои, я от своего
слова не отступлю… Ты мне вот что скажи: ты сапожника Андрея Белоуса знаешь?
– А зачем он вам? – спросил я.
– Вот чудак!.. Зачем человеку сапожник нужен? Ясное дело – сапоги починить!
Я посмотрел на его пыльные, но крепкие, почти новые сапоги.
– Слыхал я о нём, вот и решил принести ему старые сапоги в починку. Да вот не знаю –
верно ли говорят, что он мастер хороший…
– Хороший! Лучше быть не может! – сказал я, желая поддержать честь дяденьки Андрея.
– И много к нему народу ходит?
– Много!
– Ага!.. Ясное дело, если мастер хороший, значит, без работы не сидит. Ты его сам-то
знаешь?
– А как же! Мы с ним соседи.
– Вот оно что! Соседи!.. – проговорил незнакомец в парусиновом пальто, улыбаясь, и снова
стал забрасывать меня вопросами.
Вдруг я поймал на себе его быстрый, испытующий взгляд, и мне стало как-то не по себе,
тревожно, неловко. Ни у кого ещё не видел я таких холодных, колючих глаз, которые так мало
шли к его добродушной улыбке… Что это за человек? Почему его интересует, много ли народу
ходит к Андрею, бывают ли у него матросы, о чём он говорит с людьми, часто ли сам уходит из
дому?.. Чувство беспокойства всё сильнее охватывало меня. Я растерянно топтался перед
незнакомцем, не решаясь больше взглянуть на него. Внутренний голос шептал мне: «Беги, беги,
это враг, беги!». И я кинулся бежать, оставив своих бычков в руках незнакомца в парусиновом
пальто.
– Эй, куда ты, малец! – крикнул он мне вслед. – Стой! Вот шальной какой!..
Где там! Я нёсся по улице во всю прыть, прислушиваясь, не гонится ли он за мной. Никто
за мной не гнался. Пулей влетел я к нам во двор и чуть не столкнулся с отцом.
– Откуда сорвался? – строго спросил он меня, – Опять драка была?
Тут же, на дворе, с трудом переводя дыхание, я рассказал отцу о встрече и разговоре с
незнакомцем. Отец молча выслушал меня. Лицо его стало озабоченным. Он пошёл к соседям.
Через несколько минут отец окликнул меня. Он и дяденька Андрей стояли у забора. Я
подошёл к ним. Андрей расспросил меня о незнакомце. Он был совершенно спокоен, даже
подшучивал надо мною.
– Значит, пропали твои бычки? – спросил он. – Ну, ясное дело, он к ним и подбирался… Ты
мне вот что, дружок, скажи: Сухие доки знаешь?
Как мне было не знать Сухие доки! Они были недалеко от Корабельной слободки.
– Так вот, – продолжал Андрей, – если идти к морю мимо них с правой стороны – есть такая
тропочка, – лежит там на берегу якорь в песке… – Я хорошо знал и этот якорь. – Сбегай, дружок,
отец позволяет тебе. У того якоря встретишь человека – рыжеватый такой, с бородкой, в сером
пиджаке, трубку курит… Ты к нему не подходи, а мимо пройди, будто к морю идёшь. А как с
ним поравняешься, скажешь: «Марья Ивановна заболела», – и дальше пойдёшь… Понял?
Запомнил? Ну, беги, а то скоро темно будет… Да смотри, чтобы твой любитель бычков за тобой
не увязался…
Я вышел на улицу. Сердце так и колотилось в груди. Улица была пуста. Только наискосок
от нашего дома под присмотром маленькой девочки паслась коза. Посмотрел направо, посмотрел
налево – незнакомца в парусиновом пальто не было видно.
Я побежал вприпрыжку, направляясь к докам. Смеркалось. Место у доков, о котором
говорил Андрей, было и днём малолюдным, а сейчас мне не встретилось ни одной живой души.
С поворота тропинки я увидел на берегу огромный чёрный якорь. Двумя лапами он глубоко
погрузился в песок, две другие торчали вверх. В сумерках якорь был похож на скелет морского
чудовища. Около него на песке лежал человек. Опершись на локоть, он смотрел на море, с тихим
шелестом набегавшее на берег. Чуть заметный дымок от трубки поднимался над головой этого
человека и таял в вечернем воздухе. Сердце у меня забилось сильнее. Я быстро оглянулся по
сторонам. Никого… Сбежав по тропинке на берег, я не спеша пошёл к морю. Человек услышал
мои шаги и, повернув голову, равнодушно посмотрел на меня. Я прошёл мимо него в нескольких
шагах.
– Марья Ивановна… заболела, – пролепетал я.
Он не двинулся с места. Может быть, не расслышал, что я сказал?
– Марья Ивановна заболела, – повторил я дрожащим голосом, замедляя шаги.
– Слышу, не глухой! – донёсся до меня негромкий насмешливый голос. – Бог даст,
выздоровеет Марья Ивановна!
У меня как гора с плеч свалилась. Я подошёл к самой воде и некоторое время «пёк блины»,
то есть так бросал плоские камешки, чтобы они подпрыгивали, скользя по гладкой поверхности
моря. Когда я обернулся, у якоря никого не было…
По дороге домой я зашёл к соседям, стукнул в окошко. Выглянул Андрей. Я сказал ему, что
поручение выполнено.
– Спасибо, дружок! – просто ответил он.
Мне, конечно, страшно хотелось узнать, что за человек сидел у якоря, какая Марья
Ивановна заболела и чем она заболела. Я угадывал какую-то связь между поручением Андрея и
появлением на нашей улице незнакомца в парусиновом пальто. Но в то же время я понимал, что
спрашивать об этом нельзя. И я крепился, молчал, боясь праздным любопытством уронить себя
в глазах Андрея.
Эх, если бы он дал мне ещё какое-нибудь поручение, да потруднее!.. За дяденьку Андрея я
готов был идти и в огонь и в воду!..
Гроза разразилась 9 января 1905 года в Петербурге. В этот день толпы безоружных рабочих
двинулись к Зимнему дворцу – искать у царя «правды и защиты». Царь встретил их пулями.
Весть о царском злодеянии с непостижимой быстротой докатилась до Севастополя. На
следующий после кровавой расправы с рабочими в Петербурге день – 10 января – у нас в порту,
в слесарно-сборочной мастерской, в той самой, где работал отец Андрея, Кузьма Данилыч,
неожиданно начался большой пожар.
Портовое начальство считало, что пожар произошёл неспроста, что это вроде как протест
портовых рабочих против расстрела их братьев в Петербурге.
«Уговаривать» портовых рабочих явился «сам» адмирал Чухнин, командующий
Черноморским флотом.
Чухнина знали не одни только моряки. Пожалуй, не было в то время в порту мальчишки, а
в Корабельной слободке старой бабки, которым не было бы известно это ненавистное народу имя
– имя, к которому обычно добавляли какой-нибудь выразительный эпитет – «собака», «дракон»,
а то и похуже.
К матросам Чухнин относился с таким высокомерным презрением, с такой нечеловеческой
жестокостью, что в конце концов его чёрная жизнь и кончилась от руки матроса. Ненавистного
адмирала застрелил из охотничьего ружья на его роскошной загородной даче, утопавшей в
цветниках, матрос, работавший у него помощником садовника.
И вот этот-то самый Чухнин, приказав собрать портовых рабочих, выступил перед ними с
речью. Он поносил «проклятых смутьянов», обвиняя их в пожаре в порту. Но рабочие не были
расположены слушать рассвирепевшего адмирала. Как потом рассказывал нам об этом старик
Кузьма Данилыч, в ответ на адмиральскую ругань послышались свист, крики возмущения.
Грозного адмирала просто-напросто прогнали, и он с позором бежал из порта, поджав хвост,
преследуемый свистом и улюлюканьем рабочих.
Эта история наделала много шуму в городе. Простой народ видел в ней свидетельство своей
крепнущей силы; ну, а у «начальства» изгнание адмирала Чухнина рабочими из порта вызвало
откровенную тревогу.
В один из последующих за этим вечеров к нам заглянула соседка Настя. Её сестра, жившая
в Петербурге, была убита на площади перед Зимним дворцом. Настя плакала, крестилась и всё
повторяла:
– Они-то с молитвой, с иконами, а он-то их – пулями…
– С молитвой! С иконами! – крикнул, бледнея, отец. – Не так нужно, не так!
Первый раз я видел отца в таком гневе.
Вошёл Андрей Белоус, опираясь на палку, постукивая своей деревяшкой. Обнял плачущую
жену.
– Полно, Настенька, полно!.. – Он обернулся к отцу и сказал: – Это вы (он всем говорил
«вы») правильно сказали, что нужно «не так»!.. Оно и будет – не так!
Он отстранил Настю, подошёл к столу. Бледное лицо его, освещённое светом настольной
керосиновой лампы, выражало решимость и показалось мне в эту минуту очень красивым.
– Не с молитвой и иконами пойдёт народ к царю, а с оружием в руках! По всей русской
земле встаёт, поднимается простой, рабочий народ. И с ним вместе пойдут солдаты, матросы. И
уж тогда несдобровать насильникам!
Он сказал это негромко, но с такой силой, что в комнате стало тихо и все, как зачарованные,
смотрели на Андрея. Он замолчал, пристально всматриваясь в лица присутствовавших в комнате.
Увидев, с каким волнением все слушают его слова, он вдруг улыбнулся и радостно проговорил:
– Революция началась, товарищи!
Это было в первый раз, что я услышал слово «товарищ» в таком широком, обобщающем,
роднящем и сближающем людей смысле. И как же оно взволновало меня тогда! Я ведь был
маленьким мальчуганом, но слово «товарищи», обращённое и ко мне, нашло глубокий отклик в
душе и наполнило меня гордостью.
Но вот что было непонятно: Андрей сказал, что началась революция, а всё кругом было
тихо, мирно, никто не стрелял, не бунтовал, если не считать рабочих, прогнавших адмирала
Чухнина из порта.
– Ну, брат, это ты хватил! – сказал отец, с сомнением покачав головой. – Народ
зашевелился, это верно, а вот до революции ещё далеко!
Не отвечая, Андрей задумчиво и рассеянно смотрел в окно, словно прислушивался к чему-
то…
События ближайшего времени показали, что правда была на стороне Андрея. Да, в России
началась революция! Злодейская расправа царя с безоружными рабочими в Петербурге
всколыхнула всю страну. Народ поднялся на борьбу с самодержавием.
Борьбу народа за свою свободу, борьбу против царизма, против рабства и угнетения
возглавила партия большевиков. Революционной работой среди моряков Черноморского флота
руководила «Матросская централка», организованная матросами-большевиками.
«Матросская централка»!.. Не раз слышал я о ней в годы моего детства, живя в Севастополе.
Люди произносили эти два слова с осторожностью, с оглядкой, вкладывая в них какое-то особое,
душевное уважение к отважным борцам за свободу, которые стояли во главе «Матросской
централки». В моём детском представлении «Матросская централка» была окружена ореолом
таинственности, храбрости и благородства. Люди, работавшие в ней, казались мне героями. Да