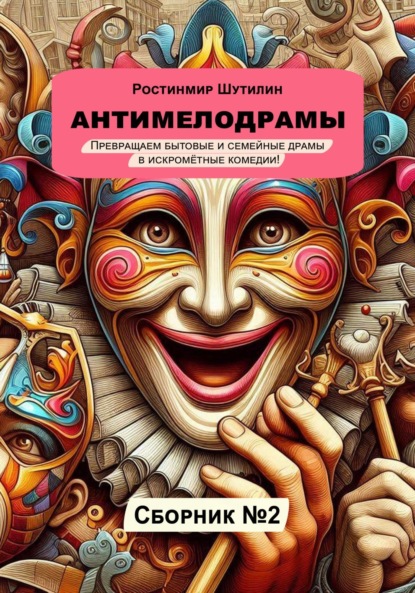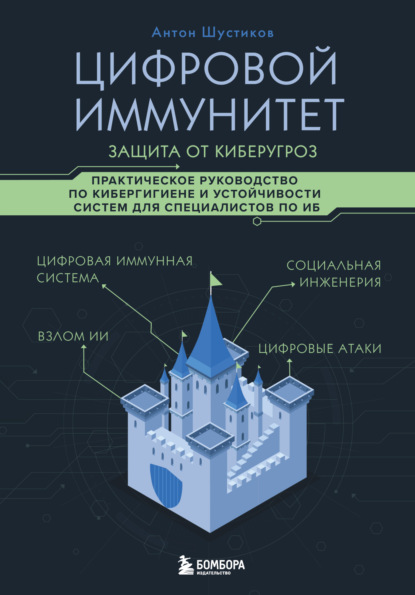Жизнь простого человека
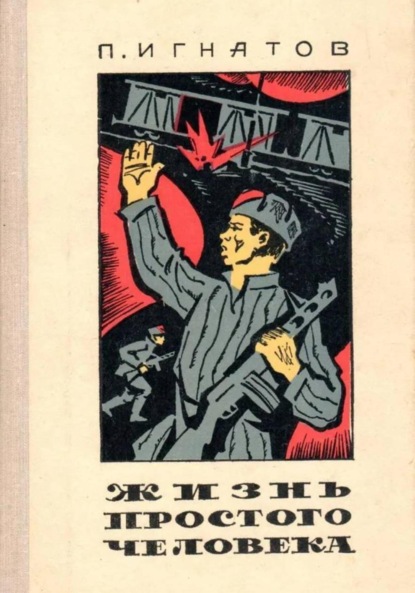
- -
- 100%
- +
на «бархатный» сезон из северных краёв, чтобы продлить лето, попользоваться дарами щедрой
крымской осени. Содержатели приморских гостиниц, ресторанов, различных увеселительных
заведений, татары-проводники, лодочники, торговцы фруктами и цветами – словом, все, кто
собирал обычно в эти месяцы обильную жатву с приезжей публики, жаловались на убытки.
Ничего не поделаешь, не до веселья, не до развлечений было богачам в ту осень!..
Из разговоров отца с матерью я знал, что вся жизнь огромной страны замерла,
парализованная стачкой, в которой участвовало около миллиона рабочих и несколько сот тысяч
служащих. Не дымили трубы фабрик и заводов. Не работали почта, телеграф. Не ходили поезда
и пароходы.
Непривычно тихо, пусто стало и в Севастопольском порту: бастовали матросы
Черноморского торгового флота.
Среди черноморских моряков только и было разговоров, что о лейтенанте Шмидте,
командире миноносца № 253. О Шмидте говорили как о вдохновителе забастовки торговых
моряков.
«Как же так? – подумал я, когда впервые услышал его имя. – Он офицер, по-матросски
«дракон», – и вдруг он на стороне забастовщиков!» Я высказал своё удивление Федосеичу, с
которым продолжал встречаться, хотя заветная книга давно была прочитана и хранилась теперь
у него, на самом дне матросского сундука.
– Эх ты, чудачок! – сказал старик. – Не все они «драконы». Пётр Петрович – справедливый
командир. Спроси хоть ребят с «Иртыша», они-то уж знают его! Они плакали, когда Шмидта
перевели от них…
Однажды, зайдя в хибарку к Федосеичу, я застал старика за необычным для него занятием.
Надев старенькие, в железной оправе очки, которые он терпеть не мог и называл почему-то
«старушечьими», Федосеич, сурово сдвинув седые брови и сосредоточенно посапывая,
пришивал крупными стежками большую, с ладонь, заплату на рукав своей видавшей виды
куртки.
Закончив эту трудную работу и закурив трубку, он тщательно смазал дёгтем огромные,
тяжёлые сапоги, которые надевал в редких, торжественных случаях.
Я с интересом следил за всеми этими приготовлениями. Потом не утерпел и спросил:
– В гости собрался, дедушка Федосеич?
Он нахмурился и буркнул мне в ответ, что нечего, мол, нос совать, когда не спрашивают.
Однако перед уходом из дому он придирчиво осмотрел меня с ног до головы и неожиданно
сказал:
– Пойдём, коли хочешь.
– Куда?
– К Шмидту.
– К Шмидту?
Он молча кивнул головой.
Конечно, ему не пришлось уговаривать меня: ещё бы не пойти, когда есть возможность
увидеть самого Шмидта! К тому же я чувствовал, что старик рад моему обществу, хотя и не
говорил этого. Видно, он немножко робел.
По дороге на Соборную улицу – путь нам предстоял немалый – я узнал, что заставило
Федосеича решиться пойти к лейтенанту Шмидту. Старик сильно тосковал о сыне, оставшемся,
как я уже говорил, в числе других потёмкинцев в Румынии. Жилось старику плохо – одиноко,
голодно, – он и решил пробраться к сыну, в Румынию.
– Небось не прогонит сын меня… Не буду я ему в тягость, – негромко сказал старик. – Ему
тоже там не сладко. Ну вот, значит, и будем вместе горе мыкать. Одни мы с ним на всём божьем
свете!..
Вот старик и надумал пойти к Шмидту посоветоваться – пустят ли его, старика, к сыну и
кому подать «прошение» об этом.
– Спросил я тут одного человека, а он как закричит на меня: «Тебя, старый хрыч, в тюрьме
надо сгноить за такого сына!» Ну, а Пётр Петрович не такой, он рассудит, скажет верное слово…
Лейтенант Шмидт жил на Соборной улице, в маленьком флигеле, стоявшем в глубине
двора. Отсюда был виден весь город как на ладони и открывался безбрежный простор моря.
Но вот беда: Шмидта не оказалось дома. Дверь нам открыл мальчик лет пятнадцати,
худенький, большеглазый.
– Папы нет дома. Да вы войдите, войдите, пожалуйста! – приветливо сказал он.
Он сильно заикался, краснея и смущаясь, что придавало ему трогательно-беспомощный
вид.
– Не стесняйтесь, заходите, – повторил он. – Может быть, я могу помочь вам чем-нибудь?
В его голосе, во всём его облике было что-то такое привлекательное, что суровый,
замкнутый старик тут же, на крыльце, отказавшись войти в комнаты, рассказал ему о своём деле.
Склонив голову набок, мальчик внимательно выслушал старика.
– Я очень хорошо понимаю вас, дедушка, – сказал он, когда Федосеич замолчал. – Тут
действительно надо бы вам с папой поговорить. Мы вот что сделаем: я ему расскажу, а вы ещё
разок зайдите. Хорошо? Да вот хотя бы завтра. Заходите, обязательно заходите. Папа будет рад
помочь вам.
На прощанье он протянул Федосеичу, а потом и мне руку.
Старик ушёл довольный, хотя и не добился ничего. Ласковое, внимательное отношение
всегда успокаивает, радует людей.
– Видал, какой паренёк? А? «Заходите… рад помочь вам». Ах ты, боже ж мой, есть же
хорошие люди на свете!..
Но на следующий день старику не пришлось побывать у Шмидта… В этот день произошли
знаменательные события.
Восемнадцатого октября к полудню около музея Севастопольской обороны собрался
многочисленный митинг. На митинге должен был выступать Шмидт.
Утром этого дня в Севастополе стало известно о царском манифесте, в котором царь,
напуганный всеобщей стачкой, обещал народу «незыблемые основы гражданской свободы».
Как только я узнал от товарищей-мальчишек, что народ «валом валит» к музею, я сейчас же
хотел бежать туда. Меня остановил строгий окрик отца:
– Куда? Марш домой! Без тебя дело обойдётся!
Понуро поплёлся я домой и с оскорблённым видом сел у окна.
Отец взял картуз и, не сказав ни слова, ушёл, провожаемый тревожным взглядом матери.
Весь день слонялся я по двору, не зная, чем себя занять. То и дело выглядывал за калитку –
не идёт ли отец? Вернулся он под вечер. Шагнул через порог туча тучей, бросил картуз на лавку,
попросил у матери умыться. Я вертелся около и слышал, как он рассказывал ей, что солдаты
стреляли в народ, пришедший после митинга к городской тюрьме требовать освобождения
политических заключённых. Были убитые, много раненых…
– Вот тебе и свобода! – сказал отец, садясь за стол. – Правду говорил Шмидт на митинге:
«Рано радоваться»…
Через два дня народ хоронил жертвы расстрела 18 октября. В траурной процессии
участвовало, как говорили, до сорока тысяч человек.
Мать не уследила за мной, я улизнул на улицу. Во весь дух помчался к городской больнице,
где стояли гробы с телами убитых. Вдруг чья-то тяжёлая рука легла мне на плечо. Я поднял
голову – передо мной стоял Федосеич с неизменной трубкой во рту.
– Куда? – спросил он меня так же строго, как спрашивал отец.
Я умоляюще взглянул на него и, волнуясь, сдерживая слёзы, стал говорить, что вот, мол, в
Париже мальчики на баррикадах сражались, а я что же, должен дома сидеть?..
Старый матрос улыбнулся, отчего его загорелое лицо покрылось сеткой мелких морщинок.
– Ах ты, коммунар! – добродушно проворчал он, взял меня за руку, и мы двинулись в ту
сторону, куда шло много народу.
И вот мы идём в рядах траурной процессии, медленно движущейся по направлению к
кладбищу.
Мы идём мимо домов, из раскрытых окон которых на нас смотрят любопытные лица.
Навстречу нам дует ветер с моря. Оркестр играет что-то торжественное и печальное, от чего
замирает сердце, и слёзы навёртываются на глаза. Впереди процессии колышутся на ветру
красные знамёна с чёрными лентами.
Люди идут молча в облаке пыли, которую ветер относит в сторону. Цепи рабочих,
взявшихся за руки, охраняют процессию. Ни войск, ни полиции не видно на улицах.
Толпа заполняет кладбище. Все, как один, обнажают головы. Знамёна склоняются над
братской могилой.
Вот над ней поднимается на какое-то возвышение худой высокий человек в мундире
лейтенанта флота. У него бледное, усталое лицо. Ветер трогает волосы на его голове. Федосеич
крепче стискивает мою руку, мы обмениваемся с ним взглядом… «Лейтенант Шмидт!» –
догадываюсь я. Вот он поднимает руку, что-то говорит. И на кладбище становится так тихо, что
слышно, как попискивает какая-то пичужка в голых ветках акации.
Шмидт указывает рукой на гробы, поставленные на землю у могилы. Мы стоим довольно
далеко и неясно слышим его взволнованный голос. Но вот и до нас доносятся слова:
– …Клянёмся им в том, что всю душу и самую жизнь свою положим за нашу свободу!..
– Клянёмся! – в один голос тихо и грозно отвечает многотысячная толпа.
– Клянёмся! – говорю и я со всеми.
Старый матрос наклоняется к самому моему уху. Его седая борода щекочет мне щёку.
– Помни, внучек, эту клятву! – шепчет он.
Молча смотрю на него, я не в силах сейчас сказать что-нибудь. Никогда раньше я не видел
лицо старика таким добрым, просветлённым. Его маленькие глазки блестят влажным блеском,
он вытирает их кулаком…
В конце дня пронёсся слух, будто после выступления на кладбище Шмидт был арестован
по приказанию адмирала Чухнина и под конвоем отправлен на броненосец «Три святителя»…
Отец пришёл домой вечером. Он тоже был на кладбище, тоже слушал Шмидта. Мать стала
жаловаться, что я ушёл без спросу из дому, бегал бог знает куда – на кладбище! Отец нахмурился,
строго посмотрел на меня – он не прощал непослушания, – но, когда услышал, что я был на
кладбище, смягчился. Взволнованно прошёлся по комнате.
– Эх, мать! – сказал он, останавливаясь и беря мать за руку. – Если бы ты слышала, как
народ клятву давал: «Клянёмся, что жизнь положим за свободу!» Сердце в груди перевернулось!
– Он привлёк меня к себе. – Слышал, сынок?
– Слышал.
– Сам ты по целым дням пропадаешь неизвестно где, этот носится как угорелый! –
недовольно сказала мать. – Вся душа у меня изболелась за вас!
Отец погрозил мне пальцем.
– Слушайся мать! Не ходи, когда она не велит.
Но я понимал, что это он говорит так, для порядка.
За ужином отец рассказывал, что матросы, солдаты и рабочие на многочисленных митингах
требовали освобождения арестованного Шмидта, и адмиралу пришлось уступить. Шмидт был
выпущен на свободу.
В один из этих дней – помнится, в конце октября или в начале ноября – отец пришёл домой
чем-то сильно взволнованный. Долго ходил по двору, словно не знал, куда себя девать, а когда
мать в третий раз позвала его обедать, махнул рукой и сказал:
– Да погоди ты! Не до щей мне сейчас.
Мать было обиделась, а он вошёл в кухню, обнял мать за плечи, зашептал:
– А ведь, похоже, прав был Андрей-то, когда говорил, что революция началась! Вся
матушка-Россия кипит, как в котле!.. Слыхала, что в Кронштадте-то?
Мать ничего не знала о том, что происходит в Кронштадте, а я, услышав название знакомого
города, сейчас же навострил уши.
Отец, всё так же, не повышая голоса, стал рассказывать, что в Кронштадте восстали
матросы и солдаты, что город два дня находился в руках восставших.
– Понимаешь, мать, какие дела? – говорил отец. – Боевой народ моряки, боевой!.. У нас тут
всё кипит, волнуется, и там тоже. Армия бунтует. Армия!.. На кого же царю опереться-то теперь?
Выходит – не на кого! – Глаза отца блестели радостью. Он наклонился к матери, прошептал: –
Его работа!
– Кого это – его?
– Фёдора!
– Фёдора? Он за тридевять земель от Кронштадта, в Сибири!
– Мало что в Сибири!.. А зерно кто посеял? Такие, как Фёдор. А впереди восставших кто
шёл, кто их за собой вёл? Опять такие, как Фёдор… Понимать надо!
Мать с сомнением покачала головой…
Город продолжал жить напряжённой жизнью. Повсюду шли митинги – в городском саду,
на Приморском бульваре, в рабочих слободках.
Говорили, что адмирал Чухнин издал приказ, запрещавший военным участвовать в
митингах рабочих. У Приморского бульвара стояли вооружённые патрули, а ворота флотских
экипажей были накрепко заперты. Но все эти меры не могли потушить разгоравшийся пожар.
Матросы волновались, брожением была захвачена и часть солдат Брестского полка, и судовые
команды на многих кораблях.
И вот новый слух: решено начать всеобщую забастовку, организовать в городе Совет
рабочих, матросских и солдатских депутатов.
В те давние дни не только я, маленький мальчуган, но, вероятно, и мой отец не отдавали
себе в полной мере отчёта в том, каких великих, каких знаменательных событий были мы
современниками.
Оглядываясь теперь назад, я не могу не думать без волнения, что в годы отрочества мне
довелось видеть зарю того величественного и прекрасного, что навсегда вошло в нашу жизнь как
её основа, её главное содержание, – зарю Советской власти.
Совет рабочих депутатов! В Севастополе, как известно из истории, Совет рабочих,
матросских и солдатских депутатов был организован 12 ноября 1905 года. Известно также и то,
что большевикам пришлось вести в Совете упорную борьбу с меньшевиками, пробравшимися к
руководству восстанием и тормозившими его развитие, его наступательную тактику. Но в те дни
далеко не все разбирались в ходе событий и правильно оценивали их. Многим казалось, что если
есть Совет, в котором сидят свои, рабочие люди, то чего ещё можно желать!..
В один из ноябрьских дней к нам заявился Федосеич. Вид у старика был торжественный,
праздничный. Поверх обычной тельняшки на нём была старенькая – заплата на заплате, – но
заботливо вычищенная куртка. На ногах – сапоги, от которых так и несло дёгтем. От самого же
старого матроса попахивало винцом. Он как-то неожиданно появился на пороге раскрытой двери
и остановился, комкая в руках фуражку.
– С праздником! – проговорил он, со смущённой и радостной улыбкой на лице. – С
праздником пришёл поздравить хороших людей!
– Заходи, садись, Архип Федосеич, что стоишь, – приветливо сказал отец. – Какой же это
нынче праздник?
Старик присел к столу, разгладил бороду.
– Разве не слыхал? Народная власть теперь у нас – Совет!
– Слыхал!.. Верно, старик, это праздник, и большой.
– Я и говорю. Виданное ли дело – матросы-то наши, братва, корешки, власть в свои руки
взяли!
– Не одни матросы, а и рабочие, и солдаты.
– Я и говорю – народная власть! Ах ты, боже ж ты мой! Думали ли, гадали когда? Эх, нет
Василия моего!..
До позднего часа сидели отец и Федосеич за столом и всё говорили, говорили о том важном
и прекрасном, что вошло в жизнь. Простой народ сказал своё слово: он требовал немедленного
созыва Учредительного собрания, установления восьмичасового рабочего дня, выдачи
пожизненной пенсии матросам, получившим на службе увечье, полной свободы матросов вне
службы.
Мать давно ушла за перегородку, меня неудержимо клонило ко сну, а они всё сидели, всё
говорили. Когда я поднимал от стола отяжелевшую голову, я видел в клубах табачного дыма их
раскрасневшиеся, взволнованные лица.
Прерывающимся от волнения голосом отец читал листовку – воззвание матросов к
солдатам Брестского полка, – которую Федосеич принёс с собою:
– «Братья солдаты! Мы не изменники и не грабители какие. Только не стало мочи у нас
сносить дальше притеснения начальства и проклятые порядки российские. И мы все, как один,
выставили требования, которые каждый из вас может прочесть. Мы требуем, чтобы солдат был
признан человеком, чтобы улучшили нашу пищу и увеличили нам жалованье, чтобы уменьшили
срок службы, чтобы обращались с нами по-людски, а не по-скотски, чтобы и солдатам были даны
права…»
С какой удивительной силой звучали эти простые, от сердца идущие слова! Перечитываешь
их теперь – и слышишь страстную, вековечную мечту народа о правде, справедливости, народа
забитого, обездоленного, но не утратившего веры в светлое будущее!
Федосеич сидел, навалившись грудью на стол, не сводя глаз с отца. Губы его беззвучно
шевелились, он повторял про себя слова воззвания.
– «Мы требуем наконец, – читал отец, – со всем великим русским народом, чтобы
немедленно было созвано Учредительное собрание. Пусть будут всем народом избраны
представители, которые устроят русскую землю, которые одни смогут улучшить жизнь рабочих
и крестьян… Наше дело правое, наше дело – не только солдатское, но и всенародное!..»
На многих кораблях, стоящих на рейде, матросы поднимали красные флаги.
Штабом восстания стал крейсер «Очаков». Офицеры хотели разоружить «Очаков», но
матросы воспротивились. Тогда офицеры покинули мятежный крейсер, и он оказался в руках
матросов, выбравших командиром старшего баталёра Частникова.
Город был объявлен на военном положении. Отовсюду – из Симферополя, Одессы,
Феодосии – командование стягивало надёжные войска.
Мне было строго-настрого приказано не высовывать носа на улицу.
Но вот настал день, когда оказались бессильными самые строгие запреты, я с утра сбежал
из дому, нисколько не заботясь о последствиях.
Это был памятный день 15 ноября. В этот день в 8 часов утра на «Очакове» взвился красный
флаг и был поднят сигнал: «Командую флотом. Шмидт».
Многие корабли, присоединившиеся к восставшим, отвечали сигналом: «Ясно вижу», – и
тоже подняли красные флаги.
Всё это происходило на глазах огромной толпы народа, собравшейся на Приморском
бульваре и усеявшей весь берег Севастопольской бухты.
Сюда, на Приморский бульвар, я и прибежал, услышав от приятелей-мальчишек, что на
«Очакове» красный флаг.
На бульваре не было видно так называемой чистой публики, толпа целиком состояла из
рабочего люда. Все обменивались впечатлениями, рассказывали друг другу новости. Вновь
прибывшим объясняли, что происходит в бухте. Из разговоров в толпе я узнал, что Шмидт
приехал на «Очаков» ещё вчера днём, после того как ему стало известно, что адмирал Чухнин
объезжает эскадру и разоружает ненадёжные суда, что полевая артиллерия окружила казармы.
В ночь с 14 на 15 ноября восставшие матросы стали захватывать корабли. К утру они
завладели крейсером «Гридень», контрминоносцами «Скорый» и «Свирепый», тремя номерными
миноносцами и несколькими мелкими судами. На них-то и развевались теперь красные флаги, и
это было удивительное, незабываемое зрелище: на фоне бледного неба – день был холодный,
туманный – ярко горели огненно-красные флаги, флаги борьбы и свободы!
Я прибежал на берег и присоединился к толпе как раз в то время, когда Шмидт, перейдя на
миноносец, начал объезжать корабли, чтобы склонить их на свою сторону.
Он останавливался около каждого корабля и призывал матросов присоединиться к
восставшим. Вооружённые офицеры встречали его бранью, угрозами. Его легко могли убить, но
он продолжал объезжать суда, стоя на палубе с непокрытой головой. На некоторых кораблях
взвивались красные флаги, но через несколько минут ползли вниз и на их место снова
поднимались белые полотнища с синим крестом. Толпа молча следила за этой борьбой.
Потом Шмидт пересел на катер. Говорили, что он направился к плавучей тюрьме «Прут» –
освобождать томившихся там уже полгода участников восстания на «Потёмкине».
Освобождённых доставили на «Очаков». На бывшем «Потёмкине», называвшемся теперь
«Пантелеймон», взвился красный флаг. Одновременно с этим красные флаги появились на
канонерке «Удалец» и на плавучей тюрьме «Прут».
Гул одобрения прокатился по толпе.
Забыв обо всём на свете, следил я за тем, как суда сходились и расходились, как между
ними шныряли маленькие катера, вспарывая зеленоватую воду и оставляя за собой пенные
буруны. Всё казалось необыкновенно интересным, красивым – даже такое привычное зрелище,
как белые чайки, с плачущим криком кружившиеся над бухтой, то снижаясь к самому морю, то
быстро взмывая вверх, потревоженные необычным движением судов.
Четвёртый час дня. Над бухтой нависла зловещая тишина. Что случилось?.. Казалось, всё
замерло в ожидании чего-то. Замерли корабли на рейде, замерла толпа на берегу. Даже чаек как
будто стало меньше.
Внезапно эту напряжённую тишину разорвал одинокий орудийный выстрел. Он прокатился
над бухтой, и эхо откликнулось ему далеко за холмами. Как выяснилось потом, стреляли с
канонерской лодки «Терец», стреляли по катеру, перевозившему из порта ударники к орудиям
«Пантелеймона», ранее разоружённого офицерами.
Тогда по приказу Шмидта контрминоносец «Свирепый» атаковал «Терец». Но по
«Свирепому» открыл огонь броненосец «Ростислав», и «Свирепый» вышел из строя.
И тут началось!.. Выстрел «Терца» послужил сигналом. Ураганный огонь обрушился на
восставшие корабли и флотские казармы. Грохотали выстрелы орудий береговых батарей и
полевой артиллерии, гремели орудия «Ростислава». Били пулемёты с Исторического бульвара.
В воздухе запахло гарью, над бухтой повисли густые белые облака порохового дыма. В них
что-то сверкало, гремело, трещало. Это было страшно!..
Главная сила огня была направлена на «Очаков». Ему сигналили от имени Чухнина:
«Приказываю сдаться».
«Не сдамся», – отвечал «Очаков».
Крейсер горел. Его окутала тёмная пелена дыма. Некоторое время он отстреливался, а
потом замолчал.
Когда началась стрельба, толпа бросилась бежать. Приморский бульвар опустел.
Побежал и я, сам не зная куда. Долго бежал. Остановился на тихой, заросшей травой улице.
Ноги подкашивались. Я не мог ни идти, ни стоять. Сделав несколько шагов, повалился ничком в
сухую пыльную траву на каком-то пустыре, на котором паслась белая безрогая коза. Сердце
колотилось, во рту было горько, а перед глазами стоял горящий трёхтрубный крейсер, окутанный
дымом, и на его мачте трепетал красный флаг.
Там, в дыму, в огне, был этот высокий худой человек с усталым лицом, там был его сын,
добрый, приветливый мальчик, там были его товарищи – матросы…
Лёжа ничком на траве, я плакал, размазывая по лицу слёзы. Не помню, что было со мною
потом, должно быть, я заснул, утомлённый всем виденным и пережитым. Когда очнулся, уже
стемнело. Поднялся, сел. С удивлением и страхом огляделся: «Где я?» Кругом тишина. Ни звука,
ни огонька. Словно весь город вымер. А там, в той стороне, где бухта, стояло тусклое багровое
зарево пожара. По небу пробежал бледный луч прожектора.
Мне было страшно, я устал, озяб, болела голова, меня мутило от голода. Но я и не подумал
о том, что нужно идти домой, где, уж наверно, мать оплакивала меня. Я встал и, пошатываясь от
слабости, побрёл по направлению к бухте. На улицах – ни души. Изредка проходили быстрым
шагом отряды солдат. Их мерный топот был слышен издалека. Я прятался, прижимаясь к домам,
и ждал, когда они пройдут.
Над городом стояло огромное тёмное и грозное облако дыма. Порой его рассекали
голубоватые лучи прожекторов, и тогда казалось, что высоко в небе происходит борьба каких-то
крылатых, свившихся в клубок чудовищ.
Вот и Приморский бульвар. Проход на него открыт. Так же как и днём, здесь снова стоит
народ.
С Приморского бульвара видна вся длинная бухта. Посредине бухты полыхает огромный
костёр. Это «Очаков». Море кажется густым и чёрным, как смола. Весь крейсер в огне. Огнём не
охвачен только его нос, освещённый пламенем пожара и белыми лучами прожекторов,