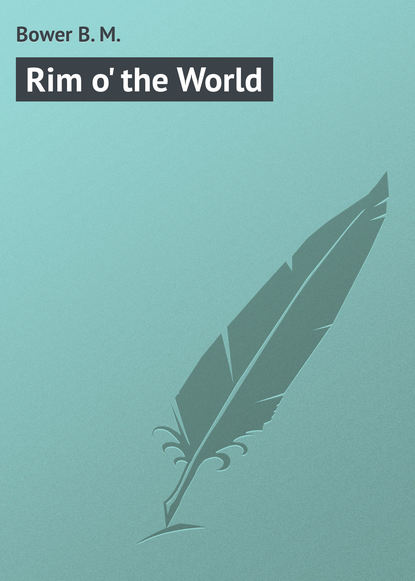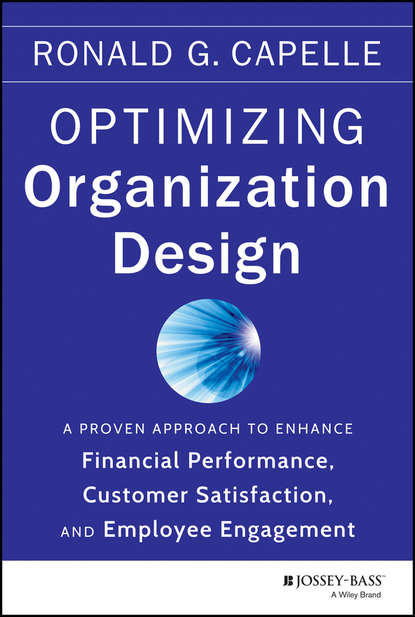Жизнь простого человека
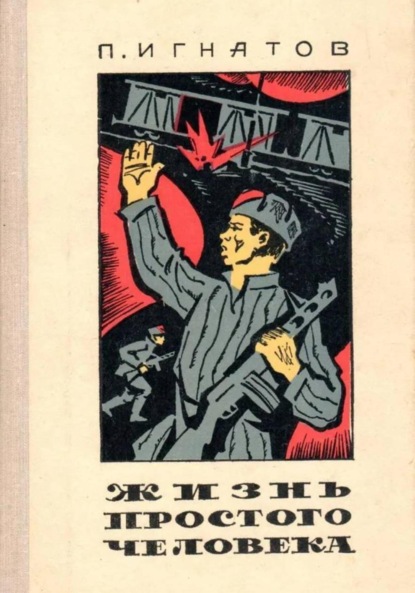
- -
- 100%
- +
направленных на него с броненосцев «Ростислав» и «Три святителя».
Внезапно раздаётся треск, похожий на выстрелы. Толпа на бульваре вздрагивает, но потом
снова замирает в неподвижности. Это не выстрелы, это на «Очакове» лопается раскалённая
броня…
В толпе вполголоса рассказывают о том, как матросы прыгали с охваченного огнём
«Очакова» в море, как их расстреливали из пулемётов и винтовок, когда они подплывали к берегу
или к другим судам, как Шмидт пытался спасать раненых и утопавших. Где он теперь? Никто не
знал этого…
На бронированной башне горящего корабля ясно различимы маленькие чёрные фигурки
людей… До крейсера не очень далеко, и они отчётливо видны при свете пожара. Может быть, и
Шмидт ещё там?..
Только позднее, на другой день, стало известно, что Шмидт с несколькими матросами и
своим сыном покинул крейсер и перешёл на миноносец. Но вырваться из-под огня и добраться
до берега ему не удалось. Выстрелом с «Ростислава» миноносец был подбит, и все находившиеся
на нём арестованы.
В молчаливой толпе на берегу происходит движение…
– Смотрите, смотрите-ка, братцы! – слышатся голоса.
Со стороны Графской пристани появляется лодка. Она отчётливо видна при свете пожара.
Быстро скользит она по чёрной воде, направляясь к горящему крейсеру, оставляя за собой
красную, словно кровавую, дорожку.
Голубой длинный луч прожектора рассекает темноту и останавливается, направленный
прямо на лодку. Теперь лодка кажется серебристо-белой, как крыло чайки. Ясно видны два
гребца. Они дружно гребут, не жалея сил. Один из них – какой-то молодой парень, а другой…
Спазма сжимает мне горло, я не могу вздохнуть – в другом я узнаю Федосеича! Да, это он, это
его коренастая, крепкая фигура, его седая круглая борода. Что задумали эти смельчаки? Лодка
быстро удаляется от берега. Нет никакого сомнения – они плывут к «Очакову», хотят спасти
оставшихся на нём людей!
С берега раздаются выстрелы. Злобно трещит пулемёт. Молодой гребец роняет вёсла и
валится в лодку лицом вперёд. Старик гребёт не оборачиваясь.
– Дедушка! Федосеич! – кричу я во всю силу лёгких и порываюсь бежать.
– Куда, дурачок, куда? Убьют! – слышу я незнакомый голос.
Я пытаюсь вырваться, но чьи-то руки крепко держат меня. Последнее, что я помню, – это
пустая лодка, покачивающаяся на волнах…
Луч прожектора погас. Всё поглотила дымная, клубящаяся темнота, озаряемая порой
багряными отблесками…
9
Когда начался суд над Шмидтом и матросами-очаковцами, а затем ранним весенним утром
на пустынном острове Березани прогремели выстрелы, оборвавшие их героические жизни, нас
уже не было в Севастополе.
Отца снова перевели в Петербург. Он стал работать старшим корабельным сборщиком на
судостроительном заводе.
События, невольным свидетелем которых я был в Севастополе, произвели на меня
неизгладимое впечатление. Теперь я уже ясно понимал: есть два лагеря. В одном – бедные,
обездоленные, рабочие люди, которые тяжёлым трудом зарабатывают гроши на нищенскую
жизнь. В другом лагере – богачи, царь со своими войсками и полицейскими. Рабочие люди не на
жизнь, а на смерть борются за свои права, свою свободу. А царь и богачи за это расстреливают
их, вешают, сажают в тюрьмы. И я научился ненавидеть царя и богачей, чёрную свору
угнетателей народа, как ненавидели их отец, мать и все близкие мне люди.
Я думаю, что уже в то время едва ли кто-нибудь мог убедить меня в том, что жизнь устроена
хорошо и справедливо.
В Петербург мы приехали в ясный морозный день. Сады и парки стояли в серебряном уборе
инея. На этот раз северная столица поразила меня своей красотой. Не боясь заблудиться, я бродил
по широким улицам и проспектам, по гранитным набережным широкой, скованной льдом Невы,
среди старинных дворцов и памятников.
В яркий, солнечный день я проходил мимо величественного Медного всадника. Очень мне
нравилось здесь – широко, просторно, красиво. Сверкающий снег на ветках деревьев, жёлтые
стены Адмиралтейства, высокое, чистое голубое небо.
В сквере возле памятника гуляло много детей под присмотром нянек и гувернанток. Дети
были в нарядных, тёплых шубках, весёлые, краснощёкие, совсем не похожие на ребятишек с
нашей улицы, с которыми мы с сестрой играли на грязном, тесном дворе.
Малыши скатывались с ледяной горки на саночках, дети постарше съезжали, стоя на ногах,
отчаянно крича, визжа и размахивая руками. Я с пренебрежением смотрел на этих вопящих и
визжащих мальчишек и девчонок. Мне очень хотелось прокатиться с горки, – уж я бы показал
им, как надо кататься! – но я понимал, что в своей потёртой шубёнке «на рыбьем меху», в
огромных, разношенных валенках буду выглядеть среди них как ворона. Пошёл я в боковую
аллейку и сел на покрытую оледеневшим снегом скамью.
Вдруг слышу крик. По аллейке в мою сторону бежала девочка в беличьей серенькой шубке,
в пышном розовом капоре (женский головной убор эпохи бидермейера, соединяющий в себе
черты чепца и шляпы. – Прим. ред.), а за ней вприпрыжку, вскидывая на бегу всеми своими
четырьмя лапами, гналась огромная собака, такая огромная, каких я ещё и не видывал.
Не добежав до меня несколько шагов, девочка поскользнулась и упала с отчаянным плачем.
Я вскочил, сорвал с головы шапку и, размахивая ею, бросился навстречу. Собака поджала хвост
и испуганно метнулась в сторону. Остановилась и с виноватым видом стала смотреть, как я
поднял плачущую девочку и отряхнул снег с её пушистой шубки. К нам подбежала молодая,
хорошо одетая женщина. На ней, что называется, лица не было.
– Боже мой! Надин! – всхлипнула она, всплескивая руками и прижимая к себе девочку,
которая уже не плакала, а смеялась. – Надин! Он не укусиль вас, этот ужасный, злой собак?
Тут она быстро-быстро залопотала на непонятном мне языке. Улыбающаяся девочка
отвечала ей, указывая на меня.
– О да, да, да! Я видель, видель! Этот мальшик настоящий герой! – И опять поток быстрых
певучих нерусских слов.
– Вы напрасно беспокоитесь, мадемуазель! – послышался бархатистый мужской голос.
В нескольких шагах от девочки и молодой дамы стоял высокий военный в таких блестящих
сапогах, что в них, как в зеркале, отражались и белый снег, и голубое небо. Он взял собаку на
поводок и продолжал, приятно улыбаясь:
– Мой Джипс никогда не укусил бы ребёнка! Он просто ещё очень молод и хотел поиграть
с такой прелестной девочкой! Уверяю вас, опасности не было ни малейшей! Ну, а за невольный
страх мы с Джипсом приносим наши извинения! Глупый, глупый Джипс! Тебя следовало бы
наказать! Это, сударыня, отличная собака, ирландский дог чистых кровей.
С этими словами военный поднёс затянутую перчаткой руку к щегольской папахе, щёлкнул
каблуками своих зеркальных сапог и величественно удалился со своим Джипсом.
Уходя, он обернулся, сунул руку в карман бекеши (старинное долгополое пальто
сюртучного покроя. – Прим. ред.). Что-то сверкнуло в воздухе. Новенький двугривенный
покатился прямо к моим ногам.
Трудно передать, как оскорбила меня эта маленькая серебряная монета, лежавшая на льду
около моего валенка. С высот героизма я в одно мгновение был низведён до уровня какого-то
побирушки, которому можно было, как собачонке корку хлеба, бросить двугривенный. Я стоял,
не поднимая глаз, красный, злой, несчастный, готовый зареветь от обиды.
Маленькая рука в тёплой перчатке легла на моё плечо.
– О мальшик, хороший, храбрий мальшик! Надин, ви должна благодарить свой защитник,
свой рыцарь!
Я исподлобья взглянул на говорившую всё это молодую даму. У неё было круглое румяное
лицо, приподнятые брови, словно она чему-то удивилась, весёлые, блестящие глаза, блестящие
зубы. Говорила она, смешно и мило коверкая слова.
Неужели она не видела, что мне, как нищему, швырнули монету? А если видела, то… то,
значит, поняла, почему я не поднял её? Я с благодарностью взглянул на молодую даму.
Девочка в серой шубке и розовом капоре, которую как-то по-чудному называли Надин, –
Надя, что ли? – подошла ко мне и, серьёзно глядя на меня голубыми, как у куклы, глазами, вдруг
быстро присела, словно у неё подвернулась нога, и сейчас же выпрямилась. Мне это показалось
таким смешным, что я не выдержал и улыбнулся. Ко мне вернулось хорошее настроение.
– Ты вот что запомни, Надя, – сказал я, не желая коверкать имя девочки, – никогда от собаки
не бегай, она всегда за тобой побежит… А пёс-то здоровый, с хорошего телка будет!
– Телка? Что это – телка? – переспросила молодая дама, и на лице её появилось выражение
беспокойства. – Надин! – Она взяла девочку за руку, кивнула мне головой; девочка опять присела
передо мной, и они ушли.
Я долго смотрел им вслед. Вон ещё мелькает между чёрными стволами деревьев и
покрытыми снегом кустами розовый капор… Потом изо всех сил наподдал валенком
двугривенный – чуть валенок не слетел с ноги! – и побежал домой. Мне было хорошо, радостно.
И всё время вспоминались то круглое румяное лицо молодой дамы, – что она, немка, что ли, или
француженка? – то кукольное личико девочки с голубыми серьёзными глазами. У неё на левой
щёчке, около рта, было чёрное родимое пятнышко, придававшее её улыбке лукавый вид…
Дома я рассказал всю эту историю. Отец был очень доволен, что я не взял деньги. Он весело
смеялся, слушая, как я наподдал двугривенный ногой.
– Наградить, значит, хотел тебя их благородие, а ты его награду – ногой! Правильно, сынок!
Жаль только, что не видел он, как ты с его наградой расправился. Небось, невдомёк ему, что не
в деньгах тут дело…
Я случайно взглянул на мою сестрёнку, слушавшую с таким вниманием, словно я
рассказывал какую-то чудесную сказку, до которых она была великой охотницей. Она сидела за
столом, освещённым керосиновой лампой, положив гладко причёсанную головку на согнутую в
локте худенькую руку. И личико у неё было худенькое, бледненькое, а под глазами лежали тени.
Острая жалость кольнула сердце, когда я сравнил её с девочкой в беличьей шубке…
Далёкая, далёкая пора детства! Как в тумане, выступают передо мною полузабытые люди,
события. Но эту самую Надин помню хорошо; хорошо помню всё, что связано с ней. Помню,
вероятно, потому, что детские радости и огорчения очень живучи и память о них хранится
крепче, чем о людях и вещах. А с девочкой в беличьей шубке и розовом капоре связано одно из
самых жгучих огорчений моего детства.
Приближались рождественские праздники. Вероятно, и в нашей семье, по старому
русскому обычаю, как-нибудь отмечались такие праздники, как рождество и пасха. Но ёлку нам
с сестрой никогда не устраивали, не помню я, чтоб нам и дарили что-нибудь, разве что делали
какую-нибудь обновку «к празднику». Тем с большим нетерпением и волнением ждал я
рождественских праздников в этом году. И не удивительно: я был приглашён на ёлку к Надин!
Как же могло случиться, что меня, простого, что называется, «уличного» мальчишку, сына
рабочего, позвали в гости к богатому, известному в городе адвокату?
После того памятного дня, когда я «спас» Надин от страшного дога, я много раз встречал
её с бонной (воспитательница маленьких детей в семье, с положением выше няньки и ниже
гувернантки. – Прим. ред.), мадемуазель Рибо, в том же сквере. Что греха таить, на следующий
же день в то же самое время я вертелся в сквере, поджидая, не появится ли девочка в беличьей
шубке и розовом капоре.
Она, конечно, появилась. Долго не решался я подойти к ней, а потом всё-таки подошёл и,
наверно, больше часа катал её на щегольских, с красными помпонами и серебряными
бубенчиками саночках. Изображая лихого коня, я ржал, брыкался. Надин заливалась счастливым
смехом. Мадемуазель Рибо тоже, кажется, была довольна мною – вероятно, главным образом
потому, что я избавлял её от необходимости играть с Надин, развлекать её. Я забыл, что на мне
старая, потрёпанная шубейка, а на Надин дорогая беличья шубка. Мы были детьми, мы играли.
Чуть ли не каждый день в течение двух недель приходил я в этот сквер, хотя мне нужно
было проделывать – и, уж конечно, пешком – большой, утомительный путь с Выборгской
стороны, где мы жили, до памятника Петру.
Надин привыкла ко мне, да и я освоился с нею и с француженкой и уже не смущался в их
присутствии, не дичился их. Я катал девочку по всему скверу, а однажды, в пасмурный, тёплый
день, когда с запада дул влажный ветер и снег стал мокрым, липким, я слепил из снега дворец –
с окнами, башенками, мостами, вроде такого, какой я видел на картинке в дешёвом издании
сказок Пушкина. Надин и мадемуазель Рибо были удивлены моим «талантом», – так сказала
француженка. Надин, хлопая в ладоши, повторяла:
– Это дворец Снежной королевы, не правда ли? Это настоящий дворец Снежной королевы,
как у Андерсена…
Я не знал, кто такой Андерсен и что за Снежная королева, но был очень горд похвалами.
Вот так и получилось, что в один прекрасный день, незадолго перед рождественскими
праздниками, прощаясь со мной, Надин сказала мне:
– Мальчик, – она всегда так называла меня, хотя и знала моё имя, – мальчик, приходи к нам
на ёлку. Обязательно приходи. Слышишь?
– Надин!.. – Мадемуазель Рибо стала быстро говорить ей что-то по-французски, сердито
глядя на меня, словно я был в чём-то виноват.
– Нет, нет! Он придёт, придёт! Я скажу мама! Он придёт, я так хочу! – перебила её девочка
и даже топнула ножкой, обутой в меховой башмачок.
А ещё через день я получил уже, так сказать, «официальное» приглашение на ёлку,
подтверждённое и мадемуазель Рибо. По кислому выражению лица, с которым молодая
француженка говорила со мной, я понял, что Надин настояла на своём против её воли.
Француженка оглядела меня с ног до головы, словно видела в первый раз, покачала головой,
поджала губы.
– Ты должен хорошо вести себя в гостях у почтенных людей, – сказала она, – тихо, скромно
и всегда благодарить. У тебя есть носовой платок? Обязательно, чтобы ты имел носовой платок!
Дома по-разному отнеслись к тому, что я получил приглашение на ёлку. Отец досадливо
нахмурился.
– Нечего мальчишке шляться по богатым домам, не его это компания, и ничего хорошего
из этого не получится! – сказал он.
Матери же льстило, что её сын приглашён в богатый дом, она была на моей стороне. А мне
до смерти хотелось побывать на ёлке. В моём воображении это был сказочно-прекрасный,
весёлый праздник, о котором я знал только из книжек.
У меня были довольно приличные чёрненькая курточка и брючки. Мать заботливо
вычистила их, подштопала, выгладила, они были совсем как новенькие, только узковаты.
Выстирала лучшую мою рубашку, потихоньку от отца купила мне новые ботинки. Это были
очень дешёвые ботинки, но я был счастлив. Правда, сколько я ни тёр их суконкой, они не
блестели, как сапоги у военного, но зато, когда я ходил в них, они издавали оглушительный
скрип, и это казалось мне верхом шика.
И вот настала решительная минута: одетый во всё чистое, вымытый, причёсанный, с
большущим носовым платком в кармане, вечером в первый день рождества я стоял на
освещённой площадке лестницы перед дубовой дверью, на которой блестела медная дощечка с
надписью:
«Присяжный поверенный Алексей Анатольевич Доброленский».
Я вспотел от волнения и страха, сердце у меня замирало, и я долго не решался нажать
беленькую пуговку звонка.
Дело в том, что, когда я вошёл в ярко освещённый подъезд высокого серого дома на
Литейном, меня остановил важный усатый швейцар в мундире с золотыми галунами. Он не хотел
пускать меня в дом. Я сказал, что иду к Доброленским на ёлку. Он нахмурился, с сомнением
покачал головой и пробасил: «Ну, иди, да только не балуй».
За дверью слышались голоса, смех… Может быть, уйти, пока не поздно? Но ведь внизу был
грозный швейцар… Наконец я решился – позвонил. Дверь открыла красивая строгая девушка в
белом фартучке и с белой, похожей на бабочку кружевной штучкой на голове. И сразу я попал в
какой-то удивительный, совершенно чуждый и непонятный мне мир. Только успел я сдёрнуть
шапку с головы, как меня окружили нарядные, смеющиеся дети.
– Мой мальчик пришёл! Мой мальчик пришёл! – кричала, хлопая в ладоши, девочка в
голубом воздушном платьице. Золотые локончики так и прыгали по её плечам. Я с трудом узнал
в этой красавице мою приятельницу Надин.
Меня окружили, тормошили, тянули со всех сторон. Потом в переднюю вышли полный
господин с чёрной шелковистой бородой и сигарой, которую он бережно держал в руке, и
худенькая дама в узком лиловом платье, с бледным, печальным лицом и точно такими же
большими, кукольными глазами, как у Надин. Эти глаза смотрели на меня холодно, отчуждённо.
Появились ещё какие-то расфранченные мужчины и женщины. Я так растерялся, что плохо
соображал, где я и что со мной. Полный господин подошёл ко мне и осторожно, одним пальцем
ткнул меня в плечо.
– Ну, вот и отлично, что пожаловали к нам, милостивый государь! – весело проговорил он.
Послышались смех, шутки, меня куда-то повели по огромным, богато убранным комнатам.
Я очутился в просторной комнате, в которой стояла беленькая кроватка Надин. Здесь я увидел
француженку в пышном малиновом платье.
Она, молча внимательно, оглядела меня с головы до ног, поднеся к глазам смешные
маленькие очки на длинной ручке, и так же молча отошла от меня.
Надин совала мне в руки книжки с ярко раскрашенными картинками, что-то говорила мне.
Я молчал, не зная, что отвечать.
– Что же ты молчишь? Что ты всё молчишь? – удивлённо и недовольно спрашивала она.
Потом появился высокий белобрысый мальчик, старше меня тремя-четырьмя годами, в
парадном гимназическом мундире, обшитом галуном, – брат Надин. С ним были ещё два
мальчика его возраста. Поглядывая на меня, они о чём-то говорили, смеялись. «Должно быть,
проезжаются на мой счёт!» – подумал я с чувством полной беззащитности.
Вот и Надин отвернулась от меня…
Здесь, в большой, богатой квартире, среди этих людей, этих детей, я почувствовал такую
щемящую тоску, что слёзы навернулись мне на глаза. Душа моя рвалась отсюда домой, в нашу
тесную комнатку, где сейчас, вероятно, сидели и ужинали за некрашеным, чисто выскобленным
столом отец, мать, сестрёнка…
В комнату вошла мадемуазель Рибо с целым ворохом цветного тряпья в руках и бросила
его на стол.
– Дети! Маскарад! Одеваться! Живо! – крикнула она своим звучным голосом и хлопнула в
ладоши.
Дети окружили её, подняли визг, началась весёлая возня. Несколько минут – и по комнате
бегали девочки с прикреплёнными к спине пёстрыми крылышками и с блестящими усиками на
голове, бабочки. Вот цыганочка в алой повязке на чёрных локонах, вся в пёстрых лентах, бусах,
с бубном в руке. Вот гномик в красном колпачке, с длинной седой бородой. Надин нарядили
Снегурочкой – в белой шапочке, в белом плаще, украшенном серебряными снежинками. Брат
Надин надел набекрень треуголку с пером, прикрепил к плечам пышные эполеты, опоясался
лакированным поясом с саблей.
Дети теснились возле большого зеркала в золочёной раме, каждый хотел полюбоваться
своим костюмом. А обо мне забыли. Я стоял у окна и всё думал: «Зачем, зачем я здесь, зачем?»
– А мой мальчик? – услышал я весёлый голосок.
Все повернулись в мою сторону и молча смотрели на нахохлившегося мальчика с красным
насупленным лицом, в узенькой чёрной курточке с коротковатыми рукавами, – таким я видел
себя в зеркале.
– А ему мы наденем дурацкий колпак! – крикнул гимназист и, подскочив, напялил мне на
голову колпак из синей бумаги.
Я обиделся, сорвал колпак с головы и бросил на пол.
– Лучше мы нарядим его огородным пугалом! – крикнул другой мальчик.
Кто-то засмеялся, кто-то захлопал в ладоши. Не знаю, что было бы дальше, – наверно, я
подрался бы с мальчиками, – но в это время рядом шумно заиграла музыка, дети бросились к
дверям. Мне ничего не оставалось, как пойти следом за ними.
В большой комнате свет был погашен, горели только свечи на ёлке. Большущее, до потолка,
зелёное пушистое дерево сверкало огнями, словно облитое жидким струящимся золотом. Это
было так неожиданно и красиво, что невольно вздох восхищения вырвался и у меня.
Толстая седая дама сидела за роялем и играла марш. Взрослые стояли в дверях, любуясь
весельем детей. А дети, как стайка воробьёв, кинулись под ёлку, где в пёстрых красивых пакетах
лежали подарки. Мадемуазель Рибо следила за тем, чтобы каждому досталось именно то, что
было предназначено ему.
Она и мне сунула маленький свёрток, в котором лежало что-то жёсткое. Дрожа от
нетерпения, я сорвал бумагу. У меня в руках была дешёвая, копеечная куколка – паяц. Он
противно пискнул и взмахнул руками, когда я надавил ему на живот. Растерянно смотрел я на
дурацкую, грубо размалёванную рожу паяца, не зная, что с ним делать. В душе поднималось
чувство такой же жгучей обиды, как тогда, в сквере, когда военный швырнул мне двугривенный.
Положил я паяца на ближайший ко мне стул и тихонько выскользнул в коридор из залитой
золотыми огнями, гремящей музыкой и весёлыми голосами комнаты.
Моё отсутствие не сразу было замечено. Я прошмыгнул по коридору в переднюю. Никого!
Какое счастье!.. Вот и моя шубёнка, и шапка, они лежали отдельно на стуле. В эту минуту в
коридор открылась дверь, вышли француженка и мать Надин. Я едва успел спрятаться за шубы,
висевшие в передней.
– Здесь его тоже нет! – услышал я встревоженный голос матери Надин. – Где же он, этот
ужасный мальчик?
Стуча каблучками, к ним подбежала горничная.
– Он, барыня, не мог уйти, вот и одежонка его здесь… Он где-нибудь спрятался… Нет ли
его в комнате у барышни?
– Ах, я так и знала! – раздражённо проговорила мать Надин, – Ещё украдёт что-нибудь?
Она сердито заговорила по-французски, обращаясь к мадемуазель Рибо. Все трое быстро
прошли по коридору.
Я выглянул из своего душного убежища. Передняя и коридор были пусты. Раздумывать
было некогда. Выбрался я из-за шуб, схватил свою одежонку. Открыть английский замок для
меня не составляло труда, уже в то время я мог разобрать и собрать любой замок! И вот я на
пустой площадке. Осторожно прикрываю за собой дверь. Скорей, скорей вниз! На ходу надеваю
шубейку, нахлобучиваю шапку. Не торопясь прохожу мимо швейцара. Вот я на улице.
Крупными мягкими хлопьями падал снег. Всё бело. Весело горели фонари, светились окна
домов. Рождество!..
Тугой комок стоял у меня в горле, мешая вздохнуть всей грудью. Я вдруг вспомнил паяца,
его глупую рожу, противный писк. Я начал смеяться и не мог остановиться. Смеюсь, а слёзы так
и текут, так и текут по лицу.
– Проклятые дураки, – шептал я про себя, – проклятые, проклятые…
Долго ходил я в тот вечер по улицам, домой пришёл, уже успокоившись.
Сестрёнка спала. Мать что-то шила, низко наклонив голову над пёстрым ситчиком. Отец,
положив локти на стол, читал книгу. И всё показалось мне таким милым, родным – и эти горячо