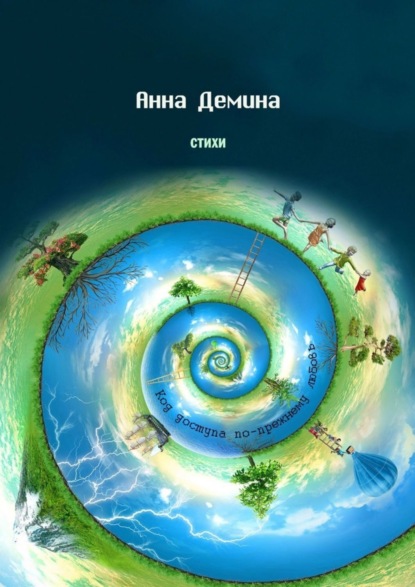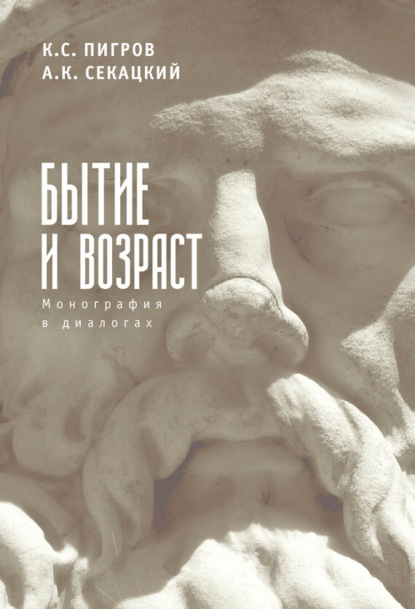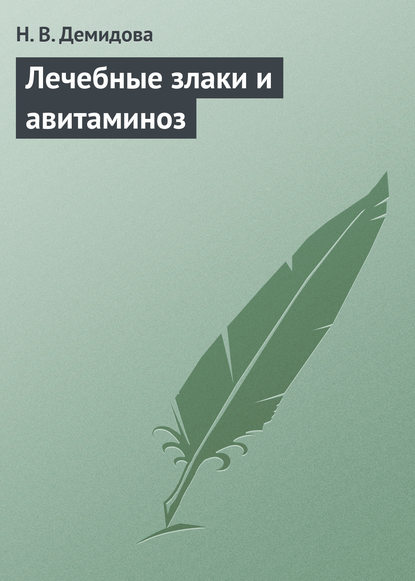РУБЦЫ НА СЕРДЦЕ сборник рассказов
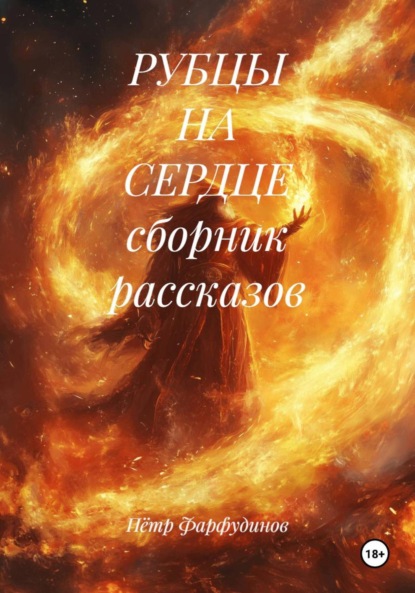
- -
- 100%
- +

РУБЦЫ НА СЕРДЦЕ…
Тишина в Гавриловой Гуте была не мирной, а мертвой, придавленной сапогом оккупанта. Пётр Фирсович стоял на пороге пустого дома, того самого, что построил своими руками перед коллективизацией. От былой крепкой жизни остались лишь щели в бревнах да горькая память.
Сибирь, Казахстан, Горняк… Цепочка горя тянулась за ним, как каторжный шлейф. Он вспомнил лицо жены, серое от болезни, вспомнил, как увозил младших от надвигающегося голода, бросив старших на произвол судьбы. А потом – страшный, леденящий душу приезд. Встретили его две осиротевшие дочки, Ольга да Пелагея, с испуганными, впавшими глазёнками. И свежая могила на окраине села. Григорий. Старший сын. Его надежда. Зарезали подлым ударом в спину за горсть муки.
«Чтобы выжить, – шептал тогда Пётр Фирсович, глядя на дочерей, – главное – выжить».
Он выживал. Снова строил, стучал молотком, пилил доски, заглушая боль. И вот – тот парень с сибирской стройки, Степан. Суровый, молчаливый, с руками, знающими дело. Попросил в жены Пелагею. Ей семнадцать не было, в глазах – детский испуг. Но в его, взгляде, Пётр Фирсович увидел не пыл любви, а ту же суровую необходимость – выжить вдвоём. Согласился. Без свадьбы, без песен. Просто перевёз дочь в его курень. Ещё один рубец на сердце.
А потом пришли немцы.
Возраст и подорванное здоровье спасли его от мобилизации, но не от ярости. Он смотрел, как по его земле ходят чужие солдаты, как дымят трубы комендатуры, и в груди закипала старая, как мир, ненависть хозяина, у которого отнимают последнее. Снова. Уже в который раз.
Однажды ночью он вышел из дома, взяв старую охотничью куртку, пару сухарей и спрятанный за печкой обрез. На прощание лишь посмотрел на тёмные окна дома, где оставалась Ольга.
Лес принял его, как своего. Партизанский отряд «Смерть оккупантам» состоял из таких же, как он – обиженных, обозлённых, отчаявшихся. Бывшие колхозники, учитель, сбежавший из плена красноармеец. Пётр Фирсович стал своим. Не лихим бойцом, но незаменимым мастеровым. Он чинил винтовки, мастерил растяжки, знал каждую тропку в округе.
Однажды командир, молодой ещё лейтенант, вызвал его.
– Фирсыч, нужно взять «языка». У комендатуры. Ты там каждый камень знаешь.
Он знал. Знавал и другую жизнь этого села. Но кивнул молча.
Ночь была тёмной, безлунной. Они, трое партизан и Пётр Фирсович, подползали к окраине, к тому самому мосту, где когда-то нашли его Григория. Казалось, сама земля шептала ему о старшем сыне, о несостоявшейся жизни.
Задание прошло на удивление гладко. Одинокий фельджандарм, куривший у поста, был оглушён и утянут в кусты. Но тишину ночи разорвал лай овчарки, а следом – ослепляющий луч прожектора с вышки.
– Рассредоточиться! – крикнул лейтенант. – К лесу!
Застрочил пулемёт. Пётр Фирсович бежал, пригнувшись, чувствуя, как свинцовый ветер рвёт полы его куртки. Он видел, как молодой паренёк, Ванька-пулемётчик, споткнулся и упал, больше не поднимаясь.
Леса были уже рукой подать, когда острая горячая боль в ноге заставила его споткнуться и упасть в придорожную канаву. Пуля. Он пополз, цепляясь корявыми пальцами за мёрзлую землю. Предательский лунный свет выхватил его из темноты.
Немцы окружили его. Молодой офицер что-то спросил на ломаном русском. Пётр Фирсович молчал, глядя куда-то поверх их голов, в сторону своего дома. Он думал о Пелагее у сурового Степана, о Ольге, одной в пустом доме. Снова дети. Снова одни.
Его подняли и поволокли к комендатуре. Он не сопротивлялся. В глазах стоял образ одиннадцати детей за большим столом, жены, накрывающей на стол, стука топора и запаха свежей стружки. Ту жизнь, которую у него отняли. Сначала по частям, а теперь – совсем.
У стены сарая, пахнущего навозом и кровью, он стоял прямо, как столетний дуб. Перед строем чужих солдат. Мороз пощипывал щёки.
Пётр Фирсович закрыл глаза. Он не услышал команды, не услышал залпа. Он услышал лишь далёкий, но такой ясный смех своих детей, какими они были когда-то, в той, другой, навсегда утраченной жизни.
Раненого Петра Фирсовича, оставленного у сарая, нашла ночью Акулина, вдова, чей муж пропал без вести в первые недели войны. Рискуя собственной жизнью и жизнями своих детей, она оттащила его в погреб, где в кромешной тьме, под полом, заваленным картофельной ботвой, он провел несколько недель. Она выхаживала его, как зверь своего детеныша, промывая раны травами и выгоняя лихорадку парным молоком. Боль была его постоянной спутницей, напоминая о том залпе, который должен был стать последним. Но он выжил. Снова.
Когда Брянщину освободили, он стоял на костылях, глядя на весеннее небо, и знал – он должен увидеть Пелагею. Он должен знать, что хоть одна ветвь его большого древа пустила корни.
Дорога в Сибирь была долгой, как и его жизнь. А когда он добрался до знакомого села, его ждало новое испытание – пустой дом и чужие люди. «Уехали, на «Зарю», на стройку». Сердце сжалось от страха потерять её снова.
Станция Заря встретила его грохотом и пылью. Это был новый мир, который рождался в муках и тяжком труде. Воздух дрожал от стука молотов и лязга тачек. И среди этого хаоса, на берегу бурного Чумыша, он нашел их. Небольшую избушку, срубленную руками зятя, Степана, который оказался не просто суровым мужем, а настоящим хозяином.
Увидев отца, Пелагея Петровна не закричала от радости. Она долго смотрела на него, стоя на пороге, с младшим сыном на руках, а потом беззвучно заплакала, прижавшись к его груди, как в детстве. В её слезах была вся боль разлуки, гибели брата, голода и страха за свою новую, хрупкую семью.
Пётр Фирсович остался. Он видел, как Пелагея, уже беременная, с двумя малышами, крутится по хозяйству. Он видел, как Степан уходит на рассвете на тот самый «Копай», где тысячи пленных японцев вгрызались в упрямый косогор, и возвращается затемно, уставший до смерти, но не жалующийся. Труд здесь был той же формой выживания, что и в партизанах – суровой, безропотной, необходимой.
Когда родилась Люба, Пётр Фирсович был первым, кто взял на руки крохотную, кричащую девочку. В её лице он увидел обещание будущего. Он мастерил люльку, помогал по дому, нянчил внуков, и по вечерам, когда Степан возвращался, они молча сидели на завалинке, глядя на зарево над «Копаем» – символом новой, насильно строящейся жизни.
Но его Брянщина, его израненная земля, звала его. Он понимал, что его место там, среди пепелищ, которые нужно возрождать. Прощание с Пелагеей было тихим и тяжёлым.
«Выживай, дочка, – сказал он, крепко обнимая её. – Ты крепкая, в меня. Твой дом – твоя крепость».
Она кивнула, не в силах вымолвить слова.
А жизнь Пелагеи Петровны на алтайской земле продолжала свой бег, подобно водам Чумыша – то спокойный, то бурный. Рождались новые дети: Татьяна, Николай, Надежда. С каждым ребёнком её любовь к этому суровому краю росла, пуская корни глубоко, как у кедра. Она научилась понимать язык тайги, уважать её нрав и щедрость.
Но трагедия, тень которой всегда следовала за их родом, не обошла стороной и этот дом. Когда Надежде было всего три года, на стройке моста случилась катастрофа – оползень, вызванный весенними паводками. Степан, пытаясь спасти товарищей, оказался под грудой камней и мёрзлой земли. Его вытащили живого, но со сломанным позвоночником.
Он остался жив, но прикован к постели. Вся тяжесть семьи легла на плечи Пелагеи Петровны и её подрастающих детей. Митрофан, старший, в двенадцать лет пошёл работать на железную дорогу – чистить пути, чтобы получать паёк. Ольга вела хозяйство.
Пелагея не роптала. Она вставала затемно, доить корову, готовить еду, стираеть бинты для мужа, бежит на подённые работы. По ночам, уставшая до изнеможения, она садилась к свече и шила одежду детям из тех самых отрезов, что когда-то привёз её отец. Её руки, покрытые трудовыми мозолями, были такими же твёрдыми и умелыми, как у Петра Фирсовича.
Именно в эти самые тёмные дни она проявила свою настоящую силу. Она не просто выживала – она строила жизнь. Ухаживая за Степаном, она находила в себе силы улыбаться детям, рассказывать им истории о далёкой Брянщине, о дедушке, который был настоящим богатырём. Она учила их не только труду, но и стойкости, и вере в то, что после самой долгой ночи всегда наступает рассвет.
И рассвет наступил. Дети подрастали, становясь её опорой. А когда родился младший, последний сын, она, не раздумывая, назвала его Петром. В этом имени была её клятва жизни, связь с отцом и надежда на то, что род их, пройдя через огонь, голод и войну, не прервётся, а будет продолжаться в новых поколениях, на этой алтайской земле, у реки с именем Чумыш, что течёт так же неукротимо и вечно, как и сама жизнь.
Жили мы все тогда, почитай, одинаково – бедно, но не зная иного. Война отгремела всего несколько лет назад, раны на земле и в людях еще не зажили. В нашей семье я был седьмым по счету, лишний рот, но и лишние руки, что в хозяйстве всегда пригодятся.
Помню то утро, будто вчера это было. А прошло-то уж больше шестидесяти пяти лет. Мне тогда пять лет стукнуло. Проснешься бывало, и первым делом – на крылечко нашего домишка. Стоял он в центре станции Зырянской, прямо-таки у сердца железной дороги. От вокзала рукой подать, метрах в ста. И весь день напролет – музыка: перестук колес по стыкам рельсов, гуделки паровозные, грохот вагонов. Поезда с кузбасским углем сновали без передыху.
Вот и в то утро привычный гул вдруг перекрыл оглушительный гудок. Не обычный, предупреждающий, а дикий, протяжный, крик о помощи. Я присмотрелся: со стороны переезда, изрыгая черный дым, несется паровоз. А в окне кабины – живой факел. Машинист, объятый пламенем, метался, пытаясь сбить огонь с промасленной робы. Его крик, полный такой животной боли и отчаяния, что мороз по коже дерет, долетал до самого крыльца. Сердце у меня в пятки ушло.
Страшное это было зрелище. Видно было, что человек уже на исходе. И он сделал последнее, что мог – выпрыгнул на ходу. А паровоз, как потом узнали, на стрелке завели в тупик депо.
Мы, пацаны, и взрослые мужики, кто был поблизости, бросились туда. Лежал он на шпалах, обгорелый, страшный. От одежды шел дымок, а по телу… по телу вздувались жуткие водяные пузыри, где-то проступала кровь. Сквозняков в те годы не было, не то, что сейчас. Несколько железнодорожников, не сговариваясь, аккуратно подхватили его и бегом, сгоряча, понесли к больнице. Благо, медсанчасть при дороге тут же, у вокзала. Врачи потом его долго выхаживали, ожоги почти всего тела – шутка ли.
Эта картина у меня в памяти навек врезалась. Почему начал с нее? Наверное, потому что с нее для меня многое началось. Понимание, что жизнь – штука внезапная и жестокая.
Школа наша рядом с домом была. Осенью, после каникул, встречались, оглядывали друг друга. Кто-то за лето вымахал, кто-то окреп. А я себе казался все тем же мелким. В классе у нас дружба была, но и свой горький плод имелся – Колька. Парень он был колючий, злой, все норовил себя агрессией выделить. Многим он поперек горла стал.
Как-то раз пришлось его усмирить. Слово за слово, он полез в драку, а я, недолго думая, отвесил ему двойной удар. Разошлись бы мы всерьез, да учительница подоспела. Разняла. Но злоба в нем на меня затаилась глухая, немую. Срывал он ее потом на других ребятах, тех, кто послабее его.
Шли годы. Мы взрослели, жизнь брала свое. А злость в Кольке не уходила, лишь копилась внутри, как нарыв. И прорвалось. Совершил он глупость, за которую его в колонию для малолетних отправили. Казалось бы, все – конец. Сгинет человек, пропадет.
Но нет. Не сломила его эта тяжелая судьба. Не сломила, а закалила, будто сталь в горне. Прошли годы. Вернулся он оттуда другим. Не агрессивным, а собранным. Не злым, а твердым. Жизнь его, конечно, легкой не стала, но он ее выдюжил. Работу нашел, семью создал. Не оправдывал себя, не ныл, а молча делал свое дело, вытаскивая себя из той ямы.
Вот потому я и вспомнил того обгоревшего машиниста и Кольку. Жизнь – она ведь как та железная дорога: то подъем, то спуск, то светлая зеленая улица, то глухой опасный переезд. Бывают черные, обугленные полосы, кажется, конца им нет и уже не выкарабкаться. Но обязательно после них придет белая, светлая. Если руки не опускать.
Если тебе сегодня плохо, больно и кажется, что все кончено – просто верь. Верь, что завтрашний день наступит. И он обязательно будет радостным. Главное – самому не сгореть дотла изнутри. Бороться. За свою жизнь.
Снег той зимы был не белым, а свинцово-серым, колючим, как иглы отчаяния. Пятьдесят пять градусов. Воздух звенел от мороза, становясь хрупким и ядовитым. Каждый вдох обжигал лёгкие, а для Степана, прикованного к постели, он стал смертельным. Пневмония забрала его тихо, почти по-воровски, в одну из тех бесконечных ночей, когда Пелагея, дремала у его изголовья, слышала, как стучат в стены дома ветра со стороны Лютого Чумыша.
Осталась она одна. Одна с младшими детьми в старой, продуваемой всеми ветрами избушке на окраине станции. Старшие, Митрофан и Александр, уже встали на крыло, разъехались по великим стройкам страны, отсылая матери скупые денежные переводы. А с ней оставались Николай, Надежда и самый младший, Пётр, названный в честь деда, чья тень, казалось, навсегда осталась в этих стенах – тень несгибаемой воли.
Годы, последовавшие за смертью мужа, слились для Пелагеи Петровны в одну долгую, изматывающую работу. Руки, помнившие ласку отцовских отрезов на платья, теперь грубели от дерьма и замёрзшей земли. Она бралась за любую работу: мыла полы в конторе, стирала бельё холостякам-строителям, летом ворошила сено на колхозных полях. Голод был уже не тот, довоенный, липкий и смертный, но бедность была их постоянной спутницей. Она была тихой, въедливой, проникающей в каждую щель.
Но в Пелагее Петровне жила не только усталость. В ней жила та же сила, что когда-то заставила её отца подняться после расстрела. По вечерам, когда дети делали уроки при свете керосиновой лампы, она садилась к окну и смотрела на огни станции «Заря». И в её глазах, уставших и глубоких, как осенние озёра, теплилась не покорность судьбе, а ожидание. Ожидание чуда.
И чудо пришло. Не с неба, а с постановления ЦК КПСС.
Вначале пришли геологи со своими странными приборами. Потом – изыскатели. А потом земля задрожала по-настоящему. По дорогам, где когда-то тащились гужевые обозы, пошли бесконечные вереницы грузовиков с кирпичом, лесом и стальными конструкциями. На пустом месте, у реки, начал расти великан – Алтайский Коксохим.
Для Пелагеи Петровны это была не стройка, а второе рождение мира. Грохот бульдозеров и пение циркулярных пил звучали для неё симфонией будущего. Она, как заворожённая, смотрела, как на месте болот и чахлых сосен поднимаются сначала бараки, а потом и первые настоящие дома – не избы, а светлые, панельные хоромы с ванными и балконами.
И вот однажды пришла очередь их семьи. Ордер на квартиру. Не в бараке, а в новом, только что сданном доме на улице, которой ещё не было на карте. Ключи в руке показались невесомыми и горячими, как слёзы.
Когда они переступили порог, Надежда ахнула. Солнце заливало пустую, пахнущую краской комнату. Николай, всегда сдержанный, неловко провёл рукой по гладким обоям. А маленький Пётр, её Пётр, подбежал к окну и, прилипнув носом к стеклу, прошептал: «Мама, мы в городе?»
Город. Заринск. Он рос на их глазах, как диковинный каменный цветок. Скверы, фонтаны, Дворец культуры. Пелагея Петровна, выросшая среди сибирской грязи и разрухи, ходила по асфальтированным тротуарам и не могла надышаться этим воздухом – пахнущим не дымом и потом, а свежей краской и цветущими яблонями.
Её Пётр, повзрослевший, с камерой в руках, унаследовал не только имя деда, но и его пытливый ум и золотые руки. Он видел не просто улицы и дома. Он видел судьбу. Судьбу места, которое из «Копая» и голодного полустанка превратилось в город мечты.
И когда администрация города заказала ему первый фильм о Заринске, он пришёл к жене.
– Павлина, – сказал он, – я хочу, чтобы фильм был не про бетон и станки. Я хочу, чтобы он был про людей. Про душу.
Павлина молча кивнула. Она села за стол, взяла старую, пожелтевшую от времени ручку и вывела на чистом листе: «Город Заринск, молодой и красивый, самый зелёный из всех городов, это конечно частица России у Чумыша, у его берегов, Строили город красиво, умело, с энтузиазмом работали смело, Все кто приехал, въезжали в квартиры, пусть с недоделками, но не большими. Мы любим наш город и, им мы гордимся, он для нас стал, как родной человек, здесь и работаем, здесь и роднимся, мы сами решили прожить здесь свой век. Но почему появился наш город, об этом нам скажет, как стар, так и молод… Коксохим был виновником этим для всех горожан он лучший на свете!, Эти слова, вышедшие из-под пера невестки Павлины, жены Петра, стали сердцем фильма. Но знали ли зрители, сидя в уютном кинозале, что за этими строчками стоит жизнь одной женщины? Жизнь, в которой была война, голод, смерть мужа, отчаяние в старой избушке. И безграничная, стоическая вера в то, что после самой долгой и суровой зимы обязательно наступит весна.
Пелагея Петровна смотрела фильм сына на большом экране. На её глазах блестели слёзы. Это были слёзы не только о прошлом. Это были слёзы о будущем, которое её семья, её Пётр, помогли построить. И в грохоте нового металлургического гиганта ей чудился стук топора её отца, Петра Фирсовича, который когда-то, в далёкой Сибири, учил её самому главному – не просто выживать, а строить жизнь. Дом. Семью. Город.
СИБИРЬ. ВСТРЕЧА
Глава 1.
Лето 1978 года выдалось на редкость тёплым. Стояли такие белые ночи, что даже в полночь на небе виднелась алая полоска заката. Именно в такую пору Артём Орлов, только что получивший диплом токаря-универсала, сошёл с поезда на маленькой станции «Таёжная». В кармане у него отстукивал ритм колес прощальный подарок от ребят из училища – импортный кассетный магнитофон «Весна-202».
Дорога до деревни Зарянье на попутках заняла ещё полдня. Его приезд стал полной неожиданностью для тёти Марины, маминой сестры. Она ахнула, увидев на пороге не мальчика, а высокого, широкоплечего юношу с уверенным взглядом и чемоданом в руках.
– Тёма! Да ты ли это? Мужиком стал!
– Я, тёть Марина, на побывку. Отдохнуть перед заводом.
Стол накрыли мгновенно: солёные грузди, парное молоко, горячие лепёшки и душистый мёд. Вскоре собрались соседи, наслышанные о приезде «городского». Артёма разглядывали с нескрываемым любопытством: вспоминали худощавым и замкнутым пацаненком, который когда-то гостил здесь летом, а теперь перед ними был статный, с волевым подбородком парень, чьи руки уже уверенно держали металл и напильник.
Вечером кузины Катя и Оля, перешёптываясь и хихикая, стали его наряжать.
– Сегодня в клубе танцы! Все девки с ума сойдут от такого кавалера!
Артём отнекивался, но в душе ему было любопытнo....
Глава 2.
В клубе пахло духами, махоркой и свежевыкрашенным полом. В кинозале было темно – шёл фильм. Артём прислонился к косяку и дал глазам привыкнуть. Когда фильм кончился и зажгли свет, он оказался в центре всеобщего внимания. Девичьи взгляды, колкие и оценивающие, скользили по его новой рубашке и начищенным до блеска туфлям.
И вдруг он увидел её. Она сидела на третьем ряду, откинув голову на спинку скамьи и что-то рассказывая подружке. Яркий свет лампы выхватил из полумрака её лицо: высокие скулы, пухлые губы и… невероятные, бездонные голубые глаза. А когда она засмеялась, он разглядел у самого уголка её губ маленькую, точёную родинку, делавшую её образ абсолютно совершенным.
Их взгляды встретились. Девушка смущённо отвела глаза, покраснев до корней волос. Но через мгновение, будто против своей воли, снова посмотрела на него. В её глазах горел не просто интерес, а самое настоящее, жгучее любопытство.
Парни быстро расставили скамейки вдоль стен, и заиграла музыка. Первые аккорды вальса «На сопках Маньчжурии» прозвучали для Артёма как приказ. Он, не раздумывая, прошёл через весь зал, не видя никого, кроме неё. Остановился перед девушкой, склонился в почтительном поклоне и произнёс:
– Разрешите пригласить?
Она молча кивнула, положив свою маленькую ладонь на его натруженную руку. Её звали Лидия. Весь вечер Артём не отходил от неё. Они почти не разговаривали, говорила музыка, их руки и взгляды. Он кружил её в вальсе, и мир перестал существовать. Были только они, да зал, полный зависти и удивления.
А когда прозвучал последний, медленный танец, Артём прошептал:
– Проводить вас?
Лида кивнула. Они шли по деревенской улице, утопая в сумерках белой ночи. О чём говорили? Обо всём и ни о чём. О книгах, о музыке, о том, что звёзды здесь кажутся ближе, чем в городе. Он узнал, что она заканчивает десятилетку и мечтает стать учительницей.
У калитки её дома он не удержался и спросил:
– Можно я… можно я завтра приду?
– Приходите, – прошептала она и скрылась за дверью.
А он шёл назад и понимал, что его жизнь только что разделилась на «до» и «после». До Лиды и после.
Глава 3.
Оставшийся месяц отпуска пролетел как один миг. Они проводили вместе каждую свободную минуту: ходили в лес по ягоды, катались на лодке по тихой речке, сидели на брёвнах у реки и мечтали. Артём рассказывал о шумном цехе, о том, как из грубой болванки рождается блестящая деталь. Лида читала ему свои любимые стихи Есенина и Цветаевой.
Они успели полюбить друг друга всей силой своей юной, чистой души. Но впереди была армия. Два долгих года.
В день отъезда он стоял на перроне, сжимая её маленькие, холодные руки.
– Жди меня, Лида. Я обязательно вернусь. Это не просьба, это приказ солдата своей невесте.
– Я буду ждать, Артём. Я буду писать тебе каждый день.
Поезд тронулся. Он долго смотрел в окно на уменьшающуюся фигурку в синем платье, пока она совсем не исчезла из виду. А в кармане у него лежал её платочек с вышитыми инициалами.
АРМИЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ.
Глава 1.
Два года пролетели в бесконечных письмах, тревожном ожидании и тяготах службы. Артём служил в танковых войсках под Читой. Суровая армейская закалка, дисциплина и ответственность сделали из юноши настоящего мужчину. Его уважали сослуживцы, ценило командование. Он вернулся домой не просто солдатом, а сержантом, с аккуратно упакованным в клетчатый чемодан «дембельским» альбомом и медалью «За воинскую доблесть».
Первым делом, даже не заехав домой, он направился в педагогическое училище в соседнем городе, где теперь училась Лида.
Он стоял в холле в своей шинели, с погонами сержанта на плечах, и чувствовал, как дрожат его колени. Зазвенел звонок, по коридору хлынул поток студенток. И среди них он увидел её. Она повзрослела, стала ещё красивее. Она что-то оживлённо обсуждала с подругой и… подняла глаза.
Секунда оцепенения. Потом её портфель с грохотом упал на пол, а сама она, вскрикнув, бросилась к нему на шею. Слезы, смех, восторженные взгляды сокурсниц и крепкое, мужское рукопожатие дежурного администратора.
– Ну что, солдат, вернулся? – сквозь слёзы смеялась Лида.
– Как видишь. Командировка закончилась. Приказ выполнен.
В тот вечер они просидели в маленьком кафе до самого закрытия, не в силах наговориться. Они наверстывали два года разлуки.
Глава 2.
После окончания училища перед ними встал вопрос: что дальше? Работа по распределению в сибирской деревне? Или… Они увидели плакат: «Молодые специалисты! Есть возможность проявить себя на ударных комсомольских стройках Крайнего Севера! Высокие зарплаты, перспективы!»
Они смотрели на карту, на суровый полуостров Таймыр, на посёлок с романтичным названием «Северное Сияние».
– Страшно? – спросил Артём, обнимая её.
– С тобой – нет, – твёрдо ответила Лидия. – Это будет наше приключение.
И они подали заявление.
Глава 3.
Их встретил колючий ветер, бесконечная тундра и ослепительно белый снег. Посёлок оказался скоплением панельных пятиэтажек, укутанных в утеплитель, с заиндевевшими окнами. Но внутри кипела жизнь.
Артёма, как высококлассного специалиста, сразу взяли на механический завод, обслуживавший геологов и буровиков. Лиду определили учительницей младших классов в местную школу-интернат.
Их брак зарегистрировали в скромном поселковом ЗАГСе. Свидетелями были их новые друзья – буровик Владимир и медсестра Татьяна. А через год в их маленькой, но уютной «двушке», пахнущей тайгой и свежей выпечкой, раздался детский крик. На свет появилась их дочь. Они назвали её Люся – светлая, лучезарная, как то северное сияние, что плясало за окном в ночь её рождения.