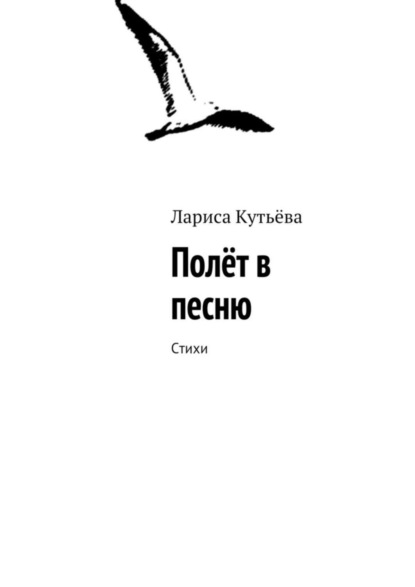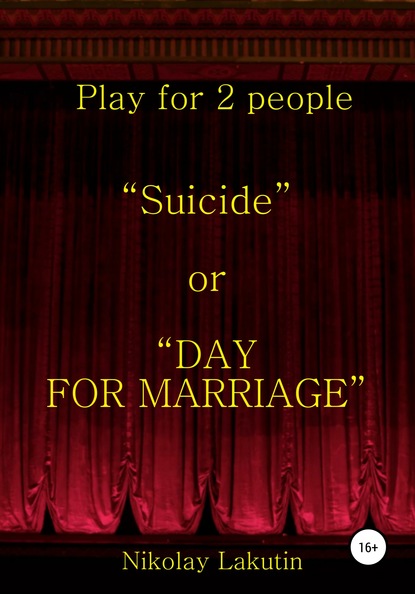Филипповы дети

- -
- 100%
- +

Отец у неё был старшим кондуктором, он погиб при крушении. Жили в железнодорожном домике, похожем на скворечник. Четыре шага в длину, четыре в ширину.
Отец любил читать. Читал он с трудом, медленно шевеля шершавыми губами, на лбу собирал глубокие изогнутые складки и всё время удивлённо двигал бровями. Чаще всего он читал одну и ту же книгу, по серой обложке шли белые буквы, из них складывалось слово: Лесков. Отложив книгу, отец говорил:
– Натурально.
После смерти отца Раиса всё хотела прочитать эту книгу, но однажды увидела, что мать заклеивает листками из неё зимние рамы. Она взяла с полки над дверью другую, запылённую, читала её целую неделю. И потом всё снились ей алые паруса: они летели не над бирюзовыми волнами, а двигались над степью, от светлых берёзовых перелесков, прямо к их домику-скворечнику. Просыпаясь до рассвета, она лежала с закрытыми глазами, хотелось продлить сон, увидеть сказочно доброго принца, который увёз бы её далеко-далеко, в неизведанное.
Но наступал день: она стояла с жёлтым флажком, поднятым в руке, сжимала его закоченевшими красными пальцами, а мимо всё громыхали тяжёлые составы с танками, закрытыми серым брезентом, с пушками, вытянувшими тупые хоботы. У Раисы, в такт стуку колёс, под ногами тяжело ходила земля. Иногда поезда везли только людей. Из распахнутых дверей теплушек неслись к хвосту состава голубые струи самосада, на Раису смотрели ребята – все, как один, солдаты. Она не могла разглядеть их: поезда шли быстро, все солдаты казались ей рослыми, похожими друг на друга, со смазанными скоростью лицами. Они ей что-то кричали, смеялись, махали руками. Тяжело прогромыхав на стрелке, поезд уходил, скрывался за степью, там, где спускалось солнце. И только ногами она продолжала чувствовать подрагивание земли, да едкий запах самосада всё ещё стоял в воздухе, смешиваясь с приторно-жирным запахом смазочного масла, окропившего шпалы.
Раиса свёртывала флажок и медленно, продолжая глядеть в степь, шла в будку.
Зимой умерла мать, и алые паруса перестали сниться. Чтобы не было страшно одной по ночам, Раиса подкидывала угля в печь, перебирала тощую стопку книг на полке, читала, слушала, как шальной ветер свистит в степи, упруго наваливается на домик, старается опрокинуть его, воет в трубе. Она глядела на ходики, прибавляла фитиль в фонаре и выходила в чёрную степь, навстречу ветру. Он так и стремился выхлестать ей глаза жёстким снегом, забить рот колючей ледяной крупой. Раиса сжимала губы и, щурясь под насунутой на брови отцовской шапкой, шла на дежурство, потом смотрела на приближающийся из ночи поезд, подняв над головой качающийся под ветром фонарь.
Летом степь стала покрываться цветами. Они подступали к самой насыпи от ближайшего леска, будто бежали к Раисе. Снежно-золотые ромашки, голубые и синие васильки, колокольчики. У насыпи выкинул кирпичные метёлки конский щавель, распустился кипрей.
Раиса убирала с насыпи накопившийся за зиму мусор, выкладывала из выбеленных известкой камешков слова: «Смерть немецким оккупантам», «Вперёд на запад!» – и всё провожала торопливые поезда.
Однажды она чистила скребком между рельсами, подняла голову и от неожиданности резко распрямилась. На неё в упор смотрел парень. Такой же, как те многие тысячи, что мчались мимо разъезда, толпясь в дверях теплушек. Парень был крепкий, с короткой шеей и дерзкими светлыми глазами. Из-под смятой пилотки выглядывали прилипшие ко лбу светлые волосы.
– Василиса Прекрасная, здравствуйте, – солдат приложил к пилотке руку.
Она отступила на шаг и, поправив на шее косынку, сказала:
– Я вовсе не Василиса, а Раиса.
– Ну, это всё равно, – он улыбнулся, прищурив глаза, хороня под белёсыми ресницами озорные искорки. – Будем знакомы, – и протянул руку.
Её рука потонула в его широкой короткопалой ладони.
Она взглянула ему в лицо пристальнее. Круглые щёки, переносица у парня были конопатые, а шея – красная от загара.
Его звали Филиппом. У Раисы дрогнули губы. Заметив это, он спросил:
– Не нравится имя?
– Почему же? Имя как имя. Старинное такое.
Они поговорили о чём-то незначительном, она потом даже и не могла вспомнить, о чём тогда говорили. Филипп торопился, на прощание спросил – можно ли прийти когда-нибудь? Раиса посмотрела в его дерзкие глаза, подумала, что он спрашивает так из приличия и, если захочет, то всё равно придёт, независимо от её ответа. Она повела плечом, сказала неопределённо:
– А мне-то что?
Несколько дней солдат нет-нет да и приходил ей на ум. Она занималась своими делами и ловила себя на мысли, что думает о нём. Филипп не появлялся больше недели, она стала уже забывать о нём – и он пришёл.
Она только сменилась с дежурства, чистила картошку. Он неслышно вошёл за её спиной в открытую дверь, поздоровался. Раиса звякнула ножом о кастрюлю, отложила недочищенную картофелину, повернулась и молча уставилась на солдата.
– Не ждали, вижу? – Филипп снял пилотку, пригладил ладонью крохотный светлый чубчик, вытер рукавом лоб и улыбнулся.
– Вот только вырвался. Бегом бежал.
– Какая нужда? – опустила глаза Раиса, чувствуя, как у неё начали гореть щёки.
Она даже не заметила, как нож очутился у него в руках, и он стал ловко чистить картошку. Кожура вилась тоненькими колечками, будто стружка из-под рубанка. Филипп не глядел на неё, он всё время смотрел на Раису, да изредка кидал взгляд на ходики. Потом сел на табурет, закурил. Пока он курил, она стояла у стола, молчала, слушала. Он успел рассказать, что вырос в тайге, был промысловиком, перед войной работал в леспромхозе. Родни – одна тётка. Сейчас их часть строит объект на железной дороге. Раиса посмотрела в его глаза, и они показались ей совсем не дерзкими и будто давно знакомыми.
Филипп свернул за последний длинный барак, а она всё стояла в раскрытых дверях, развязывала и завязывала в узел концы косынки.
Ночью она увидела опять сказочный корабль с яркими, как пламя, парусами. На палубе, покрытой коврами – такими красивыми, каких она и не видела в жизни, – стоял Филипп, улыбался ей, приложив руку к пилотке. Она поспешно свёрнула флажок, побежала за кораблём, но он летел так быстро, не касаясь земли, над травами, над цветами, что она никак не могла успеть за ним… Сказочный корабль уносился всё дальше и дальше, туда, за степь, куда уходили тяжёлые составы и опускалось солнце… Высокая трава цеплялась за ноги, хлестала по коленям, Раиса рванулась из последних сил, упала, прижалась щекой к горячей земле, заплакала…
«Наверное, с ним что-нибудь случилось», – подумала она, проснувшись, провела рукой по влажным глазам.
Но вечером Филипп пришёл. Времени у него было в обрез, и, чтобы подольше поговорить, Раиса пошла проводить его. Она ушла далеко от разъезда, и когда возвращалась, было уже совсем темно, было страшно одной в степи. Зимой отсюда по ночам часто долетал заунывный вой. Хотя летом не слышно было волков, она оглядывалась время от времени и убыстряла шаг.
Она думала – почему Филипп опять подал ей руку на прощанье, а не поцеловал? Она ещё ни с кем не целовалась, но слышала от подруг и читала, что, прощаясь, парни целуются. Она боялась этого, шагая рядом с Филиппом, не зная ещё, что сделает, если он станет целовать её. Но он только сжал ей руку – сильно так сжал, – сказал, что придёт, потом высек огонь кресалом, прикурил, постоял молча и торопливо пошёл своей особой увалистой, но бесшумной походкой таёжника.
Филипп ничего не рассказывал о своей службе, но из того, что она слышала, – знала: у Филиппа свободного времени почти не бывает. И всё же, хотя бы раз в неделю он урывал полчаса, другой раз – час, и приходил к ней. Теперь Раиса ждала его, сидела на пороге в открытой двери, рассеянно читала, смотрелась в продолговатое пожелтевшее зеркальце (отец пользовался им, когда брился), поправляла на плечах отглаженную косынку, опять смотрелась в зеркало, критически разглядывала своё тонкое, с широко расставленными глазами лицо и думала, что если бы глаза были чёрными, под цвет волос, то было бы лучше. Говорят, в городе женщины в войну стали красить волосы, и темноволосые делаются блондинками, но глаза ведь не перекрасишь.
Филипп не был долго. Он пришёл неожиданно поздно. Раиса уже спала. Он легонько стукнул в окно, но она сразу же услышала, вскочила и, не спрашивая, открыла дверь. Увидев её в дверях, Филипп в нерешительности остановился.
Она ойкнула, побежала надеть платье, потом сказала:
– Всё время ждала тебя, а сегодня уж и не надеялась…
Филипп сказал, что отдал дневальному махорку за целую неделю, и тот его не выдаст.
– Как же ты будешь без табаку? – спросила она.
– Перебьюсь, – усмехнулся Филипп.
Она сидела на кровати, укутав плечи тонким старым одеялом, прижимала кулаки к подбородку, смотрела в глаза Филиппа и слышала под рукой стук своего сердца. Он взял её за руку.
– Особая ты какая-то. Необыкновенная.
– Ой, – махнула она рукой, – что ты, Филипп. Я совсем дурочка. Я ничего не знаю, нигде не была. Даже тайги не видела.
– Дай только война кончится – увидишь тайгу…
Она рассказывала ему про отца и мать, про то, как жутко ей было первые месяцы одной, как хотела она уйти с дороги в город.
– Больно у нас тоскливо. Подруги-то кто где, поразъезжались. Ребята в армии да на заводах. Раньше на станцию в клуб ходили, теперь была там за справкой, когда мама умерла, – из клуба склад сделали, солдат с ружьём ходит.
– Не езди никуда, война не сто лет будет, – сказал Филипп.
В окно стал прокрадываться рассвет, Раиса пошла проводить Филиппа. У дверей он взял её за плечи и поцеловал. Крепко-крепко.
Она ждала этого поцелуя. Давно думала о нём и представляла, как это будет. Но она неправильно представляла. Просто не знала, как представить. Губы у него были тугие, шершаво-обветренные и всё же нежные. Осторожные. Она закрыла глаза, чувствуя, как её всю охватывает радостный страх, горячей волной бежит от лица и расслабляет ноги. Она не устояла бы, да Филипп крепко держал её за плечи. Он откинул голову, сказал:
– Боязно мне за тебя… В худое время мы встретились. В тяжёлое.
– Но не будь войны – мы и не увиделись бы… – Она поправила ему пилотку.
Филипп тряхнул головой, сказал, что всё равно нашёл бы её, потом прижал опять Раису к груди, но тут же быстро отстранился, только плотнее сжал губы и шагнул за порог.
Она так и не легла спать. Сидела на койке, прижимая колени к подбородку, смотрела в высветленное окно, и всё стояли перед ней глаза Филиппа – такие ласковые, добрые, глубокие, как родник, – и от этого на сердце было радостно, будто лучами его тёплыми согревали, а колотилось оно тревожно.
Она успокаивала себя, пыталась унять эту непонятную тревогу и не могла. «Неужели всё будет так, как говорил Филипп? Неужели она счастливая?»
Три месяца пролетели, как три дня. И всё это время Раиса жила в каком-то радостном, возбуждённом состоянии. Просыпаясь на рассвете, она торопливо одевалась и, если не дежурила с утра, то начинала тщательно убирать своё неказистое жильё, скоблила до яичной желтизны некрашеные сосновые половицы, подбеливала печку, старательно и долго заправляла узкую железную койку.
С полки она достала несколько пожелтевших журналов, ещё до войны полученных отцом, вырезала из них цветные репродукции, где были изображены дремучие дебри, реки с лесистыми крутыми берегами, наклеила на стены. Пусть Филипп, забежав на несколько минут, почувствует себя уютно, по-домашнему, порадуется, увидев – хоть на картинках – родную тайгу.
Раисе казалось, что не сегодня-завтра случится что-то необыкновенное, не будет больше одиночества, смутных дум и надежд, которые не сбываются, – всё станет просто, ясно и ярко, как луг в цветах, залитый солнцем.
Однажды она спросила Филиппа, не жениться ли им?
Филипп долго, с каким-то восторгом смотрел на неё, молчал. Не в силах сдержать улыбку. Потом нахмурился, потер пальцами горло, видно, ему трудно было дышать, сказал:
– Нельзя. Может, на фронт придётся? А если дитё? Куда ты одна?
Она видела, как трудно ему говорить, будто он себя борол, хотела возразить, что она не страшится ничего, верит в их счастье, но не посмела, как-то застеснялась. Хорошо ли это ей, девушке? Филипп ведь парень. Самостоятельный давно, лучше знает жизнь…
Поезда громыхали на стрелке, она стояла с флажком, смотрела на солдат, весело кричавших ей из дверей теплушек, и в сердце закрадывалась жалость к ним: всякий раз теперь ей было даже неловко – вот идут эшелоны, мчат на запад молодых ребят, а по ним где-то горюют невесты и матери, а она – одна счастливая: вот, Филипп служит рядом, и, наверное, они всё-таки поженятся. Ведь немца уже остановили – значит, войне недолго быть.
Всякий раз Филипп приносил что-нибудь с собой. То несколько кусочков рафинада, то два-три солдатских сухаря, твёрдых, как подошва, а однажды даже поставил на стол банку свиной тушёнки.
– Зачем это ты, Филипп? Ведь от себя отрываешь, – запротестовала Раиса. – Нас, железнодорожников, и так снабжают не в пример другим. Интендант ты, что ли?
– Гостинец, – улыбнулся Филипп стеснительно. – Курить ведь совсем бросил. Выменял. Ешь, то вон ты какая худенькая у меня.
Раиса почувствовала, как у неё комок подступил к горлу от его последних слов. Прижалась щекой к его белой от солнца гимнастёрке, хотела сделать что-нибудь приятное Филиппу, доброе, но не знала, что может она сделать. «Сына тебе после войны рожу», – чуть не сказала она, но только зажмурилась, потом погладила его по тугой щеке, проговорила перехватившимся вдруг, как после сна, голосом:
– Сними гимнастёрку, воротничок пришью свежий. Семь штук вчера сшила.
– Пташка ты степная, трудно тебе будет жить без меня…
– А я буду всегда с тобой, и ты при мне будешь. Всегда…
Они отошли далеко от разъезда. Вечерело. Над головой опрокинулся бездонный свод сумеречного неба, и только на западе оно было зеленовато-палевым, светлея книзу, а над самой землёй, где тёмной чертой заканчивалась степь, небо горело, будто край его там, за горизонтом, пропитался кровью, и, постепенно набухая, этот рубиновый цвет вбирал в себя все другие оттенки неба.
– Ветер будет. Погода сменится, – сказал Филипп. Одной рукой он сжал ладонь Раисы, другой обнял её за плечи, и так они шли молча на багряный, догорающий закат, не глядя под ноги, ступая на цветы и травы.
Филипп хотел прийти следующим вечером. Не пришёл. Раиса ждала его допоздна, прислушивалась к шуму дождя за окном, к далёким ударам грома.
Тучи натянуло с полдня, погода и впрямь изменилась. «Помешал дождь Филиппу», – думала она, хотя где-то подсознательно знала, что дождь не мог помешать ему, но старалась заглушить это чувство и убедить себя, что это так. Не пришёл Филипп и на следующий день, а день, да и вечер, были тёплыми, ласковыми. Раиса знала, что солдат сам себе не хозяин, и если Филипп не пришёл – значит, не мог, но он прилетит на крыльях, лишь бы ему выпала свободная минутка, – в этом она не могла сомневаться, и всё же неясная тревога мутила её сердце.
Прошла неделя, и если бы не работа, Раиса, наверное, извелась бы в ожидании. Ночью она несколько раз просыпалась, прислушивалась – не скрипнет ли гравий под лёгким знакомым шагом, не постучит ли Филипп чуть слышно, одним ногтем в стекло, – но всё было тихо, слышно лишь, как кричала в степи перепёлка да изредка, сотрясая землю и её маленький домик, проносились тяжеловесные составы. Раиса смотрела на часы и торопливо собиралась на дежурство.
На другую неделю Раиса с утра пошла к Филиппу. Часть его где-то в нескольких километрах от станции прокладывала ветку. Погода была прохладная, Раиса надела старенькую полушерстяную кофту, которую отец покупал ей за год до войны, после того как она окончила семилетку. Ей надо было восьмой кончать, да год пришлось пропустить. Она повязалась шёлковой зелёной косынкой в горошек. Эта косынка нравилась Филиппу: правда, он не говорил об этом никогда, но она знала – видела, как он по-особенному глядел на неё в этой косынке, как улыбался, а однажды даже взял косынку в руки.
После дождя узкая тропка возле насыпи размокла, в рыжей глине блестели бездонные лужицы: казалось, ступи в них по оплошности – и провалишься вглубь, к облакам, которые плавали далеко-далеко внизу, на самом дне.
На станции, за семафором, Раиса увидела линию, убегающую в сторону, к дальним берёзовым колкам. Пошла по шпалам. Рельсы двумя полосами уныло тянулись с боков, ещё не обкатанные колёсами, буро-красные от ржавчины. Шла она долго, оскальзываясь между шпалами, удивляясь, как это Филипп урывает время ходить на разъезд в такую даль. Она не знала, что Филипп никогда не ходил через станцию; простившись с ней, он шёл напрямую через степь, сокращая расстояние и минуя патрулей, которые могли встретиться на станции. Наконец, за поворотом, возле леска, она увидела длинные бараки – видимо, это были казармы, и в одной из них жил Филипп. Раиса ускорила шаг.
В стороне, возле насыпи, лежали штабеля шпал, рельсы, стояли какие-то щиты, работал рельсоукладчик, взад-вперёд ползал трактор. Несмотря на прохладный день, некоторые солдаты, возившиеся около рельсоукладчика, были без гимнастёрок, в одних майках. Ещё издали Раиса вглядывалась в их загорелые лица, но ни один из них не походил на Филиппа. Она направилась к трактору, который был ближе и теперь полз в её сторону, волоча по земле огромные сани.
Тут из-за горы щитов, наваленных прямо на рельсы, выступил солдат с ружьём в руке. Он остановил Раису негромким окриком:
– Сюда нельзя, – сказал часовой, с интересом разглядывая её с ног до головы.
Раиса от неожиданности растерялась, не зная, что делать, посмотрела на свои синие брезентовые тапочки, облепленные мокрой рыжей глиной, затянула косынку под подбородком и, собравшись с духом, сказала:
– Мне бы Филиппа повидать надо. Кедрова Филиппа, – и уточнила: – Он тоже солдат, здесь служит.
Часовой почесал за оттопыренным ухом, заулыбался:
– Кедрова, значит, Филю, солдата?
Раиса обрадованно кивнула.
– А я думал – генерала, – часовой ещё шире растянул рот. – Он, что же, родственником вам доводится? Али как?..
– Да. Нет… в общем, он знакомый мой.
– Жених! Вот оно что! – солдат сделался серьёзным и, понижая голос, доверительно заговорил: – Вот что, красотка. Изменил он тебе. С другой у него эти самые фенти-менти получились. А ты не кручинься, я вот через час сменюсь – мы и познакомимся. Я, брат, не такой, как этот твой Филипп. Ох, приголублю…
Раиса отодвинулась от часового, усмехнулась:
– Не балабонь. Говори толком: знаешь Филиппа? Что с ним?
Сзади послышались шаги. Раиса оглянулась. Подошёл пожилой офицер в линялой гимнастёрке.
– В чём дело? – спросил он.
Часовой сразу вытянулся, сделал сердитое лицо и, уже не глядя на Раису, объяснил:
– Задержана неизвестная, товарищ младший лейтенант, – передохнул, двигая острым кадыком, добавил, скосив глаза на Раису: – Ходют тут всякие каждый день. Женихов ищут. Одна канитель с ними.
– Мне Филиппа Кедрова… Он здесь служит, – шагнула Раиса к младшему лейтенанту.
Тот посмотрел на неё, помолчал, видимо припоминая. Тут вмешался солдат, выдвинулся вперёд:
– Нету в нашей роте такого, товарищ младший лейтенант. В соседней, может…
Лейтенант неодобрительно глянул на него, велел заниматься своим делом. Раисе сказал, что в расположении части гражданским ходить нельзя, Кедрова он не слышал, но справится. Спросил, что передать.
Так и ушла Раиса ни с чем.
Шёл десятый день с последней встречи. Раиса поняла – что-то случилось. Оставалось одно – ждать.
Однажды на разъезде затормозила дрезина, с неё соскочил приземистый курносый солдат, направился к Раисе.
– Дай водицы испить, красавица, – попросил он, одёргивая короткую гимнастёрку в тёмных маслянистых пятнах.
За ним подошёл ещё один.
Раиса принесла ковшик воды. Курносый жадно пил, сладко чмокая обветренными губами, косил карим прижмуренным глазом на Раису.
– Вы за станцией работаете? – спросила она.
Солдат, не отрываясь от ковшика, утвердительно кивнул.
Другой, хмурый, с лычкой на погоне, отогнал рукой дым от цигарки:
– Военная тайна…
– Филиппа Кедрова не знаете? – повернулась к нему Раиса.
Курносый оторвался от ковшика, протянул его товарищу, крякнул:
– Эх! И водица у тебя студёная! Аж сердце обкатывает, что твоя брага хмельная. Будем теперь каждый раз к тебе пить приезжать, – он подмигнул, хотел обнять Раису. Она отстранилась. Солдат весело захохотал. – А Филиппа, между прочим, мы знаем. Значит, к тебе он и гуливал? По такой красотке затоскуешь…
Раиса взяла пустой ковшик у хмурого солдата, стояла, как заворожённая, боясь спросить, что же с ним, с Филиппом.
Курносый опять подмигнул ей и пошёл за хмурым – тот уже забрался в кабинку дрезины.
Раиса даже привстала на цыпочки, крикнула:
– Что же с Филиппом?!
– Туда укатил, – махнул солдат за степь. – В самоволку любил ходить, а начальству это не нравится.
Дрезина загудела и тронулась с места, набирая скорость.
Должно быть, курносый не шутил. Прошёл месяц, как Филипп ушёл от неё в последний раз. Раисе хотелось увидеть того курносого солдата, расспросить подробнее, и она каждый день караулила дрезину, но шли всё тяжёлые составы, а навстречу им – поезда с красными крестами на вагонах. Лишь однажды, после дежурства, она услышала слабый стук колёс, выскочила из дома, побежала к путям. Не успела. Дрезина на большой скорости пролетела разъезд. Был ли на ней знакомый солдат – Раиса не разглядела.
Погода совсем стала портиться. С запада потянуло ветром. А раз ветер с запада – быть дождю: недаром покойная мать называла его «гнилой угол». И верно: медленно наползли тучи, сея на поля мелкий и холодный дождь – сеногной. Совсем осенью запахло. На дежурство приходилось надевать шинель.
Раиса, подняв воротник, стояла с флажком, глядела на обшарпанные красные теплушки, что бежали мимо за торопливыми паровозами, и удивлялась – куда же столько людей везут? Ведь каждый день мчат их тысячи, и всё, видно, мало там. Ведь их там целое море людское должно уже быть, и всё пополняют его, пополняют, а наполнить, видно, не могут. Откуда же берут их, парней-то этих, ведь не в поле же они растут?
И Филипп её где-то там, в этом море необъятном, затерялся – как песчинка в воду канул, а где, в каком месте – неизвестно.
Как-то вечером Раиса растопила печку, шинель повесила сушить возле трубы, открыла дверку, согревая иззябшие руки. Думала, что надо было сходить ещё в часть, отыскать самого главного командира и разузнать, куда же подевали её Филиппа. А теперь, говорят, часть отработалась и снялась куда-то. Оставалось ждать письма. Филипп обязательно напишет.
За оконцем совсем стемнело, Раиса огня не зажигала – керосин экономила. Пришла Марья из крайнего барака, жена обходчика, оставила галоши у порога, села рядом.
– Всё печалишься, касатка? Вот и прописал твой солдатик… держи-ка вот. От него, стало быть, – заглянула в лицо Раисе и протянула конвертик треугольный.
Раиса даже не поверила её словам сперва. Потом схватилась за письмо и, боясь повредить его дрожащими пальцами, стала разворачивать. Отсветы огня плясали по бумаге, и буквы прыгали у неё перед глазами, никак не собираясь в слова. Она ближе пододвинулась к дверке, но не могла уловить смысла – поняла только, что Филипп живой.
– Чего ж ты огня-то не засветишь? – сказала Марья. Наклонилась, читала письмо из-за плеча, поводила острым носиком. – Вишь, проштрафился он. Значит, на фронт услали. А ведь как тут гоже было. Часть-то аньжинерская была – так всю войну бы и прокатал по железке. А вот они завсегда так, мужики-та: одних выпивка, других, значица, женский пол губит, – заключила Марья.
Она села напротив, глядела на Раису участливыми глазами. – Мы-то всё говорили с мужиком: добегается этот солдат до Райки. И вот, впрямь добегался… Гляжу я – не видать его, и не видать…
Раиса спрятала письмо на груди – понимая, что при Марье не уловить всего смысла. Одной надо перечитать. Она подкинула дров в печку, начала лампу заправлять. Марья посидела, поговорила ещё, надела галоши. В дверях оглянулась, опять сказала участливо:
– И не печалься, касатка. Разве такие сокола есть? Э-э, вот погоди…
Филипп сообщал, что дневальный, на которого он надеялся, оказался паскудником, выдал его – «за тыл держался», и Филипп просидел двадцать суток на гауптвахте, а потом отправили его на фронт. Был он уже и в бою, и скоро опять пойдут вперёд. «Живём мы хорошо,– писал он,– как и все на фронте. Беспокоюсь только о тебе, что ты там одна». В конце письма просил её не уезжать никуда, обещал сразу после войны вернуться, да сожалел, что нет у него сына – сильно сожалел, два раза прописал об этом.