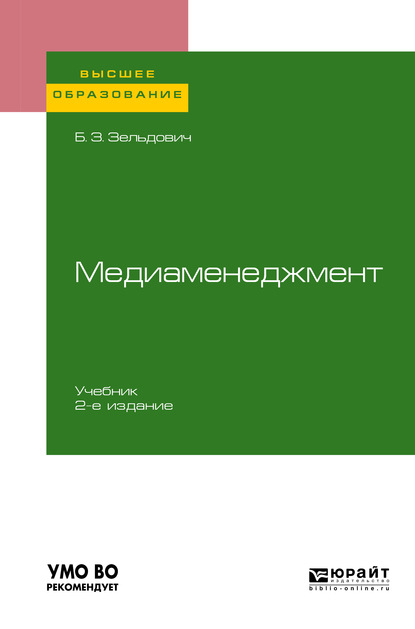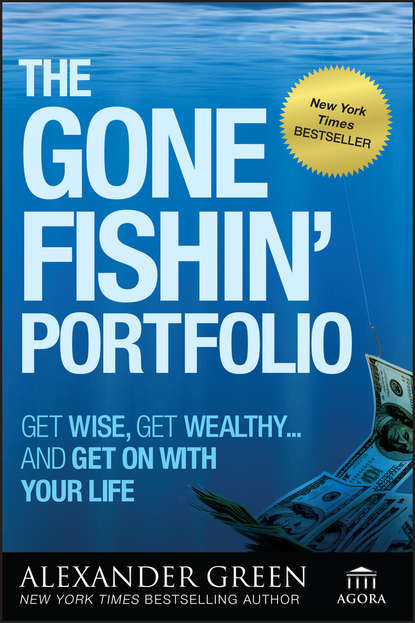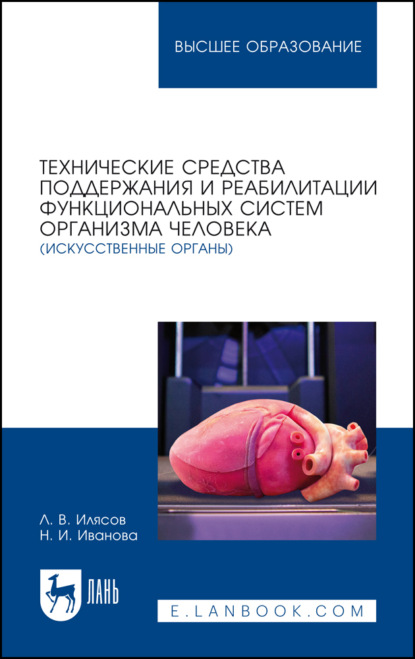Радуга на сердце

- -
- 100%
- +
– Пап…
Санька улыбнулся, протянув руку дочери. Ладошка с тонким серебряным колечком потянулась навстречу. Выходишь замуж… Спешишь – хотя, может, так и нужно.
– Будет подарок тебе на свадьбу, – добавил Санька.
Катька тихонько вздохнула.
– Как вы быстро сдались… Без боя, – она дёрнула плечом. – Уже все разговоры только о свадьбе.
– А я должен отговаривать?
Санька был искренне удивлён. Вот непутёвая семья, всё не как у людей. Иным на мозги капают и в ЗАГС на аркане тащат, а тут претензии, что родители согласны. Но какая-то заноза в словах дочери тревожила.
Катька отстранённо рассматривала содержимое кружки. Ладно, дочка, мы оба знаем, что это лишь мимикрия под мамину невозмутимость. Потому что ты в меня. И просто выжигаешь себя изнутри, когда никто не может видеть твоего лица. А мне остаётся или ждать, пока тебя прорвёт, или взорвать эту плотину самому. Взорвать. Чёрт дери, почему меня сегодня преследует это слово?..
– А ты вообще Сергея любишь?
Осколки бетона самообладания. Пламя душевного пожара. Паника озвученных вслух мыслей. И внезапный ответный удар.
– А ты маму любишь?
Симметрия, значит.
– Если не получается сразу сказать «да», это уже скорее «нет», – философски заметил Санька. – Рассказывай, что у вас стряслось.
– Это не у нас стряслось, а у вас! – вспыхнула дочь. – Мать пришла вчера в полном расстройстве, сначала рвала-метала, потом в слёзы… Кучу таблеток выпила. Только-только успокоилась – ко мне пристала не на шутку. Всё о свадьбе. Чуть ли не сию минуту собирайся и поедем платье выбирать, ресторан заказывать, назначать дату… И всё на ближайший месяц!
Месяц… Значит, меня всё-таки увольняют. Это раз. Вопрос «на что мы будем жить» тоже встаёт во весь рост. Это два. И, похоже, меня подозревают во всех смертных грехах. Это три.
– Задавай вопросы, – устало ответил Санька. – На что смогу, отвечу.
– Почему мама вчера плакала?
«А чёрт ее знает… Может, совесть вышла из анабиоза…»
– Я думаю, из-за проблем на работе. Но лучше у неё уточнить.
– У неё уточнишь, – протянула Катька, хмуро глянув на отца.
Ты всегда учил меня, что лишь зная половину ответа, можно задать верный вопрос. А у меня в голове ни единой мысли, что такого могло стрястись в Рускосмосе, чтобы эталон Непробиваемых Нервов скатился в истерику. Если только не…
– Её увольняют?
Санька поперхнулся кофе. Хакер вырос, блин, только всё равно выстрел в молоко. Зато можно не лгать.
– Она мне ничего не говорила, – выдавил Санька, едва прокашлявшись.
Один взгляд на Катьку, брошенный поверх края кружки, сказал ему больше, чем все слова до этого. Можно начинать обратный отсчёт.
Три.
Два.
– Ты вчера был у любовницы, отец?
Финиш. Нормальный «отец» или поднял бы хай, или влепил бы оплеуху за дерзость, или… Что ж, дочка, поиграй с огнём. Не обожгись только, не подпали крылья.
– Ты угадала, – Санька с улыбкой откинулся на стуле, наслаждаясь Катькиным шоком, лишь потемневшие глаза подвели его. – Только не с любовницей. Мой сокурсник, гениальный программист с тонкими чуткими пальцами… Я бредил им все пять лет учёбы, и вот, вчера, двадцать лет спустя, дождался этой ночи…
Катька расхохоталась. Вот так всегда. Человек скорее поверит виртуозно сочинённой лжи, чем нелепейшей правде. Но, боги Сети, почему мне ни капельки не смешно, словно высказанная вслух мысль не является откровенным враньём? Нет, Александр Валько. Хватит этих игр со значеньями слов. Есть Ангелина Павловна и Линь. А Кирилл Заневский в этом ряду не может появиться по определению.
– Пошутили, и хватит, – Санька грохнул чашкой об стол. – Мать на работу ушла, так?
Дочь кивнула.
И грозовая туча развеялась как-то сама собой. Вскоре Катька усвистела из дома с загадочным видом и невнятным лепетом про дополнительные занятия, а Санька, не став уточнять, для какого преподавателя надо было полчаса торчать перед зеркалом в коридоре, занял кухню.
Краски были разложены строго по палитре от пурпурного до сажи газовой, кисти – от широкой лопаты «двадцатки» до тончайшего волоска «пяти нулей», девственно чистый холст только и ждал взрыва цвета. Санька замер на миг, вытаскивая из памяти утренний портрет дочери, и в который раз поразился тому, как быстро в его сознании новый день затирает предыдущие. Вчера его де-факто выгнала с работы собственная жена. Вчера Линь лечила сигаретой сердце. Вчера Кирька загнал его в угол в прямом и переносном смысле, по-админски перехватив управление беседой… А сегодня солнце, Катька и холст. «Если б не умел выныривать из прошлого, давно бы уже свихнулся», – подумал Санька, приступая к работе. Вот так, в нарушение всех привычек, без эскиза и кучи вспомогательных линий углём. Иногда жизнь столь чётко раскладывается на мазки кисти, что служит и натурой, и эскизом.
Это было состоянием потока. Ни одной лишней мысли в голове. Весь мир остался за тонкой гранью грунтованной льняной ткани.
Каждый завиток каштановых волос – комбинация жжёной умбры и английской красной, сверху солнечный блик охры и неаполитанской жёлтой, и акцент из тёмно-коричневого Марса.
Каждая искорка в небесной радужке – нотка церулеума в буйной смеси титановых белил, синего кобальта и бирюзы.
И той тончайшей кистью с немыслимым количеством нулей на маркировке очертить кармином арбалетный силуэт верхней губы…
Накладывая последние штрихи, Санька уже знал, что сделает дальше. Полчаса, чтобы отмыть себя и стол – и с картиной в охапку на выход, в галерею к Анискину. Да, не по правилам. Но все эти устои художественного академизма, будто надо быть недовольным своей работой, надо дать картине «отстояться», чтобы потом свежим глазом заметить недостатки, – не для него. Особенно сейчас, когда Катька щурится с портрета, как живая, и вот-вот её губы тронет милая, почти детская улыбка. Саньке хотелось поделиться этим чудом хоть с кем-нибудь – нет, ни в коем случае не отдавать насовсем, а просто показать… И господин Анискин, владелец художественной галереи в Пассаже на Невском, был лучшей кандидатурой.
С Анискиным Санька познакомился случайно: возвращаясь из московской командировки, заплутал в переходах метро, упустил свой супердешёвый трёхэтажный поезд, и боковая койка у туалета благополучно уехала в Петербург пустой. Но возвращаться во второпрестольную было как-то надо, и Санька за свои деньги забрался в «Гранд-Экспресс». Уютное двухместное купе в алых тонах, постель круче, чем дома, и… Анискин в соседях. Тогда Санька и не знал, что вместе с ним едет владелец одной из известнейших галерей Петербурга. Да он и помыслить не мог, что этот монумент в сто пятьдесят килограмм и под два метра ростом может разбираться в искусстве. Но Анискин разбирался. Слово за слово, Санька достал смартфон, показал фотки своих первых работ – тогда он только-только перешёл от акварели к холсту и акрилу, ибо на масло как не было денег, так нет и поныне, – и какой-то хищный огонёк мелькнул в глазах попутчика,. Они проговорили об искусстве полночи и, довольные друг другом, попрощались на платформе Ладожского вокзала. А через месяц Саньке пришло письмо с приглашением поучаствовать в выставке «Город будущего» в галерее того самого Анискина. С тех пор все творения отвозились на его суд, а на втором этаже галереи уже навсегда прижилась картина с той выставки – небольшое полотно с ясным утром и сверкающими башнями московского Делового центра. Того места, где Санька чувствовал себя не дома, но так, будто зашёл на огонёк к старому другу.
Полчаса в полупустом вагоне метро. Санька пристроил портрет дочери рядом с собой и нырнул в Сеть. Со вчерашнего утра ему не давала покоя книжка про Овердрайва. И если он в целом знал жизнь Кристиана Вебера по рассказам и байкам разной степени правдивости, то открывшийся вчера слой подтекста интриговал куда сильней. Санька вспомнил странные смешки однокурсников, когда в застольях с напитками погорячее заходила речь о последних десятилетиях жизни этого человека-легенды. «Дауншифтинг – так во всём», шутили они и сразу смущённо умолкали. Словно было в этом что-то такое, неприемлемое в обычном обществе.
Однако, сегодня книга выдавала исключительно официальную версию.
«В ноябре 2070 года Кристиан Вебер оставил пост главы компании „Div-in-E“, став ведущим разработчиком. Многие связывают это с нежеланием привлекать к себе внимание после истории с созданием эмулятора личности для метапространства, однако мы считаем, что столь радикальная смена образа жизни была продиктована личными причинами. Позже, в середине 71-го, Кристиан разводится с женой и переезжает на Ладогу, где живёт затворником чуть меньше двух лет. Примечательно, что с окончанием этого побега от цивилизации мы теряем и след Александра Рыкова. Могила его так и не была найдена, заключение о смерти тоже, в розыск на него не подавали. Вот уж когда можно вспомнить девиз Овердрайва „сегодня не кончится никогда“. Однако возвращается Кристиан Вебер не в Москву, а в Петербург…»
Поверх страницы всплыло сообщение от машиниста поезда. «Следующая станция – Электросила». Мысленно кивнуть, отпихнув синюю строчку в сторону, и вновь уставиться на виртуальный текст. Сим-сим, откройся. Ничего. Только сухой официоз. А, может, мне это вчера привиделось? Но тогда мои нервы были взвинчены Пароёрзовым, а сейчас я спокоен… Пока. Вспыхнуть ведь так легко.
Через пару минут Санька приложился затылком о стекло вагона и выдохнул сквозь стиснутые зубы. Вот это открытие – ты не можешь психануть, Валько. Внутри глубокий вакуум, хотя ты вспомнил и плачущую под лестницей Линь, и жену после тестирования, и даже пустил в ход тяжёлую артиллерию – школьный ад отличника с драками в сортире и надписью «лох» мелом на стуле. В голове вдруг всплыло:
«Здесь всё, что могло, отгорело, и только в висках
Застрявший осколок мечты в непогоду болит [11]».
Воистину так. Жаль, что не знаю автора, а то бы пришел к нему и пожал руку. Мы бы наверняка друг друга поняли.
Пассаж встретил Саньку привычным холодком светлого атриума. Взбежать по лестнице на второй этаж, нырнуть в мир багета и едва уловимого запаха масляных красок – что мне транскод, когда есть этот мир, где всё определяется твоим талантом, умением почувствовать свет и тень, найти правильное касание кисти…
Санька затормозил на том месте, которое обычно придавало ему ускорение.
Нет, зрение отработало на «ура».
Вот слева огромное полотно, на котором в необычной технике изображена ультрамариновая гладь воды с кувшинками. У автора много денег – почему бы не шикануть, и вместо привычного размазывания краски по холсту не выдавить прямо из тюбика титановых белил, обозначив этакой колбаской каждый лепесток?
Вот справа нереальный, а оттого ещё более захватывающий вид на седые волны ковыля, над которым всходит Сатурн, призрачно блестя своими кольцами. Здесь всё решено классически, но фактура настолько тонка, что картина почти неотличима от фотографии.
Вот центр стенной ниши, косой луч от диодов подсветки… Санька помотал головой. Здесь. Должна. Быть. Его. Картина. Но вместе Делового Центра висела, сверкая свежим золотом рамы, какая-то… Санька мысленно осёкся. Слово «мазня» считалось неполиткорректным в среде художников, а вот члены лётного клуба, где он состоял, нашли бы выражения и посильней. Но эта абстракция из всплесков серебра и десятка оттенков серого на пронзительном синем фоне, без формы и содержания, приковывала взгляд. Санька сделал шаг вперёд, чтобы рассмотреть фамилию автора на табличке в углу рамы, как вдруг в его имплантах взорвались ритмичные ударные и низкий, чуть искажённый голос:
Невозмутимый странник,
Не устрашённый адом.
Ты – человек без имени,
Мне страшно с тобою рядом [12].
Какого…
Шаг назад. Тишина. Ладно, проклятие интерактивного века, мы люди простые, издали посмотрим. Хотя кто вам, раздери коннект, дал право нарушить закон о неприкосновенности ментального пространства? Я понимаю, метрополитен, там ты заранее на всё согласен, едва ступив на эскалатор, но здесь…
Оставшийся путь до кабинета Анискина Санька прошел в глубокой сосредоточенности, пытаясь удержать в памяти фамилию автора этой цветокакофонии.
– Развильский, – с порога выплюнул Санька в лицо Анискину.
Анискин возвёл очи к потолку. А чего ждать от саламандры: вежливых формулировок и милой улыбки? Санька стоял в дверях, прижимая к сердцу портрет дочери. Да, мы ничем друг другу не обязаны, но…
– Присядь, Алекс, – взмахнул рукой Анискин, отведя взгляд. – Я всё объясню.
Алекс. Так меня зовёшь только ты, господин меценат, но я разрешил тебе это ещё в «Гранд-Экспрессе». Санька рухнул на стул в торце дубового стола, за которым восседал Анискин. Ярость медленно уступала место интересу. Таким Валько своего «куратора» ещё не видел – весь какой-то затюканный, дёрганый.
– Я хочу, чтобы ты понял одно, – начал Анискин, – я человек подневольный. Галерея уже давно существует не на мои средства, а на деньги спонсоров и самих художников.
Горький смех сорвался с его губ.
– Художники… От слова «худо», Алекс. Я уж и так стараюсь отбирать, что приличней. Но за каждое место на стене приходится платить. Они платят мне, я плачу арендодателю… Я ни разу не взял с тебя ни копейки за выставление твоих картин. Я считал и считаю, что они достойны зрителя. Но пару недель назад ко мне пришёл этот самый Развильский, – Анискин задумчиво покрутил в руках золотую перьевую ручку, – с десятком таких вот… э-э-э… полотен. И предложил идти в ногу со временем: искусство, мол, должно воздействовать на все чувства разом… Техническую часть в организации музыкального сопровождения он взял на себя, оставив на столе чек с астрономической суммой.
Санька тяжело вздохнул. А я, наивный, ещё верил, что хоть здесь не всё определяют деньги… Пора выныривать в реальность.
– Этот Развильский, – протянул Санька, потихоньку отпуская сжатую внутри пружину. – Что он из себя представляет?
– Богатей с Марса, – Анискин мотнул головой. – Бизнес у него там… Не знаю. Если ты как о художнике… Знаешь, что такое синестезия? Она встречается очень редко. Такие люди ощущают мир не так, как мы. Развильский, например, видит то, что слышит. Песню включил – и всё, картина готова.
– Круто, – усмехнулся Санька. – Чего только с людьми не случается от избытка денег… Ладно. А где моя картина? Почему ты снял именно мою, я уже понял. Не проплачена.
Анискин взглянул Саньке в глаза. Тот мог поклясться, что под веками мецената неумолимо поднимается девятый вал такой боли, какую может испытывать только человек с художественным вкусом, вынужденный отвешивать реверансы бездарности.
– Я не имел права повесить её здесь, в кабинете, – глухо проговорил Анискин. – Это против правил. Поэтому она в самом людном месте галереи.
Санька задумался. Самое людное… Так, на лестнице я её не видел. У буфета как чей-то парусник висел, так и висит. Где ещё? Саньку накрыло истерическим смехом. Он чуть не сполз с антикварного стула на не менее антикварный персидский ковер.
– Только не говори… что она… в туалете… висит, – выдавил Санька через спазм диафрагмы.
Ну и денек, а.
– По дороге туда, – подтвердил Анискин, и вдруг его прорвало. – Слушай, я сам не хочу, чтоб она там была! Это позор на мою голову. Давай так: или ты её заберёшь, или я её утащу к себе на дачу. Чёрт побери, Алекс, пусть с неё и начинается моя частная коллекция, которую я буду собирать исключительно на своих домашних квадратных метрах. Надоело это продажное безобразие. Сил моих нет больше.
– Тише, тише, – Санька чувствовал, как его нематериальная сущность церемонно кладёт на всё болт. – Забирай ради всех богов Сети. Что хочешь с ней делай. Я вот тебе дочку свою покажу напоследок и уйду. Вернусь, когда накоплю на мзду. Не хочу, чтоб ты за меня платил.
Санька развернул пергамент и положил портрет Катьки на стол. Анискин хрипло вдохнул. Молчание длилось целую вечность, но Санька знал, что критики не будет. Он и сам видел свои огрехи, брал их на заметку, но никогда не переделывал старое. Анискин же следовал правилу: прежде чем начать обсуждение работы, выясни, мотивирует автора критика или убивает. И если убивает, как Александра Валько, то лучше промолчи.
– Не отдашь? – уточнил Анискин, глядя, как Санька закрывает шуршащей бумагой девичье лицо, залитое солнечным светом.
– Нет, – Санька вздохнул. – Это ей. На свадьбу.
– О, – Анискин принял дежурно-поздравительный вид. – Скоро дедушкой будешь?
И уже по-деловому:
– Слушай, Алекс, я тебе и раньше предлагал… Предложу ещё раз. Последнее китайское. Приходи ко мне багетчиком. Руки золотые, пропадают зря…
«А, может, и приду», – подумал Санька, но промолчал. Крепкое рукопожатие и на выход. Здесь стало как-то душно в последнее время.
Затеряться в толпе на Невском Саньке не удалось. Уж слишком местным он выглядел в мешанине азиатских лиц. К нему то и дело подкатывали китайцы и корейцы. А ведь им даже все таблички в центре продублировали иероглифами, но толку? Санька смущённо пятился. С языками у него всегда было туго. Вот и задашься тут вопросом, в кого дочь стала лингвистом…
Кое-как выделив себе личное пространство в полном вагоне метро – солнце клонилось к закату, и тусовочная публика выбиралась из тёплых кроваток – Санька вновь открыл книжку про Кристиана Вебера. Ну что, «Молот Ведьм», открывай свою суть. Я достаточно разогрет Анискиным и своей картиной возле туалета. Сегодня я остался совсем один. Теряю друзей, как золотой песок, утекающий сквозь пальцы. Нет искренности, нет контакта, нет общих точек соприкосновения. Что у меня осталось? Жена, дочь, работа. Линь меня боится, Анискин вынужден отвернуться. Лётный клуб? Там уже наверняка забыли, как я выгляжу.
Одна лишь тишина. А что было у тебя, Овердрайв?..
Одиночная камера. Строгий режим тишины.
Второпрестольная производит дым и шумы
В твоем радиоэфире.
Каждый прожитый час – царапиной на руке,
Шрамом в памяти, ниткой у Пряхи в клубке,
Морзянкой вер-ни-те-е-го…
Одиночная камера одинокого тела.
Вместо сердца дыра навылет.
Вечность назад смеялось, вчера – пело,
Сегодня идёт «на вы»… Бред.
Бредит, бредит, бредит… Молчит.
В одиночной камере смертник
Для проклятий учит иврит.
Есть боль на порядок сильнее привычной —
Кричи-не-кричи-не…
Одиночная камера по запросу.
Дарит анабиоз, отправит к праотцам.
Смерть выходит на дело. Расплетает косы.
Тишина.
Репетиция твоего конца.
Глава 6
«Стенд этот получше фитнес-зала будет, – в который раз подумал Санька, привычно пройдясь взглядом по контрольным точкам: три монтажных стола, на которых ламповые кассеты лежат, как покойники, чёрная дыра недособранного усилителя над головой да розовые стёкла у стены, как портал в иное измерение. – А за занятия тебе ещё и доплачивают, пусть и гроши».
– Ребят, да чего вы с ключами мучаетесь? – голос из толпы прозвучал издёвкой в какофонии общего шума. – Лина руками затягивает, пока вы время теряете.
Линь подняла голову, пытаясь разглядеть говорящего. По её лицу было видно, что она одобряет содержание фразы, но не снисходительно-насмешливый тон. Под грозным взглядом девчонки биомасса работников выпихнула жертву на бруствер.
– Да я б и рада, – хмыкнула Линь, – только кто поверит, что у меня сил хватит?
– А ты сожми, сколько силы есть, – полез на рожон автор комментария, спиной ощущая чужие плечи и отсутствие пути к бегству.
Линь коротким движением перехватила проятнутый в её сторону мизинец и стиснула захват тонких пальцев. Секунда, две три… Санька затаил дыхание. О, светлая, представляю, как велико в тебе желание вырвать этот объект испытания из сустава…
Под всеобщий смех мужик освободил палец из захвата, а Линь, устало пожав плечом, вернулась к работе. Впрочем, через пару минут после импровизированного спектакля, в которое превращались почти все сборища из серии «Линь и семь гномов десяток мужиков из соседних лабораторий», девушка тихо смылась в неизвестном направлении.
Как там было у классиков? «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку? [13]»
Рассудив, что коли уж отдых – это смена занятий, то она почти на курорте, Линь выскользнула из пультовой, взяв курс на кабинет, где её ждала пара недоделанных отчётов, коим следовало помочь в скорейшем появлении на свет. И раз пальцы уже не слушаются её после сто первой пружинки, вручную согнутой из бериллиевой бронзы, следует выпустить их на загон клавиатуры.
Увы, в самом начале коридора Линь была поймана в цепкие объятия Пароёрзова.
– О, Ангелина, – окинув девушку оценивающим взглядом, словно кобылку в ярмарочный день, удовлетворённо кивнул он. – Вы девушка ответственная, лёгкая на ногу… К тому же, знаю, со своим средством передвижения. Пойдёмте, я дам вам документы и адрес, куда их нужно отвезти: понимаете, срочно, сегодня, до четырёх…
«Интересно, к каким чертям на рога он успеет меня отправить, если сейчас уже два часа?» – раздражённо подумала девушка.
Черти, однако же, оказались не столь далеко, и маршрут Линь не ознаменовался ничем интересным, кроме небольшой пробки по поводу двух «поцеловавшихся» машин да автобуса, который отчаянно маневрировал, пытаясь всё это объехать.
Проезжая мимо водителей, один из которых хмуро названивал в страховую компанию, а другой размахивал руками, пытаясь компенсировать слабое знание русской речи, Линь услышала:
– Всё из-за такой, как вот она, не машина, не пешеход, нырь – и усвистеть, а мы из-за них по тормоз и сзади нам в бампер хрясь…
Линь поджала губы, радуясь, что непроницаемое стекло шлема не позволяет разглядеть её лица. Конечно, самый лёгкий способ жить – это, облажавшись самому, поскорее завопить о том, что виноват кто-то другой – государство, которое не чинит дороги, Луна в Козероге, а также те, кто по ним ездит, но никак не ты, купивший права за углом соседнего дома и уверенно путающий тормоз с газом.
А, неважно. В одном водила был прав: преимущество Линь действительно состояло в умении «нырь – и усвистеть». Вперёд по свободной трассе, не оглядываясь назад, рассекая воздушный поток надвое так, что за спиной появлялись два невидимых крыла – это больше, чем способ управлять мотоциклом. Это принцип жить несмотря ни на что, это умение встряхнуться, сбросив с перьев пыль и капли дождя, и вновь лететь навстречу солнцу.
Документы были успешно сданы в нужную контору к началу четвёртого часа, и путём нехитрых умозаключений Линь решила, что на стенд возвращаться нет смысла, тем более, что совсем недалеко начинается район, в котором прошло её детство, отрочество и юность.
Поймав себя на слове «юность», Линь хохотнула. За три последних года, что прошли под звездой семейной жизни, она не изменила ни причёску, ни стиль одежды – разве что волосы стали длиннее, а размер одежды, и так небольшой, откатился ещё на одну позицию назад, но отчего-то чужие дети, встреченные ею в автобусе или в очередях поликлиник, стали называть её «тётенькой» вместо «девушки».
А дети, как известно, не только цветы жизни, но и сверхпроводники Истины.
Припарковав мотоцикл у грязного бетонного забора, отделявшего территорию железнодорожного депо от заброшенного парка, Линь слезла с сиденья и устало опустилась на колени, а потом, поддавшись внезапному порыву, раскинула руки и упала спиной прямо в мягкую траву.
Сколько бы раз её не заносило сюда, в узкую полосу дикого леса, посаженного меж стальными линиями рельсов и асфальтовой рекой проспекта, здесь всегда было безлюдно, словно незримый гений закрыл это место силовым щитом, подарив право доступа лишь ей одной.
Минуту спустя над буйством ничейных трав поднялся лёгкий сигаретный дымок. Его создавала Линь, уставшая болтаться на гирях маятника работа-дом. Линь, окольцованная платиновым кругом принадлежности, дающей чувство опоры в обмен на хрусталь острых граней души, обломанных затем, чтобы о них не порезался тот, кто похитил её из золочёной клетки родительского дома. Линь, осознавшая, что оказалась не на свободе, а в новой клетке большей площади. А мимо неё бежала девочка-Линь, высоко вскидывая ноги и размахивая белым маминым шарфиком за спиной.
– Я птица, я умею летать! – захлёбываясь от радости дышать ветром и видеть синее небо, кричала Линь-шестилетка. – Правда же, правда! Вот, сейчас…
«Ну, лети, раз так», – решил старый кирпич, живущий на дороге, и подставил девчонке подножку.
Восхитительный полёт действительно начинается, обрываясь через жалкую секунду в придорожной канаве. Маленькая Линь тормозит ладонями и коленками, сдирая кожу до крови, и на её белоснежном платьице остаётся чёрный мазутный след.
– Засранка! – орёт рядом гневный голос матери, и сильная рука рывком ставит девочку на ноги, а потом задирает её подбородок вверх, чтобы Линь не смела опустить глаза. – Я тебе только вчера платье купила, не доедала весь месяц, чтоб накопить, а ты, тварь маленькая, вот как чужие старания ценишь… А ну домой, быстро, и будешь сидеть в комнате, пока не поумнеешь…