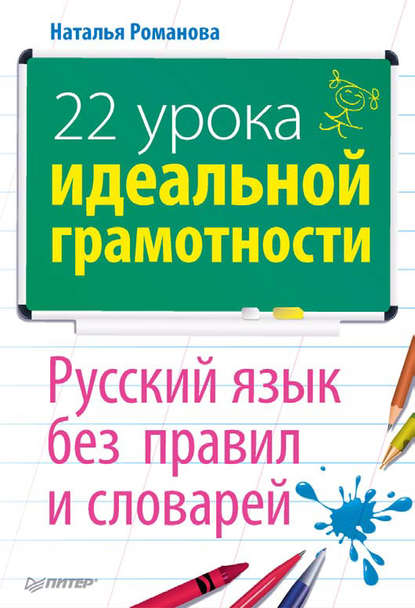- -
- 100%
- +
– Хошь, на пряник дам? – почти уже ласково спрашивает он.
– Мне отец даст.
– Когда те он ещё даст, а я – вот! – И Серёга, улыбаясь, показывает медную денежку, на которую можно купить пряник, а то и два.
Пока я размышляю, как быть, Серёга неожиданно в два маха подскакивает ко мне и больно хватает за плечо.
– Попался! – злорадно смеётся он. – Я те сейчас покажу живодёра, я тя, шкет, зелёная труба, сейчас тоже сброшу с колокольни.
– Эй! – кричит кто-то. – А ну, пусти парня!
– Сейчас, дяденька, пущу, – ухмыляется Серёга и тащит меня, ухватив за ухо, к церкви.
– Пусти, живодёр, подкулачник! – чуть не плачу я, с ужасом представляя себе, как Серёга будет сбрасывать меня с колокольни.
Серёга даёт мне подзатыльник, и тут – тут вновь происходит чудо.
Чья-то длинная рука цепляет Серёгу за шиворот и встряхивает. Жёсткие Серёгины пальцы отпускают моё горящее ухо. Серёга бормочет ругательства, а продавец из кооператива, ворочая головой, сердито отчитывает его.
– Подыми головной убор, – тоже сердито говорит мне продавец, и, когда я поднимаю сбитую Серёгой тюбетейку, он берёт меня за руку и ведёт в открытую дверь.
Скажите – не чудо! И даже бесплатно пряник даёт. Я после ему, конечно, отдам две копейки за пряник, хотя он мне больше ничего и не говорит про деньги.
Я снова выхожу из кооператива. Серёги не видно. Ну и ладно. Сегодня я уже нагляделся на него. Я его не боюсь, хоть ему уже пятнадцатый год. Я от него всегда могу убежать.
На улице всё ещё как в бане: жарко, душно. Даже куры с петухами попрятались. Я бы пошёл на Кубену купаться, но, во-первых, надо идти мимо кладбища, а во-вторых, я обещал папе не ходить без него на Кубену. Куда бы мне ещё пойти, где прохладно или хоть не так жарко?
Я думаю об этом и вдруг вижу, что из дома Тимачёвых выходят с ружьём. Два знакомых дяденьки из сельсовета и один незнакомый, в военной форме. Я военных люблю. Я забываю про жару и бегу поглядеть на военного. И на ружьё, которое держит, посмеиваясь, председатель из сельсовета.
Они, посмеиваясь, останавливаются около деревянной трибуны, где Первого мая висели плакаты и говорили речи. Я тоже останавливаюсь недалеко от трибуны. У военного дяденьки на поясе кобура с наганом. Вот бы он стрельнул из него! Я больше не могу оторвать от него глаз. Сапоги у дяденьки чистые, как зеркало, на воротнике малиновые полоски, жёлтые пуговицы горят, ремень немножко поскрипывает, когда он поворачивается. Голова у него бритая, розовая, и он тоже посмеивается негромко. До чего же красивый!
Председатель из сельсовета, что-то сказав ему, кладёт ружьё на уголок трибуны и целится. Он наводит дуло на колокольню, где сидят галки. Вот здорово! Сейчас как бабахнет! Я от волнения присаживаюсь на корточки.
Вдруг ружьё как ударит с грохотом – это оно выстрелило. Жутко! И запах сразу пошёл, незнакомый, холодноватый какой-то. И что-то чёрненькое полетело вниз со второго окошка колокольни, где сидели галки. А остальные с гомоном взвились и заполошились вокруг, затолклись.
– Точненько! – радуется председатель и поворачивает к военному смеющееся малиновое лицо. – Теперь ваш черёд!
А военный больше не посмеивается, а чего-то морщится. И показывает на свою руку – она у него, наверно, болит. Но всё-таки подходит к ружью и прикладывается. А галки-дуры, покричав, опять рассаживаются в ряд – пожалуйста, бей любую!
Я гляжу на военного дяденьку не отрываясь. И всё вижу: как он опять морщится, как поддевает под локоть ремешок от ружья, как целится, прикрывая глаз.
И я опять присаживаюсь на корточки и замираю. Но военный не спешит.
– Ну, Агапыч! – говорит весёлый председатель. – По мировой гидре… Пли!
Но военный дяденька поднимает голову, а потом и вовсе снимает ремешок с локтя.
– Не могу, адская боль…
– Тогда проиграл, – смеётся председатель, – всё одно проиграл, товарищ начальник!
Конечно, проиграл. Мне так обидно, что он не стрельнул, хотя и жалко галок. И мне кажется, что никакая рука у него не болит, а просто боялся промазать. Я весь изождался, пока он стрельнёт.
И они делаются неинтересными мне. Пусть уходят дообедывать. Я пойду на убитую галку посмотрю.
Галка вся разбита и в крови. Даже перья валяются. А глазок неживой смотрит. Не успел закрыться.
Неожиданно я вижу Серёгу, который сидит в тени, прислонясь спиной к ограде. Что это он – плачет? У него под глазами розовые ободки.
Я не люблю, когда люди плачут. Даже если это живодёр Серёга.
– Тебе галку жаль, Серёга?
– Уйди, зелёная труба, – отвечает он.
А может, он и не плакал?
– Ты плакал, Серёга?
– Галифешники! Зимогоры! – зло бормочет Серёга и плюёт, стараясь достать меня.
– А он галку пожалел, а ты голубей не жалел, – говорю я, отодвинувшись. – Он не стрельнул потому, что зачем ему это, а тебе убивать голубей «ндравится».
Серёга хватает камень, но я проворнее: уже отскочил.
– Вы богатели, а бедняки беднели, – продолжаю я. – А теперь этого нет, вот ты и злишься…
Я догадываюсь, почему он плакал. Он из-за меня плакал. Из-за того, что продавец не дал ему сбросить меня с колокольни. Он же убогий, и его никто раньше не цеплял за шиворот и не тряс. Вот он и заплакал. Или, может, своего отца вспомнил, как его в милицию забирали за то, что он мешал богачей Тимачёвых раскулачивать?
И мне опять делается жаль Серёгу: он ведь теперь всё равно что сирота.
– Сын за отца не ответчик, – примирительно говорю я. Это я вспомнил папины слова, когда он спорил с Ирой.
И снова я отскакиваю в сторону – камень, кинутый Серёгой, падает на середину дороги, в пыль.
– А почему я зелёная труба? – Я уже давно хотел спросить его об этом.
Но Серёга больше не отвечает. Он, наклонившись, вытаскивает из штанов папиросы. Интересно бы узнать – зачем он всё курит? Ладно, я лучше пойду к больнице, там около реки не так жарко. И, отвернувшись от Серёги, я снова иду через пыльную дорогу, мимо церкви к деревянным мосткам, белеющим посреди ржаного поля.
На Кубене
Теперь надо рассказать сперва про церковь и утопленника, а потом – что было дальше.
Я ведь на колокольне бывал, но об этом почти никто не знает. Когда стоишь там наверху и смотришь вниз, то кажется, будто колокольня чуточку качается и вот-вот упадёт, или железная решётка выломится, или меня ветром сдует, – всегда что-нибудь такое кажется, отчего делается немножко щекотно.
Я это люблю, то есть люблю, когда немножко щекотно и когда кругом всё видно: поля, деревни, река Кубена – она блестит на солнышке и извивается в берегах, и всё наше Троицко-Енальское, и люди, у которых как будто нет туловища, а одни головы с ногами, и очень длинные дороги, и всё так чисто и прибрано на земле.
И дует ветерок со всех сторон. А над головой громадина колокол, как баба в дублёной шубе, а сбоку под перекладиной, как ребята на лавке, другие колокола мал мала меньше. И галки кричат и летают туда-сюда – беспокоятся. Я на колокольню три раза лазил.
Я прошлый год, когда церковь была ещё открыта, и внутрь заходил. Жуть! Внизу темно, стоят люди, а вверху дым, и по бокам жёлтенькие огни свечек, что-то поблёскивает, и голову она так печально наклонила и ребёночка держит, и в темноте красиво поют. А посреди стоит поп-батюшка и быстро говорит басом. Скажет быстро что-то непонятное и запоёт, а позади из темноты подхватят и тянут в несколько голосов. А старики со старушками в темноте торопливо крестятся и что-то шепчут. Очень таинственно, и мне нравилось.
Я только не любил, когда он размахивал плошкой с огнём. Я тогда всегда уходил из церкви. У него на длинной цепочке в руке была плошка, и в ней что-то горело, и от неё шёл дым, а он махал ею и медленно двигался к двери.
Я его всегда опережал и выбегал на улицу. Мне это не нравилось… с огнём.
И батюшки-попы мне не очень нравились. Я их боялся. Когда, бывало, увижу – идут по улице, убегаю или спрячусь. Я их глаз боялся и длинной одежды. У нас их было два: поп рыжий и поп чёрный. Они были очень здоровые, с пышными кудрями до плеч.
И оба надорвались на пасху. Они выпили водки и стали друг друга поднимать. Я сам этого не видел, но очень хорошо себе представляю. Встали живот к животу, обхватились и давай по очереди друг дружку подбрасывать. И надорвались. А когда их увезли в больницу, рыжий поп вскоре умер, и церковь закрыли.
Мне чуть-чуть жалко, что закрыли. Я не верю в бога, у нас дома никто не верит, а всё же чуть-чуть жалко. Ира, та очень радовалась, а я не очень, потому что нигде больше так не поют.
Когда ещё церковь была открыта, все комсомольцы вместе с Ирой собирались на площади и кричали хором: «Долой, долой монахов! Долой, долой попов! Залезем мы на небо, разгоним всех богов». Богомольные старушки на Иру плевались, а она смеялась. Она у нас бедовая.
Они на Иру и из-за утопленника плевались. Они говорили, что нельзя его в ограде хоронить, раз он сам на себя руки наложил, это не по закону, а Ира говорила – можно, говорила, что церковный закон – это не закон. А его молоденькая жена плакала и всем объясняла, что он не утопился, а был пьяный, потому и утонул. Ну, пока они спорили, я быстро сбегал в больницу и посмотрел на него.
Утопленник, голый, серый, лежал на лавке в избушке для мертвецов. Дверь была заперта на замок, а окошко полое. Я сунул в окошко голову и всё рассмотрел. Там под лавками стояли шайки со льдом, и было прохладно. У него только живот немного надулся, а так – обыкновенный покойник. И я был так рад, что Ира победила и его похоронили в ограде, то есть на самом кладбище. Что он, не человек, что ли?..
Сейчас я как раз мимо этой больничной избушки прохожу, где он лежал.
Избушка сухая, чёрная, под окном выросла крапива, и оно закрыто. Наверно, нет никого внутри… Тогда я посижу около неё в тени, а потом пойду на Кубену напиться. Я дорогой съел пряник, и теперь что-то пить захотелось.
Или лучше сразу пойду напьюсь. Купаться-то всё равно не буду, нечего беспокоиться. Кому охота стать утопленником?
Я спускаюсь по тропе меж старых лип к калитке, открываю её и ложусь на мосточек, на тёплые доски, животом вниз. Я зачерпываю воду ладошкой и пью. Вот и всё.
Я люблю глядеть в воду. На дне жёлтый песок в морщинках, а сверху она льётся-переливается. Как она вся не выльется? То рыбёшка подплывёт, уставится удивлённо чёрненьким глазом, потом, быстро вильнув тельцем, исчезнет. То водяной паук на дрожащих лапах куда-то прошагает; то вдруг стрекоза с налёта коснётся прозрачным крылышком воды и вспорхнёт, испуганная.
И опять она льётся-переливается, и морщинки на песке чуть шевелятся. Тут уснуть можно на досках.
А на том берегу бабы сгребают сено. Чуть подальше мечут стога. Ловко, споро – раз, раз – просохшую траву кладут в ряд, в такой валик, потом встают поперёк и – раз, раз – забирают на грабли душистые тёплые вороха и несут в копны. А на замётанном стогу стоит мужик с вилами и принимает свежее сено, раскладывает налево и направо, утаптывает, вилы его с длинными белыми зубьями играют солнечными зайчиками.
Запах лёгкий, чистый доносится даже через реку. И лошадь там ходит, подтаскивая копны на волокушах. И девки бабы слышно, как смеются и громко, живо разговаривают. Они не девки и не бабы – это неправильно, надо говори «деушки» и «женщины». Но они сами себя называют так «бабы», «девки». Не могут отвыкнуть.
Мне, пожалуй, пора к дому. Я бы сейчас даже супу поел – так есть хочется!
Я бы выкупался перед тем как идти, но я дал папе слово. Если бы не дал, то обязательно выкупался бы. Тут мелко. Можно только разок окунуться и вылезти – это не будет считаться, что выкупался.
Я снимаю штаны, стягиваю майку – тюбетейка моя, перекувырнувшись, летит в реку. И сразу же на том берегу – откуда они взялись? – загалдели ребята:
– Камилавку, камилавку!.. Агрономов парнёк камилавку обронил!
Я бултыхаюсь в воду – она мне здесь до подмышек, – тюбетейка, покачнувшись на волне, отплыла подальше. Я за ней, а ребята с того берега тоже попрыгали в воду и кричат:
– Лови, а то в омут снесет. Держи ее!
Я еще шаг за ней, и мне уже до подбородка. И страшновато делается – из-за омута. А ребята уже выбрались на мель и бегут по песку наперерез.
– Стой! – кричат. – Не ходи, потонешь!
Я на цыпочки привстал, весь вытянулся – всё равно не хватает руки, не достаю.
А ребята, пробежав мель, снова в воду и плывут ко мне наискосок, глаза выпучили, руками хлопают – кто первый поймает тюбетейку. Один и схватил её, самый длинный, и встал около меня.
– Эва, – говорит и напялил её, мокрую, себе на голову.
И все встали полукругом и засмеялись. Я отступил на шажок, где помельче, и тоже засмеялся. Парень-то рыжий, нос облупленный, волосы мокрые торчат, а на макушке – моя тюбетейка.
– Ладно, – говорю, – спасибо, давай её.
– За спасибо-то не отдам, – смеётся рыжий. – Выкупи! Они все вылезли на мосток и расселись, свесив ноги. И pыжий тоже. Я сел рядом с ним.
– А что ты хочешь за неё? – спрашиваю.
– Томата, – отвечает он, скаля зубы, – или сахарного гороху, можно кабачок.
– Так это же всё у папы, – говорю я. – Может, другое что-нибудь?
– Топинамбур, тыква, севооборот, – смеётся рыжий.
И остальные посмеиваются негромко, вроде бы стесняясь, и переглядываются.
А рыжий говорит:
– Я твоему папаше на уроках всегда на«очхор» отвечаю. На! – и пересаживает тюбетейку со своей головы на мою.
И все опять зачем-то засмеялись и стали соскакивать в воду. А я выжал тюбетейку, надел штаны и помахал ребятам на прощание.
Заблудился
Отворив калитку, я снова поднимаюсь по тропе в больничный сад. Он большой, тенистый, весь зарос тополями и старыми липами. Дома красивые – розовые. Это палаты. А два дома коричневые, с красными торцами брёвен. И везде проложены деревянные мостки, такие дощатые дорожки. Пожалуйста, иди, не спотыкнёшься.
Больничных запахов я не люблю. Я поскорее пробегаю мимо палат. По дорожке навстречу мне идёт новый доктор. Раньше у нас была женщина-доктор, добрая. А новый доктор не такой. У него не такая голова – голая и как будто двойная. Она очень поперёк длинная. И под носом пучок усов. Я его немного боюсь: а вдруг он у меня что-нибудь спросит?
Я пробегаю мимо, опустив глаза. Он меня ничего не спрашивает. Я оборачиваюсь и ещё раз гляжу на его длинную ото лба к затылку голову.
Потом я влезаю на забор – крупные пахучие листья липы щекочут моё лицо – и спрыгиваю на другую сторону в рожь. Сейчас я найду какую-нибудь тропинку и пойду на зелёную крышу. Она чуть виднеется вдали за полем и кустарником, зелёная крыша нашей школы.
Я иду не по самой ржи, а рядом. Я обхожу, наверно, с полполя, и зелёная крыша, став поменьше, отодвигается вбок. Я не люблю возвращаться старой дорогой. Даже это лучше, что нет тропинки. Я леском вернусь домой или, может, выйду к папиному участку.
Тюбетейка моя уже просохла, и солнце опять стало припекать, хоть и опустилось пониже. Пчёлы, которые проснулись, завозились в цветках, зашевелились. А некоторые ещё дремлют, нежатся.
Я ещё успею поохотиться на них. Когда подойду поближе к дому или к участку.
Я лучше леском пойду, тут вроде поменьше солнца. В молодом сосняке очень густо пахнет хвоей, смолой, горячей землёй. Очень жарко пахнет, просто пышет. Всё замерло, разомлело и неподвижно. И только рыжие муравьи бегут по своей дорожке туда и сюда: одни – туда, другие – сюда. Туда чего-нибудь несут, а обратно бегут пустые.
Один тащит сухую муху за ногу. Уцепил её передними проворными лапками и тащит-пятится. Другой – осколочек от ржаной соломины. Неужели он её с поля приволок? А куда они волокут?
Я иду за ними и скоро нахожу высоченный, в мой рост, муравейник, такую горку, которая вся кишит рыжим и чёрным, вся переливается и блестит. Вот уж и на меня полезли – сейчас согнут чёрные головки, подождут и укусят, я уж знаю. Я их щелчком сбиваю с ноги и отхожу подальше.
Надо вернуться в поле: в лесу ещё жарче. А в какой стороне поле? Надо пойти обратно вдоль той муравьиной дорожки. А сколько же их, этих муравьиных дорожек? И которая из них та?
От муравейника во все стороны, как лучи, протянулись дорожки с муравьями. Вот смех-то: я не знаю, с какой стороны сюда зашёл! Я смотрел вниз на муравьёв, поэтому и не заметил, и не знаю. Вот чепуха-то, как говорит папа.
Я иду сперва в одну сторону – нет, здесь поля не видно. Иду оттуда в другую – опять не то. Тут земляникой сильно пахнет. Надо для мамы хоть земляники насобирать. Ладно, вот только выберусь, так насобираю и земляники, и мёда добуду из пчёл. Наверно, мама без меня уже скучает, думает: где Юра?
Ладно, Юра, мы теперь пойдём вот туда – там светится какая-то прогалина. Я иду туда и попадаю на незнакомую лесную поляну со старыми трухлявыми пнями, окружёнными высокой травой. Тут в траве крупная сочная земляника. Я снимаю тюбетейку, раздвигаю траву и – раз, раз – бросаю в тюбетейку самые спелые земляничины. Раз – в рот, раз – в тюбетейку. Только бы нам не заблудиться.
Раз – в тюбетейку, раз – в рот. А почему солнце не печет? Я поднимаю голову – всё небо затянулось серой дымкой. Когда это оно успело? Я, наверно, очень долго смотрел на муравейник.
Раз, раз – в рот, раз – в тюбетейку. Я сейчас вернусь к муравейнику, пройдусь по всем дорожкам по очереди и найду ту, по которой он тащил соломинку. Я не заблудился.
Я встаю, осматриваюсь и бегу туда, где должен быть муравейник. Но там муравейника уже нет. Я бегу ещё быстрее – может быть, там? И там нет. Я опять бегу, и мне уже хочется заплакать.
Я, наверно, заблудился… Тут низина, папоротник и ели. Я елей не люблю. А с неба уже – кап, кап – на широкие резные листья папоротника упало несколько дождинок. На мою голову – холодненькие. Что же делать? Куда бежать?
Надо бы залезть на ёлку и поглядеть вокруг. Мы с тобой, Юрка, заблудились. Нет, не заблудились. Я этого не хочу: я боюсь лешего. Я лучше побегу, а то хочется заплакать.
Я снова бегу куда-то, и на голову мою и на плечи падает холодненькое. Я боюсь волков и лешего и боюсь совсем заблудиться. Как меня найдут? Что я буду есть и где спать?
А тут уже какое-то болото. Я никогда не видел этого болота. Я бы заревел потихоньку – но кто меня услышит?
Я бегу обратно и думаю про папу и маму. И про Ксеню хорошую думаю. И про Иру. Они стоят печальные и спрашивают: где Юра?
Что же делать? Куда ещё бежать? Куда это меня занесло?
Я останавливаюсь, переводя дух, и вдруг слышу постукивание. Близко очень постукивание – как телега едет. Я кидаюсь в ту сторону, продираюсь через кустарник, и вот передо мной дорога, вся рябая от капель дождя. Из низины, где настланы брёвна, постучав ещё, выезжает телега, а на ней бородатый мужик с кнутом. И хотя он незнакомый, и дорога незнакомая, я смеюсь от радости.
– Здравствуйте! – кричу я дяденьке мужику.
– Здравствуй, парнёк! – Дяденька натягивает вожжи, придерживая кобылу. – Чего тут стоишь? Землянки насбирал?
– Я заблудился.
– Заблудился? – недоверчиво тянет дяденька и – тпру! – останавливает кобылу. – А куда же тебе надо?
– В Троицу.
– Дак Троица – вот она! – Он кнутовищем указывает вдоль дороги, и я, удивлённый, вижу поверх ивняка маленький краешек зелёной крыши.
– Спасибо, дяденька, – говорю я, счастливый, – теперь я быстро добегу.
– Садись, подвезу, – предлагает дяденька, показывая жёлтые зубы под усами.
Я забираюсь к нему в телегу, и мы едем. Мы едем мимо мокрых ёлок, осинок, ольх, мимо потемневшей изгороди к нашей школе, где я живу с папой, с мамой и сёстрами. Я очень люблю этого дяденьку, и папу люблю, и маму, и Иру, и Ксеню. И кобылу его люблю, и дождик, и свою тюбетейку, в которой лежит земляника для мамы. Я всё люблю, потому что всё такое хорошее, такое чудо, и я не заблудился!
Князь Шуйский
Настала осень, начались уроки, а крышу-то и забыли починить. Она ведь только издали зелёная, а когда мы с князем Шуйским поднялись на неё из чердака, она оказалась грязная, с пятнышками ржавчины и отколупывается. Князь Шуйский постучал по ней молотком, так краска на этом листе почти вся и отлетела.
Сейчас он её заново красит. Он сперва соскрёб старую, почистил, помазал чем-то и красит из ведёрка. Получаются как заплаты. Снизу не заметно, что крыша составлена из листов, из железных квадратов. А когда он покрасил первый лист, так и снизу, с земли, стало, наверно, заметно, что из квадратов.
Мне-то отсюда, от трубы, это хорошо видно. Я вначале сидел на чердаке и смотрел на него из слухового окошка, а потом всё-таки выполз к трубе. Тут лучше, хотя и страшновато, что могу слететь. Мне очень нравится смотреть на него поближе и как он красит.
Он водит кистью вверх-вниз и поёт:
Инда красна девица,Девица, девица,Инда красна девица…Других слов он, наверно, не знает, а я всё равно слушаю. И всё на него смотрю. Он такой осанистый, добрый, и борода у него добрая, широкая и сивенькая, и глаза, и красноватый нос, и домотканая рубаха, оттопырившаяся сзади над завязкой фартука.
Инда красна девица, —поёт он, а я его слушаю, и мне ни капельки не надоело, потому что он, князь Шуйский, для меня загадка.
Он очень, очень древний. Ему лет триста. Я вот только не понимаю, как он прожил столько. То есть я, с одной стороны, понимаю, что столько прожить нельзя, но, с другой стороны, в том, что он князь Шуйский, тоже нельзя сомневаться, особенно, когда он мягким своим, таинственным голосом поёт про «красну девицу». И песня эта из тех старинных времён, я знаю. И сам он будто сошёл с картинки из папиной книги о Борисе Годунове, где есть и его, князя Шуйского, портрет. Меня вот только немного смущает, что он из деревни Перепечиха, но мало ли чего с человеком могло случиться за столько лет! Может, он однажды приехал сюда и затерялся в наших лесах, а потом и сам забыл, кто он такой. Мало ли бывает чудес!
Инда красна девица…– начинаю негромко подпевать и я у трубы, а он сразу повернул ко мне голову. Вот древний, древний, а всё слышит, слух у него острый. И зубы белые, и все целы и даже блестят, будто он их только что почистил порошком.
– Свалиться не боишься? – говорит он мне.
– Я за трубу держусь.
– А ну как тятенька заметит, что к трубе-то вылез, да задаст нам обоим, а?
– Тятенька сейчас на уроке, – отвечаю я, нарочно называя папу по-старинному – тятенькой.
Князь Шуйский прислоняет кисть к ведёрку, которое стоит на деревянном клинышке, вынимает из-под фартука кисет и присаживается на скат крыши, что над слуховым окошком.
Он вначале разворачивает кисет на колене, отрывает от помятой газеты кусочек и приклеивает его к нижней губе. Затем, запустив одну руку в кисет, другой рукой снимает с губы этот кусочек и сыплет на него махорку. Затем разравнивает её указательным пальцем, подносит край бумажки ко рту, слюнит, покусывает, а потом – круть, и папироска готова. Очень ловко! Он быстро оглаживает её, закупоривает снизу, вставляет другим концом в рот и зажигает спичку, складывая ладони домиком.
Я люблю подробно смотреть, как делают папироски и прикуривают. Так ловко, и потом дым выпускают изо рта и из носа, тремя струйками… Пока он сворачивал, то на меня не глядел и ничего не спрашивал. А как выпустил из себя дым, так сразу посмотрел на меня весёлыми глазами и говорит:
– Как тебя звать?
– Юрий.
– Юрий? Значит, Егорий? А годков от роду сколько?
Я ему сказал и сам спрашиваю:
– А сколько вам?
– А мне, милок, осемь лет на семой десяток ноне пошло. Вон сколько!
– А почему вы всё про красну девицу поёте? Это старинная песня? – Я подбираюсь к главному – настоящий он князь Шуйский или нет; сразу спросить как-то неудобно. – Очень старинная, да?
– Очень, дружечка. Её, бывало, ещё батюшка-покойник за работой певал, царствие небесное… – И князь Шуйский потряс сложенными в щепоть пальцами у груди, перекрестился.
– А в Бога вы веруете? – допытываюсь я.
– А кто же в Него, в Господа нашего, не верует?
– Папа не верует, я не верую.
– Это грех, – говорит Шуйский. – Папа твой хороший, обходительный со всеми, работать любит и, видать, учёный, ничего не скажешь; вон как землица-то его одаривает – диво! А не верует…
– Ну и что? – отвечаю я. – Даже в старину не все верили. А некоторые хоть и верили, а мальчика убили… Вы Бориса Годунова помните?
– Кого-кого?..
И мне уже ясно, что не помнит. Ещё бы – так давно это было!
Князь Шуйский вдруг улыбается, и я опять вижу его как порошком вычищенные белые зубы.
– Ты это про кого меня спрашиваешь? Про какого Гладцинова? – Он отчего-то всё веселее улыбается. – Ты-то откель про купца Гладцинова знаешь?
– Да не про Гладцинова, а Годунова.
– A-а, Годунова! – И весёлость постепенно исчезает из глаз князя.
Может, ему неприятно вспоминать про Годунова – они ведь, папа мне объяснял по книге, были враги. Или притворяется, что не понимает, про кого я спрашиваю, – может, не хочет, чтобы люди узнали, что он, Шуйский, князь. Он делает ещё две глубокие затяжки, пускает в сивую бороду дым и встаёт, отряхиваясь.