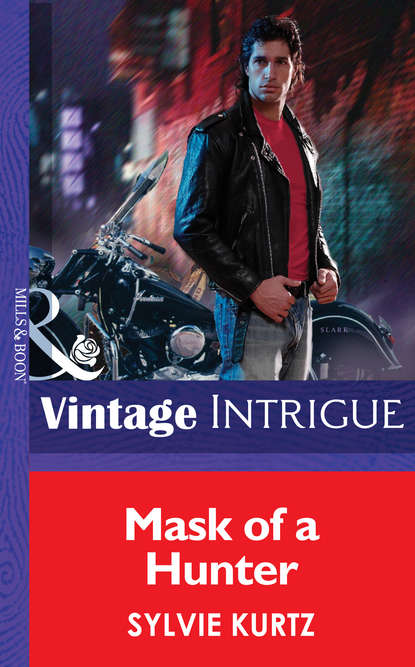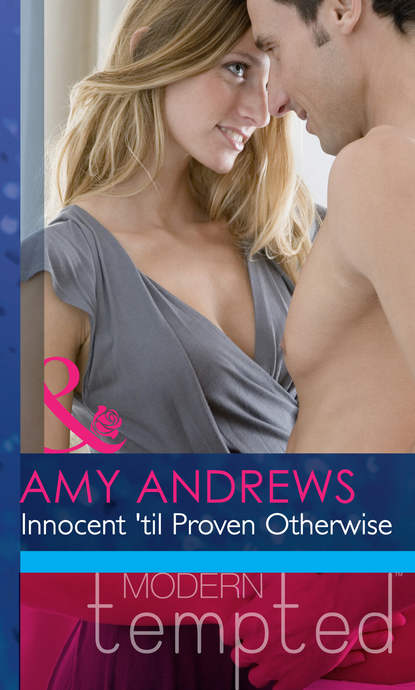- -
- 100%
- +
– Серёга, хочешь, я тебе костыли подарю? – Мне хочется сделать ему приятное за то, что он больше не злится.
Серёга подковыливает к крыльцу, засовывает руки в карманы и рассматривает меня так, будто я зверюшка какая-нибудь или с неба упал.
– Ты знаешь кто? – потом спрашивает он.
– Кто?
– Ты цыган. Тебя цыгане-балагане подкинули твоим родителям, понял? Ты не свово отца и матери сын, ты выродок, подкидыш!
Самое противное, что Серёга говорит это спокойным голосом, уверенно. Так уверенно и спокойно не шутят. Может, он знает какую-нибудь ужасную тайну?
– Ну, что приумолк? Чего колупаешь нос? – похоже, уже злорадствует он.
– Врёшь ты всё, Серёга.
– Нет, не вру. Тебе-то, ясно, родители об этом не скажут. Жалеют тебя, несчастного подкидыша, а люди всё знают, всё, как оно есть.
И Серёга, даже не взглянув на меня, ковыляет за сарай, где они всегда курят.
А может, это и правда? Может, я цыган-подкидыш? Ведь только совсем недавно мы узнали, что Труся не родная наша сестра, а папа и мама взяли её у бедной женщины, когда Труся была маленькой. Теперь она взрослая, живёт не с нами и всё знает, а до этого ни она, ни мы ничего не знали. Наверно, и я такой же: у меня карие глаза, а у мамы и папы не карие, и мне ещё раньше говорили, что я на них не похож и что я цыганёнок.
Я по привычке спрыгиваю с крыльца и иду к лесу. Как это нехорошо и грустно, что мои папа и мама, оказывается, не мои! Как это обидно, неприятно! А где же они, настоящие мои папа и мама – цыгане? Зачем они меня подкинули?
Я иду дорожкой, которой летом ходил в кооператив, и удивляюсь, как всё стало близко. Вот и больница отсюда, с края поля, видна, а летом её не было видно, и стены церкви, и белые от инея мостки. Иней и на полёгшей жухлой траве, и на жердях, и на перепаханном поле, и на голых ветках берёз. Вот и тропинку мою снежком занесло, и мне хочется плакать. Зачем они мне сами не сказали? Зачем я такой?
Я слышу тонкий звонок, который долетает из школы, и мне делается ещё обиднее. Сейчас Ира отпустит учеников и будет собирать кружок. И будет спрашивать про меня: где Юра? И мама будет спрашивать, и Ксенька. И папа потом спросит. И, может быть, не дождавшись, они сядут без меня обедать, весёлые – им что? Был и нет. Был у них подкидыш Юрка – и исчез. Что им, жалко меня? Что я, родной им?
Я поворачиваю в сосняк, где заблудился летом. Теперь тут нет муравьёв и далеко всё видно, и всё белое от инея, но и теперь тут можно заблудиться. И пусть я опять заблужусь, пусть на меня нападут волки – кому я нужен? Я глотаю слёзы и утираю их, а они набегают опять, и в носу от них горячо, и я никак не могу с ними справиться. Ну и пусть!
Не знаю, сколько я так бреду наугад, как вдруг сзади зашелестели быстрые шаги, и, обернувшись, я увидел Иру. Я бросился бежать, но она сразу настигла меня, схватила и давай целовать в щёки и что-то приговаривать. И тут я ещё увидел за кустами угрюмое лицо Серёги.
– Дурачок ты, дурачок, – приговаривает Ира и вдруг, повернувшись к Серёге, резко говорит: – А ну, подойди-ка сюда!
– Да я чего? – выходя из-за кустов, бормочет Серёга и снимает шапку. – Он летось всяко костил меня – живодёром, подкулачником, костыли топере, как калеке, надумал дарить. Кабы не уважал вашего папаши – ни за что бы не повинился, только ради папаши. А так пускай убёг бы, шкет…
– Дурак! – вся покраснев, выкрикивает Ира, забыв, что она учительница. – Убирайся сейчас же!
Серёга, натянув шапку, отковыливает прочь, а Ира всё повторяет мне близко в лицо, что это идиотская шутка, что я настоящий сын папы и мамы и её, Иры, родной братик, и что надо торопиться, а то нас уже ждут ребята и девочки из физкультурного кружка.
У лесорубов
Я стою на голове, упираясь руками в пол и вытянув кверху ноги, и жду, когда Ира скажет: «Раз!» Из своего положения я вижу лица людей, которые, кажется, сидят вниз головой, и слышу, как они хлопают. Один такой опрокинутый дяденька раскрыл рот – я и это вижу. Я могу так сколько хочешь стоять и всё разглядывать, и мне ни капельки не тяжело.
– Раз! – командует Ира.
Я подгибаю коленки и касаюсь ногами пола.
– Два!
Выпрямляюсь, а девочки соскакивают с плеч ребят.
– Три!
Девочки, которые делали «мостик», плавно взмахивают руками и распрямляют спину.
– Четыре!
Мы снова выстраиваемся в ряд, я – самый последний.
И снова хлопают дяденьки, которые сидят теперь вверх головой, и улыбаются, и громко от удовольствия переговариваются.
– Напра… во!
Мы, маршируя, уходим со сцены, а они всё хлопают и довольно гудят.
Это наш физкультурный кружок выступает у лесорубов. Мы уже выступили в школе и в избе-читальне, а сегодня главный заведующий из Вожеги попросил Иру поехать с нами в лес. Вот мы и приехали сюда показывать своё представление, чтобы лесорубам не хотелось справлять религиозный праздник Рождество.
На сцену выходит Драсида, Ирина подруга, а Ира в это время прилаживает бороду на резинке, парик и заворачивается в простыню. Она будет изображать бога Саваофа, а я – чертёнка. Пока она заворачивается, я уже влез ногами в рукава вывернутой шубы, завязал тесёмки и натягиваю шапочку с рогами. У меня есть даже хвост, как у настоящего чёрта. Теперь ещё меня подмажут сажей, и будет всё в порядке.
– Готов, нечистая сила? – голосом Саваофа спрашивает Ира.
– Сейчас, – пищу я, как чертёнок.
Я первый раз чуть живот не надорвал, когда Ира вырядилась Саваофом. Курносый нос, белая бородища и босиком!
Я смотрю, как Ира приклеивает лохматые брови, напяливает на лоб старые папины очки, и одним глазом слежу за Драсидой. Та, румяная, с чёрной косой, зубки как сахар, декламирует:
Где-то с перебоями тальянкиПесня угасала на ветру.В эту ночь ему не до гулянки.Трактористу Дьякову Петру.Значит, ещё не очень скоро: ещё как будут его убивать, тракториста. Моё лицо раскрашивают сажей, а остальные девочки, отворачиваясь от ребят, надевают платья. Они уже свободны, теперь под конец выступим мы с Ирой.
Вот уж и Ира – Саваоф готова и поглядывает из-за занавески на Драсиду и я готов, и Нюра с книжечкой приготовилась нам суфлировать, если мы с Ирой забудем слова. Но мы их не забудем.
Где-то с переборами тальянкиПесня угасала на ветру, —в последний раз грустно повторяет Драсида, и лесорубы притихли, и видно, что им жалко тракториста Дьякова Петра. И мне его всегда бывает жалко, когда я про него слушаю. Уж лучше бы он с девушками гулял в эту ночь, а не работал на тракторе!
Драсида умолкает, и все ей хлопают. А потом, когда перестают, она говорит, что мы сейчас покажем сценку «Случай на небесах».
Ира из-под наклеенной лохматой брови подмигивает мне, чтобы я не боялся (а я и так не боюсь), и выходит. И сразу там, где сидят дяди, проносится шумок и тихий хохоток.
– Где очки? Кто утащил мои очки? – спрашивает Ира голосом
Саваофа и расхаживает по сцене босая, будто бы разыскивая их (а они у неё на лбу).
– Пётр! – грозно говорит она.
– Ась? – раздаётся из-за сцены.
– Не видел ли моих очков?
– У сына сатаны, великий боже, спроси…
– А ну, подать сюда чертёнка! – приказывает Ира – Саваоф.
И тут выскакиваю я и начинаю жалобно мяукать и кружиться. И я уже сам не слышу своего мяуканья, потому что все громко хохочут. Ира – Саваоф сердито говорит, что я, исчадие ада, опять стащил её очки, и, переступая босыми ногами, хочет меня схватить, а я увёртываюсь, мяукаю и показываю чёрными пальцами на очки, про которые он, бог Саваоф, забыл, что они у него на лбу.
Я прыгаю из стороны в сторону, и хвост мой прыгает следом и бьёт по полу, и бог Саваоф наконец устаёт за мной гоняться.
– Апостол Пётр! – снова грозно говорит Саваоф, отдуваясь.
– Чаво?
– Да долго ль будешь ты лежать на печке, лежебока? Позвать ко мне Илью-пророка!
– О, Господи! – пищу я. – Пощади, всевышний! Не надо молнией меня разить, прошу покорно пощадить!
– Да? – удивлённо говорит Саваоф, широко расставив ноги и выпятив живот (там под простынёй у Иры подвязана подушка). – Так где ж мои очки?
– Вот, всемогущий!
Я разбегаюсь, наклонив голову, как козёл, и тыкаю Саваофа в живот рогами. Он от неожиданности плюхается на пол, а очки слетают со лба и падают ему на колени, а я, мяукая и кувыркаясь, убегаю со сцены.
И все опять хохочут и хлопают. И две девочки закрывают занавес.
Вот и всё наше представление.
Мне так нравится изображать чертёнка, что я бы ещё раз выступил. И я ещё некоторое время мяукаю и бодаюсь, пока Ира не приказывает всем надеть тулупы и выходить на улицу.
Мы одеваемся и идём к своим лошадям, усаживаемся в сани, поплотнее укутываемся и едем обратно.
…Хруп, хруп – топ, топ; хруп, хруп – топ, топ…
Покачивается над лошадиной гривой дуга, льётся лунный свет, из наших ртов вылетают клубочки пара.
Мы едем по какому-то длинному ледяному коридору – или это богатыри встали плечо к плечу, обсыпанные снегом, с заиндевевшими бородами? Это ели. А может, и уснувшие богатыри в островерхих шлемах, могучие, как дядька Черномор.
Хруп, хруп – топ, топ делает лошадь, выбрасывая ногами, и круглая спина её сияет от луны, и подпрыгивает, и мешает смотреть вперёд.
На моём меховом воротнике образовались уже голубые сосульки, но самому мне тепло, только ноги немножко затекли от тяжести. А я всё равно не шевелюсь, я смотрю и смотрю, и иногда мне кажется, что мы не едем, а скользим на месте, и лишь в ушах это «хруп, хруп», и поют полозья, и временами сани заносит, или вдруг они будто начинают двигаться в обратную сторону.
– Не спать, не спать! – раздаётся голос бога Саваофа, и я знаю, что это Ира и что она слева от меня, а справа Драсида, а внизу на соломе Ксенька и Нина Чувакина давят мне на ноги, а кучер Митрич впереди, – знаю и всё-таки вижу перед собой белую бороду Саваофа.
– Но-о! – прикрикивает Митрич, взмахивает серебряным кнутом и сбивает с неба острую звёздочку. Она, светленькая, царапнула небо и пропала.
Куда пропала?
– Не спать, не спать! – повторяет Ира – Саваоф и тормошит меня.
И я слышу низкий голос Драсиды, запевающей:
Мы кузнецы, и дух наш молодКуём мы счастия ключи…Ира сразу подхватывает:
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,В стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи!Ксенька и Нина чуть освобождают мои ноги, поворачивают к нам головы в опушённых инеем шалях, и песня делается ещё громче:
Ведь после каждого удараСвободней взмах, сильнее грудь…Тут уже долетает сзади, из других саней, и звучит вместе с нашими голосами:
И со всего земного шараК нам угнетённые идут, идут, идут!И вот уже нет сна, нет Саваофа и засыпанных снегом богатырей, а есть зима, луна, лесная просека и мы, тёплые в своих тулупах, едущие с замечательной песней к себе домой.
Опять собака
Собака меня не забыла. Стоило мне только появиться на этой дороге, как она опять, выскочив из-за крыльца, покатилась мне наперерез. Я думал – сидит в сенях или дома в тепле или забыла про меня, чёрная злая дура. И что я ей дался?
На этот раз я останавливаюсь. Я хоть и боюсь её, но теперь мне ещё и очень обидно: что она придирается? Я стою и смотрю, как она, загнув хвост, приближается ко мне.
– Что тебе надо? – спрашиваю и гляжу на её чёрную, с жёлтыми подпалинами морду.
Она перемахивает через снежную канаву и встаёт посреди дороги носом ко мне. Как волк!.. И надо же было снова тут пойти! Ведь я уже другой дорогой ходил на почту, в обход.

– Я тебе что-нибудь плохое сделал? – говорю ей и смотрю прямо в её глаза.
А она вдруг садится, задирает голову и судорожно открывает рот. Будто и вправду захотелось зевнуть.
– Скажи, сделал? – повторяю я, хотя, конечно, понимаю, что она ничего сказать не может. Но я нарочно говорю с ней, как с человеком: они иногда понимают. – Не сделал, – отвечаю сам за неё. Я уже чуть-чуть смелею, потому что она сидит и не трогает меня. – Ну, так и ступай себе. Слышишь?
Она кивает и глядит на меня умными глазами. И правда – понимает. Жалко, что у меня нет с собой хлеба, мы бы тогда совсем поладили.
– Я тебе потом принесу хлеба…
Взгляд у собаки становится внимательнее и острее.
– Честное слово!
Я делаю шаг в сторону – хочу обойти её, но она вскакивает на ноги и загораживает мне дорогу: не верит.
– Я же сказал «честное», – объясняю ей. – Пусти, пожалуйста!
Она мигает и отворачивается от моих глаз, но не уходит.
– Ну и дура! – разозлившись, говорю я.
Пусть кладёт на мои плечи свои лапы и шагает за мной. Меня это нисколечко не волнует!
Я прохожу мимо неё, а она – вот удивление-то! – начинает дружески повиливать хвостом. Вот чудо-то! А что, если я ещё раз остановлюсь и попробую погладить её? Что тогда?
Но я больше не останавливаюсь. Я и без того рад, что всё обошлось. И мне ясно почему: потому что я поговорил с ней по-человечески и пообещал хлеба. И я принесу ей после обеда хлеба, не обману.
Мне так становится легко, и я так смелею, что оборачиваюсь. А собака будто только этого и ждала: сорвалась с места и прыжками ко мне. И тогда, сам не знаю как, я бросился бежать. Я несусь к крыльцу школы, другой школы, где учится Ксеня, и слышу позади себя мягкие скачки и лай, потом она обрушивается на меня сзади, и я лечу кувырком. И сразу же раздаётся громкий визг и тонкий жалобный вой; я приподнимаюсь и вижу, что собака, поджав заднюю ногу и сильно переваливаясь, улепётывает к овинам, а на дороге стоит весёлый председатель из сельсовета, а в обледенелой канаве валяется здоровенная палка от городков.
– Нос-то цел? – посмеиваясь, спрашивает он. – Смотри, больше не бегай от собак. Никогда не бегай!
И, надвинув шапку на смеющиеся глаза и сунув руки в карманы полушубка, он шагает дальше – в кузницу или на скотный двор. А я, ничего не ответив ему, отряхиваюсь и иду туда, куда и шёл, – на почту.
Собаку мне жаль: она, может, просто хотела со мной поиграть по-своему, а он раз – и перешиб ногу. Как тогда летом: раз – и убил из ружья галку. Ему бы только всех бить…
У меня что-то испортилось настроение, даже на почту идти расхотелось. Тогда, пожалуй, я загляну в тот с заколоченными окнами дом, рядом с сельсоветом. Я пересекаю улицу и останавливаюсь возле обледенелого крыльца. Мне страшновато туда заглядывать, потому что там вор.
Я всё-таки поднимаюсь на крыльцо, потом – в длинные холодные сени, а он справа заперт. Мне жутковато, что он сидит за стеной, и его не слышно. Что он там делает? Там темно и тихо; я на цыпочках подбираюсь к двери с тяжёлым замком и слушаю. Вот от этого и страшновато – что ничего не слышно и что он там закрыт в темноте. А вдруг он сейчас выскочит и топором меня?
Я на цыпочках бегу обратно, а сельсоветский сторож бранится. Они его, этого вора, повезут в Вожегу, его милиционер повезёт, но я не хочу на это смотреть. Мне как-то неприятно: я воров побаиваюсь. Они летом два раза папины огурцы воровали, ночью, и истоптали люпин – думали, что горох. Они все бледные, серые, потому что не спят ночью, – я себе их так представляю. И этот вор тоже, наверно, серый: он ночью жмых хотел украсть со склада кооператива, но залаяла собака, и его схватили. Я теперь пойду в избу-читальню, посижу на скамейке и подумаю обо всём этом.
Зима красивая. Деревья – будто огромные одуванчики; всё белое и скрипит. И дым из труб хорошо виден: утром он голубой или розовый, а вечером синий, а когда уже звёзды, то чёрный и кажется, что это ведьма вылетает на помеле. Мне только не нравится, когда очень сильный мороз: тогда собаки бездомные околевают, а воробьи коченеют и падают, как камушки. И не успеешь оттереть нос, как хватает за подбородок или за щёку. Я зимой больше люблю лето, а летом – зиму. Я тру рукавицей нос, но за подбородок пока не хватает: сегодня мороз не такой сильный.
И кругом разные звуки: то поскрипывание, когда идут по дороге, то снег начинает петь, когда его топчут на тропе, то треснет где-то бревно, то провизжат полозья на повороте.
Я иду к избе-читальне и думаю про свою собаку и про вора. Ведь это, конечно, она залаяла ночью склад-то недалеко от почты, а она всегда около почты бегает. Как же это несправедливо, что председатель ей ногу перешиб!
Я выхожу, задумавшись, на середину дороги и совсем не замечаю лошади. Я едва успеваю отскочить – она с топотом проносится мимо, окатив меня ледяным ветром, а дядька из саней на меня кнутом, да ещё нехорошим словом, что я так зазевался. И следом вторая лошадь, а в розвальнях женщины громко смеются. Одна привстала и кричит мне:
– Парнёк, догоняй, мы тебе скусного дадим!
И валится с хохотом на солому в ноги к другой женщине.
Они пьяные. Это очень неприятно, когда пьяные женщины. Когда мужики пьяные, то они только поют и крепко пляшут или целуются, а если ломают жерди и дерутся, так ведь они на то и мужики. А когда женщины – это непонятно и ужасно как-то нехорошо. И ещё неприятно, что второй уже день празднуют Рождество: видно, пока не подействовало на них наше представление.
Я вот что решил: раз так всё получилось, я зайду в кооператив и куплю пряник. Для собаки. Я чувствую себя тоже виноватым – вот и дам ей пряник: у меня есть три копейки.
И я сворачиваю на поющую тропу к заиндевелым дверям, от которых сегодня очень пахнет водкой, холодновато так…
Как мы с Ксеней болели
Я придумал для Ксени ласковое имя: «Кенарочка». Дуня смеётся: «Кака така Кенарочка?» – А Ксене оно нравится. Мы с ней тоже смеёмся над Дуней, потому что она немножко хвастунья. Она каждое утро заглядывает в растопленную печь и сама себя хвалит: «Ай да Дунька, всё у Дуньки кипит: картошка кипит, суп кипит!» Лицо её от огня делается красным, светленькие глаза сощуриваются и смеются: довольна, что всё у неё кипит! Она очень хорошая, Дуня, только она конфузится, когда папа называет её Авдотьей Максимовной. А почему конфузится: ведь ей уже тридцать четыре года, ведь она не девочка?
Она опять живёт с нами. Папа и мама уехали в Вологду. Ира занимается с неграмотными (называется «ликбез»), а мы с Ксеней сами не умеем обряжаться. Вот опять и позвали Дуню. А нам с ней хорошо!
У нас теперь зимние каникулы. Тихо так стало в школе и непривычно: ни звонков, ни шума, ни физкультурного кружка.
В сумерки я часто лежу с Дуней на печке, она рассказывает мне сказки и поёт нескладухи:
Вы послушайте, робята,Нескладуху вам спою.Вор-воробышек летает —То мальчишечка шалит.Уж верно – нескладуха! Ни склада, ни лада. Я больше частушки люблю. Дуня меня такой научила:
Ягодиночка на льдиночке,А я на берегу.А перекинь, дружок, тесиночку,К тебе перебегу.Но всего лучше, когда она рассказывает про домового и про старого-престарого «старицька», который в Куровском бору пугает девушек.
Она когда рассказывает это или про старинных людей, то я сразу вспоминаю князя Шуйского. Дуня говорит, что он не Шуйский, а Комкин, живописец-богомаз из Перепечихи, она с ним знакома.
Сейчас, дожидаясь Дуни, я растянулся на печке и смотрю в потолок.
– Юр, будет тебе бока греть! – ноет Ксеня. – Погляди, Люба с Володей какую бабу скатали.
Она дома скучает, Кенарочка, она не любит лежать на печке.
– Ладно, так уж и быть, – отвечаю ей. Я теперь с ней очень дружу, пока папы и мамы нет.
Достав из-за трубы горячие валенки, я спускаюсь на пол, надеваю свою шубку со сборками и жду, когда Ксеня обмотается платком.
– Мотрите, недолго, не простыньте! – напутствует нас Дуня.
Чудачка она! Разве можно простыть, когда на дворе так тепло, что даже с крыши капает? Мы бежим к снежной бабе, которую лепят Люба и Володя, и начинаем помогать им. Жаль только, что нет морковки, а то какой бы чудесный нос получился!
– Юра, глупости делаешь, – говорит Люба. – Зачем ты ей в уши палки суёшь?
У меня в последнее время испортились отношения с Любой: она всё хочет, чтобы ей подчинялись, а я этого не хочу. С какой стати!
– Она будет доктор, Люба, – говорю я. – Пусть она будет доктор, ладно?
– Она снежная баба, а не доктор.
– А мне хочется, чтобы доктор!
– Сделай себе другую, и пусть она будет, кем ты хочешь.
Пока я думаю, что ответить, в окнах зажигается свет, потом слышится строгий голос Любиной мамы, Лидии Николаевны.
Вот и хорошо, что она зовёт своих ребят домой, – тогда уж я сотворю из их бабы что-нибудь интересное.
Люба и Володя, отряхиваясь, бегут к крыльцу, а Ксеня хватает меня за руки.
– Не надо, Юр, палкой, это нечестно.
– Ну, тогда я из тебя сделаю снежную бабу!
Мы с Ксеней боремся, хохочем, катаемся в снегу – так здорово! – а сверху из окон падает жёлтенький свет, и мы знаем, что дома нас ждёт Дуня, горячий самовар и некому нас поругать.
– Вот теперь ты снежная баба, Кенарочка! – кричу я.
– А ты дед-мороз, – хохочет Ксеня.
И мы снова катаемся в снегу, и даже когда он попадает за шиворот – всё равно очень приятно и весело.
Мы очень довольные возвращаемся домой. Правда, Дуня нас тотчас выпроводила, чтобы получше отряхнулись, и потом поворчала, но это не испортило нам настроения. Мы даже не захотели пить чай, а ещё повозились, и Ксеня предложила идти спать, чтобы поскорее настало утро.
Утро пришло, но какое-то странное. Ира будит меня, а я не могу поднять головы. Ира дотрагивается холодной ладонью до моего лба и вдруг отдёргивает руку, словно обожглась, и вскрикивает, и бежит к Ксене, которая тоже ещё в постели, и там Ира вскрикивает.
– Дуня, у них жар! – кричит Ира.
Я щупаю свой лоб, но никакого жара не чувствую. У меня только очень тяжёлая голова, и мне неохота вставать.
– Дуня, как же так? Ведь у них сильный жар!
Я поворачиваюсь и вижу в открытой двери растерянное лицо Дуни. Вот тебе и складуха-нескладуха! Наверное, мы с Кенарочкой заболели.
Ира просит Дуню не выпускать нас из постели, одевается и бежит куда-то. Я слышу, как часто стучат её каблуки по лестнице.
Через некоторое время я вновь просыпаюсь – я даже не заметил, как опять уснул, – вновь от Ириного голоса и ещё от одного, мужского. Потом в папин кабинет, где мы с Ксеней лежим, входит высокий дядя в белом, и я узнаю в нём того доктора, с которым встречался летом в больничном саду, – я его по голой длинной голове узнаю. Я сразу испугался.
Я смотрю на Ксеню, на её разметавшиеся по подушке волосы, и мне Ксеню жалко; на Ирино испуганное лицо смотрю, и Иру мне жалко; и самого себя жалко. Что же с нами будет теперь?
Вот они уже загнули мою рубашку и прикладывают прохладную трубку и велят дышать, а мне дышать больно: колет в боку. И в горло ложечку перед этим сунули, я чуть не подавился.
– Воспаление лёгких, – говорит доктор.
– Воспаление лёгких, – повторяет он, когда то же самое проделал над Ксеней.
Вот тебе и снежная баба, вот тебе и Кенарочка! А ведь так хорошо было вчера, такое веселье, и этот жёлтенький свет, падавший из окна, – он так и стоит перед моими глазами…
И опять жёлтый свет. Полночь. Посреди потолка – жёлтый круг, а дальше он всё слабее и слабее, будто золотые иголочки понатыканы, а в углах темно. Это от лампы с прикрученным фитилём. Я поворачиваюсь к Ксене – она тоже приоткрывает глаза, смотрю на Иру – у неё глаза закрылись, и она всхрапывает. Вот счастье-то!
Я ещё раз, для верности, взглядываю на Иру. Она сидит на троне, – вообще-то она сидит в папином кресле, придвинутом к нашей кровати, но сейчас мне кажется, что на троне. Она, бедная, намаялась с нами за день и уснула, точно – уснула.
Я переглядываюсь с Ксеней, и мы тихонько сдвигаем с себя одеяла. Их, наверно, штук пять, да ещё сверху папин тулуп. Мы лежим рядышком, мокрые как мыши. Мы обмотаны компрессами и затянуты крест-накрест тёплыми платками. Мы так ужасно вспотели, что нельзя терпеть.
– Побольше, побольше, – шепчет Ксеня, чтобы я побольше её открыл, и Ира пробуждается от её шёпота.
Ира, как коршун, бросается на нас, снова натягивает все одеяла и начинает плакать. Не понарошку, а всерьёз. Ира – и вдруг… плакать! Это так необычно, что мы с Ксеней мгновенно утихаем.
– Что же вы, свинтусы, делаете? – дрожащим голосом спрашивает Ира. – Вы что – умереть хотите, бессовестные?
И слёзы у неё текут по щекам. Мне до того становится её жалко, Ирочку, что она, как маленькая, плачет, до того жалко, что я обещаю ей никогда больше не открываться.
А она ещё долго хлюпает своим узеньким носом и подозрительно глядит на нас. Она нарочно положила на кресло две толстые книги, чтобы сидеть повыше и лучше видеть, сидит на своём троне и подозрительно глядит на нас мокрыми глазами.
А потом скоро её веки опять слипаются, и мы с Ксеней опять тихонечко, совсем немножко, сдвигаем одеяла. И снова плачет, как девочка, Ира и называет нас бессовестными поросятами и укутывает ещё жарче.