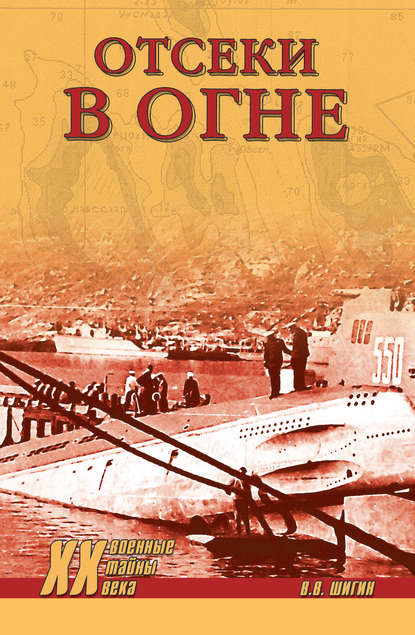- -
- 100%
- +
Почему, когда думаешь о будущем, то каждый год представляется вечностью, а когда что-нибудь вспоминаешь, кажется, что было вчера? Нина с Серёжкой пришли к нам в пятый класс два года назад, а кажется – будто вчера. Я полюбил Нину не сразу, только когда стали учиться в шестом, тоже около года уже минуло, а кажется – вчера. Я вообще ужасно влюбчивый.
Я ещё в первом классе влюбился в Розу, в дочку того доктора, с неправильной головой. Она и напоминала розу, цветок: розовенькая, полная, с сонными бледно-голубыми глазами. Чтобы ей понравиться, я несколько раз пробовал на уроках петь, и за это Александр Афанасьевич однажды выставил меня за дверь.
Ещё сильнее я влюбился в третьем классе в Лену. Я сперва в её лицо влюбился, потом – в её голос. Мне всё время хотелось на неё смотреть; я и на уроках смотрел и на переменах, а на переменах вдобавок слушал, как она говорит. Меня из-за этой любви и исключили, вернее, из-за того, что я принёс в школу садовый нож и резиновую трубку с гирей, чтобы поколотить Лёньку Ромашова. А зачем он заигрывал с ней?..
Теперь, конечно, это смешно, а тогда было не до смеха, как и сейчас – с Ниной. Когда я выучусь на морского лётчика, я обязательно увезу её туда, где буду служить…
Звенят кузнечики. Они не звенят, а стрекочут, и даже не стрекочут, а тиликают. Вообще такого слова нет, чтобы точно сказать, что они делают. Они, говорят, ножками это делают. Поделают быстро, потом прыгнут, обождут немного и опять начинают. Это сверчки – стрекочут. У нас за печкой живёт один, но я никак не могу его поймать.
А в реке Явенге журчит вода. Она струится меж камней, поэтому и журчит. Можно бы поохотиться на налимов, но нет с собой вилки. Другие как-то их руками ловят, нащупают в норе, погладят и под жабры – цап! («Под зебры», – говорит Стёпка). Я руками не умею. Только вилкой. Выслежу у берега возле какой-нибудь коряги, прицелюсь в усатую голову – и хлоп! Другой раз прямо в песок загоню, прикалываю ко дну намертво. У меня глазомер хороший, и силёнкой вроде не обижен. Я силу акробатикой развиваю.
Вот, кстати, и поупражняемся. Закинув руки за голову, сгибаю ноги в коленях, отжимаюсь от земли и – раз! Получился мостик. Теперь побольше прогиб, руками подбираюсь почти к самым пяткам и – два! Ноги махом идут вверх, описывая дугу, я касаюсь ими земли. И встаю с лёгким подскоком.
Это Ире спасибо. Она привила мне любовь к физкультуре.
Я сейчас учусь делать сальто. Всё это лето отрабатываю элементы. С короткого разбега, с кочки – прыг, голова вниз, ноги вокруг, и приземляюсь. Правда, вначале я больше на голову приземлялся – едва шею себе не сломал; затем – на спину, а в последнее время всё чаще опускаюсь на ноги.
Сила и ловкость мне нужны. Без них я никогда не достигну своей цели и не стану морским лётчиком. Да и теперь нужны. Иначе слишком многим придётся подчиняться. А пока мне подчиняются: я один из главарей среди ребят – своих сверстников в Явенге.
Поход в столовую
Ваньки не видно, наверно, ещё не кончил окучивать или пошёл не на Кубену, а на Явенгу, к железнодорожному мосту. Он там предпочитает купаться. Уж эти мне железнодорожники!
И Серёжки не видно, должно быть, проголодался и умотал домой… Пойду-ка я к папе, узнаю, который час, и заодно, может, клубнички поем.
Я иду к одноэтажному под железной крышей зданию сельсовета, оттуда сворачиваю на пришкольный участок. Папа в кепке, в выгоревшей полосатой рубашке с закатанными рукавами склонился над томатным кустом, подвязывает стебель к деревянному колышку.
Этих колышков уйма, сотни две, и к каждому аккуратно прикреплён верёвочкой куст, а на кустах среди узорчатой зелени – тяжёлые оранжево-красные помидоры, такие гладкие, налитые, что кажется, дотронься, и лопнут. Есть и не оранжевые, а жёлтые – это особый сорт, они похожи на лимоны, только кожица без пупырышков. Есть и просто зелёные, ещё дозревают.
И всё на участке так распланировано, так чисто! У каждой гряды – дощечка, на которой рукой папы написано, что он тут посеял, когда и род удобрений.
Папа заметил меня, разогнул спину и улыбается. Какой же он стал старенький, папа! Борода совсем белая, и столько морщин на обожжённом солнцем лице… Я бегу к нему по борозде, а он мне грозит, чтобы я нечаянно не наступил на растения.
– Ну, воздушный извозчик, что тебя здесь интересует?
– Клубника, – говорю я.
– Только и всего? – Папа, я чувствую, разочарован. – А ты поливал клубнику?
Я ничего не поливал, и папе это известно. Ему помогает на участке мать Тамары – Антонина Николаевна. Она вместе с папой и поливает, и окучивает, и сорняки выдёргивает. Но ведь она за это зарплату получает!
Вот такой он всегда, наш отец. Ничего для себя и своей семьи, хоть и работает от зари до зари целое лето и отпуском не пользуется. А когда придёт осень и снимут урожай, будет наравне со всеми платить за картофель и овощи, которые распределяют между учителями.
Папа наблюдает за мной, потом, смягчившись, протягивает мне руку, но я отворачиваюсь. Мне уже не хочется клубники. У меня есть сила воли.
– Который час? – спрашиваю я. – А то мне, наверно, пора за обедом.
Папа достаёт из кармана старинные, с открывающейся крышечкой часы и говорит, что ещё не пора; в моём распоряжении сорок с лишним минут.
– Так я пойду лучше не торопясь.
И я иду обратно.
– Юра, вернись, – говорит папа.
Нет уж, ни за что не вернусь! Не надо было сразу оговаривать. Я, наоборот, припускаю бегом…
Вот в этом всё дело. Вот почему я коплю силу и закаляюсь в драках. Мы бедные, а бедные потому, что у папы такой характер. Он всегда только из одного своего жалованья и нас кормил, и Ире, когда она училась в институте, посылал. Ира, девушка-невеста, носила парусиновые туфли, а папа с мамой страдали, но не могли купить хороших.
И в столовую за обедом поэтому я хожу. Мама считает, что брать из столовой дешевле. А люди удивляются и говорят, что за папины труды нас надо бы на круглый год обеспечить бесплатной картошкой и молоком от школьных коров. Да и директор Михаил Иванович не раз это предлагал, но папа отказался…
Когда полчаса спустя, вооружённый кастрюлей и алюминиевой миской, я вышагиваю обычным своим путём по узко-колейной ветке в рабочую столовую базы, мне уже не хочется осуждать папу. Я стараюсь вообразить, как вырасту и куплю ему пишущую машинку и микроскоп взамен тех, которые пришлось продать в Троице во время его болезни. А маме куплю обручальное кольцо, такое же, какое она сдала в торгсин несколько лет тому назад. А Ире, хоть она теперь замужем, куплю модельные туфли. И Ксене.
А мне ничего не надо. Я только сошью себе костюм, как у Митьки Самородова: брюки «Оксфорд» и короткий, в клеточку, пиджак. В этом костюме я буду танцевать с Ниной танго…
Пока я иду по узкоколейке, окаймлённой молодыми сосенками и можжевельником, мне никто не мешает рисовать себе какие угодно картины.
Я могу даже, сойдя на обочину, сделать несколько танцевальных движений, могу даже напеть эту песенку из кинофильма «Петер»:
Танцуй танго, Мне так легкоТа-та-та, та-та, далекихИ знойных стран…Но вот дорога, выбираясь из мелколесья, делает поворот, и я подхожу к железнодорожному переезду, возле которого желтеет будка стрелочника. С юга, со стороны Вожеги, постукивая, несётся товарный поезд. Сейчас мы проверим свою смелость.
Я останавливаюсь шагах в пяти от линии. Тяжёлый состав, прогрохотав через мост, приближается к переезду. Паровоз, блестя фарами, напряжённо отдуваясь и покачиваясь, растёт на глазах. Вот до него уже метров двести… сто – секундочку – пора!
Я прыгаю через линию и чувствую, как моё сердце мгновенно превращается в ледяной ком – мне даже кажется, что какая-то моя часть не успела перепрыгнуть и осталась там, по ту сторону, – чувствую удар ветра, слышу, как звякает миска о кастрюлю. А поезд мчится дальше, золотистыми пачками тянутся ряды брёвен на платформах, сухо, железно щёлкают колёса.
Всё в порядке. Успел! Я глубоко вздыхаю и с полминуты ещё приглядываюсь к тому, как мелькают ступени подножек. На таком ходу, пожалуй, на подножку не вскочишь, даже если будешь бежать вдоль состава по ходу поезда изо всех сил.
Соскочить можно, это проще.
Я и со скорых поездов соскакивал. Правда, зимой, в снег. Прошлый год я часто ездил в Вожегу, за фотопластинками 6X9 и возвращался большею частью – так совпадало по времени – на скором, который в Явенге не останавливается. После Сямбы я через буферную площадку вылезал на подножку, вставал на нижнюю ступеньку и, не доезжая семафора, где подъём, прыгал… Надо только ноги посильнее выбрасывать вперёд и лететь сперва горизонтально, вроде бы на спину, а потом в воздухе тебя развернёт, и, как коснёшься земли, беги или лучше – вались в снег, тогда по крайней мере на столб не налетишь. Вот где акробатика мне помогала. Я это дело любил.
Последний вагон товарняка с площадкой главного кондуктора всё уменьшается и уменьшается. Я прощально помахиваю главному: счастливо! Теперь надо идти поживей и не оглядываться, а то ещё стрелочник по шее даст.
Танцуй танго, Мне так легко,– мурлычу я себе под нос, посматривая на продуктовый ларёк, механическую мастерскую и столбы подвесной дороги с мотовозами, которые уходят в голубую даль. Здесь, на базе хорошо пахнет мазутом и соляркой – мне эти машинные запахи нравятся. Мне здесь вообще всё нравится: клуб, новый двухэтажный дом ИТР, и как движок хлопает, и из чёрного репродуктора музыка льётся. Я так и вижу своё будущее!
В длинном зале рабочей столовой я сперва читаю приколотое к стенке меню, затем в уме подсчитываю, плачу, сколько надо, и подхожу к раздаточному окну.
– Опять постный суп и пшённая каша? – смеётся выдавальщица.
Она пунцовая, а зубы белые, и на голове белое – такой марлевый тюрбан. Она молоденькая, но плечи у неё пышные. Я всегда стараюсь на них не смотреть.
– Ладно, давай! – сурово говорю я. – Два вермишелевых супа и три гуляша.
– Разговеться надумали? – спрашивает она с улыбкой, забирает мои талоны, посуду и уходит вглубь, где горячо и пахнет жареным луком. Сейчас она мне вместо двух порций вкатит четыре (а мама всё поражается: какие большие эти три порции!) и картошки с соусом наложит будь здоров. Но я всё равно не скажу спасибо, это её дело, что она даёт, я же у неё не прошу…
– Кушайте на здоровье, подкрепляйтесь! – говорит она, протягивая мне тяжёлую кастрюлю и миску, и всё улыбается и поглядывает на меня. Чудная какая-то!
Я ставлю миску с гуляшом на кастрюлю, сверху – крышку и газету, привязываю к ручкам широкий папин ремень и – в обратный путь…
Сейчас бы неплохо выкупаться перед обедом, но не идти же на реку с такой ношей! Придётся применять силу воли.
О чём бы таком подумать, чтобы не тянуло на реку? Буду думать о Нине, а ещё лучше – о войне. Вот только перейду линию, сразу и начну думать о войне.
Я поскорей перебегаю линию, но стрелочник-таки укараулил меня.
– Ты, леший тебя побери, чего деешь? Чего под паровик суёшься? – он стал посреди дороги и выставил руку поперёк, как семафор.
Убежать от него трудно – кастрюля мешает, – а оправдываться я не люблю.
– Не «деешь», а «делаешь», дяденька, и не «паровик», а «паровоз», – в некоторой растерянности говорю я.
– А ну давай к дежурному по станции, давай сейчас же, грамотей мне тоже! – неожиданно вконец рассердился стрелочник и угрожающе двинулся на меня.
В эту минуту, на моё счастье, отчаянно затрезвонил телефон – два никелированных блюдца на жёлтой дощатой стене будки.
– Шпана сопливая, наказанье Божие! – прокричал ещё стрелочник и круто повернул к будке.
Неприятно. Терпеть не могу, когда со мной так разговаривают. Мне тогда, наоборот, назло всё хочется делать…
Однако нет худа без добра. Купаться мне расхотелось – не надо и силу воли применять. Теперь можно и о войне не думать.
Я сейчас что-нибудь другое представлю себе, что-нибудь такое приятное.
Например, как меня вызовет в Вожегу военком и скажет, что ему нужны разведчики. Он сперва скажет: «Это ты похитил знамя у „синих“, когда была военная игра в пионерлагере?» Я скажу: «Я». – «А это ты, – скажет он, – грозил запереть в погреб часового Лену Степашову, если она не укажет, где спрятано их знамя?» – «Было дело под Полтавой», – признаюсь я. «Молодец! – внезапно похвалит меня военком. – Так вот, орёл, подбери себе десяток надёжных ребят, мы выдадим вам обмундирование, револьверы, финские ножи и отправим куда следует». – «Не в Испанию, товарищ капитан?» – «Нет, – ответит военком, – в Испании мы не вмешиваемся. – А сам хитро прищурится, потрогает свой новенький орден и скажет, как говорят во всех кинофильмах: – Действуйте!»
И вот уже мы летим, гудят моторы, а мы сидим, суровые, левая ладонь на рукоятке ножа, правая – на рукоятке скорострельного бесшумного револьвера…
И вот мы уже идём в атаку: я несу боевое красное знамя. Они стреляют в нас из пулемёта, а мы гордо идём и презрительно улыбаемся. Бесстрашно!
Я иду по шпалам узкоколейки, несу свою кастрюлю и презрительно улыбаюсь. У меня, чувствую, слёзы навёртываются – до того бесстрашно и гордо мы идём! До слёз – вот до чего!
Я вытираю кулаком глаза и как раз вовремя. Из-за поворота показывается лошадь, везёт осиновые клёпки. Тонкие рельсы чуть гудят, узловатые ноги привычно ступают в выбитые меж шпалами ямки; глаза у лошади полуприкрыты, нижняя атласная, в редких толстых волосках губа бессильно отвисла и дрожит, и ноги дрожат – того гляди, свалится, бедняга.
А на свежих клёпках сидит здоровая загорелая девка в белой косынке. Напевает что-то про себя. Тоже что-нибудь воображает.
– Слезь с вагонетки-то, – посторонившись, советую я. – А то подохнет твоя кляча.
– А подохнет – туда ей и дорога! – задорно отвечает девка. – Старикам везде у нас дорога, а молодым почёт. – Она дёргает вожжи, понукая: – Но-о, балуй!
Вот бессовестная! Кабы не кастрюля, взял бы вицу да по голым по её ногам!..
Я ускоряю шаг и уже вижу за изгородью напротив клёпочного завода свой дом – «корабль», как я его зову. Он открыт всем ветрам. Окна на три стороны, и крыша сарая, как палуба. И капитанская рубка есть – мой чердак…
Папа, наверно, уже вернулся с участка. Снял очки, пропотевшую насквозь рубашку и неторопливо намыливает руки под умывальником. А мама расставляет тарелки и посматривает в окно – не идёт ли Юрка?
А Юрка идёт. И гуляш несёт. Мама велела взять на второе перловую кашу, а я сэкономил на супе, добавил из своих денег рубль и несу домой гуляш.
Урок литературы
Звонок звенит, и Маня мчится
По направленью в седьмой класс,
За столик маленький садится
И начинает мучить нас.
Трудно сказать, кто кого больше мучает: Маня нас или мы её, но уж так повелось, что этим стишком, чуть слышно произносимым сквозь зубы, мы всегда встречаем нашего преподавателя русского языка и литературы Марию Фёдоровну.
Я опять с Ванькой, и опять на третьей парте, и мне со своего места прекрасно видно каждое движение Марии Фёдоровны. Вот она с коротенькой улыбкой кивнула нам, разрешая сесть, уселась сама и принялась раскладывать свой багаж. Это замечательная особенность Мани: кроме классного журнала и толстой тетради с планом урока, она извлекает из портфеля какие-то книги, учебники, программы, брошюры. За полминуты она выстраивает перед собой целую баррикаду, затем отмечает в журнале, кто отсутствует, кладёт локти на стол и начинает говорить.
Теперь до самого звонка Маня ни разу не поднимется, ни разу не оторвёт глаз от книг и не снимет со стола широко расставленных полных локтей. Её круглое лицо со шрамиком возле небольшого рта спокойно и невозмутимо. Маня излагает нам материал.
Она рассказывает о детских и юношеских годах Максима Горького, а я гляжу на этот её шрамик и вспоминаю, как прошлой зимой меня отстранили от занятий.
Меня тогда из-за Мани отстранили. Я во время перемены ходил на руках и не слышал звонка. Она открыла дверь, а я ей навстречу – ногами кверху. Она закричала, чтобы я немедленно отправлялся в учительскую, и побежала обратно по коридору, а я за ней – опять же на руках. И, на свою беду, налетел на директора Михаила Ивановича. Тот меня живо поставил на ноги, припомнил мне другие прегрешения и объявил, что исключает меня из школы на месяц. А Маня стояла рядом и хоть бы слово сказала в мою защиту. Даром что я у неё только на «оч. хор.» учился… Я вот до сих пор как следует не пойму, что же её так возмутило? Может быть, то, что я и в учительскую посмел идти на руках?
Я отворачиваюсь от Марии Фёдоровны и вижу классический профиль Нины. И у меня сразу веселеет на сердце. Ведь создаёт же природа такое совершенство: такой матово-чистый лоб, такой правильный нос, такой нежный подбородок! И такое ушко, смугловато-розовое. И такие тёмно-каштановые, с лёгким блеском волосы… Нина не шелохнётся, слушает внимательно.
А я не могу слушать. Во-первых, я читал «Детство» и «В людях» – там Горький сам гораздо интересней рассказывает о себе, – а во-вторых, мне мешает, что Маня обложилась книгами. Что она против нас баррикаду свою построила? И почему она не поднимает глаз? Боится увидеть, что мы не тем занимаемся?
Ванька, например, жуёт. А что делает Серёжка? Серёжка сегодня забился на заднюю парту и читает «Всадника без головы», а может, стрелялку мастерит. Вот когда в пятом классе русский язык преподавала Птичкина, тогда Серёжка не мастерил стрелялок. Он не сводил с неё глаз. Она была молодая, но очень строгая – Птичкина! Потом её, к сожалению, куда-то перевели от нас…
А Стёпка? Этот, конечно, колупает под носом и дремлет – мучается. «Луште!»
Сашка Вавилов, как и Нина, усердно слушает. Он у нас, между прочим, великий математик: любую задачу за минуту решит. У него чуть оттопыренные уши, ему сам Бог велел слушать.
И Любочка Осенина слушает: небесные глаза, льняные локоны, не девочка – куколка! Оглянулась-таки!
Я подмигиваю ей, она, покраснев, прикрывается тетрадкой, чтобы Маня не заметила. Напрасные опасения! Маня не желает ничего замечать – бубнит лишь по своему учебнику. Люба Осенина, Сашка, Нина и я – мы считаемся лучшими учениками в классе. Вчера нас вместе сфотографировали. По успеваемости я правда лучший, у меня только дисциплинка хромает. Ну, да теперь, в седьмом классе, постепенно и дисциплинку наладим.
Чем бы ещё заняться?
– Ванька, дай пирожка!
– Самому мало, – отвечает с набитым ртом Ванька, но всё же отламывает уголок.
Теперь мы как-нибудь дотянем до конца урока. С куском грибного пирога не пропадём. Выдержим!
– Помнишь это, – шепчу я Ваньке, – помнишь: «И шило бреет!»?
Мы прошлой осенью так и покатились со смеху, вычитав в хрестоматии эту фразу Салтыкова-Щедрина: «И шило бреет!»
– Шило-то бреет, – говорит Ванька, – а пирог убывает.
– Пирог убывает, – соглашаюсь я, – зато время идёт.
– Время идёт, – обрадованно подхватывает Ванька. – А дале чего?
А дальше – Мария Фёдоровна вскидывает на нас свои измученные глаза, и мы умолкаем. Потом она задаёт на дом – прочитать от такой-то до такой-то страницы, – и как раз в коридоре заливисто ударяет звонок.
Футбол
Большая перемена! Большая перемена!.. Я пробкой вылетаю из класса, водружаюсь верхом на лестничные перила и – жиг! – съезжаю до поворота, разворачиваюсь и – жиг! – спускаюсь до конца. Я спешу к выходу, а мимо меня – жиг! жиг! – один за другим скатываются ребята. Хоть перемена и большая, надо дорожить каждой минутой.
На улице солнце, бодрящая свежесть, простор. Я бегу на футбольное поле, а Митька Самородов уже там. И баян его стоит на скамейке. И мяч прислонён к штанге ворот – дожидается нас. Господи, до чего же хорошо мы живём!
– Привет, Дмитрий Иванович! – кричу я издали.
– Приветик! – отвечает он и делает страшную гримасу.
Он тоже комик. Он теперь у нас преподаватель физкультуры, а ещё каких-нибудь полтора, два месяца тому назад… Но об этом молчок. Скажу только одно: я ему подчиняюсь. Митька учился в железнодорожном техникуме, он отличный спортсмен, прекрасно танцует современные танцы, играет на баяне и вообще.
Подцепив носком ботинка мяч, веду его к черте штрафной площадки. Серёжка встаёт в ворота. Ванька, Стёпка и ещё несколько наших станционных ребят выстраиваются в цепочку. Мы будем бить по очереди – отрабатывать удар. Оглядываюсь на Митьку.
Он подносит ко рту жестяной судейский свисток. Серёжка в воротах напружинился, чуть согнулся. Верещит свисток. Я разбегаюсь – бац!
Серёжка, прыгнув, берёт. В левом верхнем углу. Силён, бродяга! Я отхожу в сторону, а Серёжка накатывает мяч на Ваньку, и тот – бац! – неожиданно бьёт с ходу. Мяч проскакивает в ворота и летит на дорогу, по которой, обнявшись, идут девочки. Одна из них ножкой – тюк! – и промахнулась, другая – цап! – поймала и откинула нам.
Ванькины большие уши зарделись от гордости: как же, на глазах у публики забил гол! Серёжка протестует: не было свистка судьи – значит, нельзя было бить; этот гол не считается.
– А зачем накатывал? – спорит Ванька.
– «Зачем! Зачем»! – Серёжка быстро морщит нос (он всегда морщит нос, когда передразнивает). – А зачем тебе голова дана? Для шапки?
У Ваньки загораются скулы: Серёжка его задевает. Дело может дойти до драки. А Митьке уже не пробиться к нам, его плотно окружили девочки и просят сыграть падеспань.
– Минутку, девочки!..
Но девочки не хотят ждать ни минуты, и Митька, кинув мне судейский свисток – разберись, мол, там за меня, – отстёгивает ремешки на баяне.
Ванька и Серёжка сближаются короткими шажками. Лицо Серёжки зло бледнеет, а Ванькино всё гуще краснеет. Я, грешный, люблю понаблюдать за этим. Зрачки у них сужаются, губы пересыхают. Серёжка покрупнее и постарше, но Ванька с длинными жилистыми руками не слабей его – тоже может зацепить.
– А ты что уставился? – прикрикиваю я на Стёпку. – Иди пока в ворота!
– Луште обожду, – бормочет Стёпка.
Ванька и Серёжка сблизились. Сейчас будет небольшой энергичный разговор.
– Чего те надо? – говорит Ванька. – Ну, чего?
– А те чего, суслик? – презрительно говорит Серёжка, и его чёрные глаза мрачно мерцают.
Я от волнения быстро глотаю слюну. Что ответит Ванька? Кто первый поднимет руку на другого?
– Я? Суслик?! – Ванька, оскорблённый, уже весь дрожит. Наступают последние секунды.
Серёжка резко сгибает руку в локте, и в этот момент я бросаюсь к товарищам, встаю между ними и даю свисток.
– Ребята, – угрюмо объявляю я затем, – вы оба неправы.
– А чего ему надо? – первым откликается Ванька.
Ваньке не следовало бы откликаться первым: его же задели.
– Повторяю, оба неправы. Восстановим справедливость. Ясно?.. По поручению судьи, назначаю спорный.
– «Справедливость, справедливость»!.. – Серёжка сплёвывает через зубы и, повернувшись, бредёт за дорогу на лужайку, где начинаются танцы под баян.
Тем лучше. Сам себя наказывает человек.
– Стёпка, в ворота! – говорю я.
Стёпка бежит к воротам, Ванька ставит мяч у черты штрафной площадки, и мы возобновляем футбол.
Дома
Возле нашего дома нет ни деревца. Голо. Вот ещё почему я долго не мог привыкнуть к Явенге.
В Троице, когда папа начал вставать после болезни, нам дали отдельный домик за рекой в Отрадном. Это был чудо-домик! Огромные берёзы касались ветвями крыши, гладили её при лёгком ветре, а солнце, пробиваясь сквозь листву, рассыпало вокруг дрожащие золотые денежки. Зимой берёзы высились как серебряные исполины, защищая дом от вьюг и снежных заносов, весной, оттаяв, первые принимали вернувшихся с юга грачей и скворцов.
Я часто перелезал с крыши на одну из берёз и, вскарабкавшись на верхушку, просиживал там часами. Сразу за домиком начиналось ржаное поле, на краю его стояла ветряная мельница с серыми рассохшимися крыльями; слева темнел Вотчинский бор, справа, за светлым ручьём, перегороженным вёршами, – Куровский; а впереди – Кубена, а по взгорью и по обе стороны дороги на том берегу – белая церковная ограда и ряды рябин…
Плохо, когда возле дома нет деревьев. Сосны в нашем посёлке не в счёт. Сосны и ели – это для леса, они колючие, а для человеческого жилья нужна гладкая нежная листва берёзы или черёмухи.
И всё-таки я полюбил этот наш дом в Явенге. Он как островок в открытом море. Его сечёт дождь, в летний зной сушит солнце, буйные весенние ветры силятся сорвать с него крышу, но он не поддаётся, наш дом. Он, как корабль, который незримо несёт меня навстречу будущему.
…Мама в тёмном жакетике своём стоит на крыльце с ведёрком в руке. То ли подоила коз, то ли за водой собралась – пока не разберу. Она тоже заметно постарела, как и папа. Совсем уже не та, синеглазая, с высокой причёской, что когда-то, приветливо улыбаясь, подавала чай гостям.
Я отдаю маме портфель, забираю ведро и топаю к колодцу. Когда возвращаюсь, мама сидит на кухне и тихонько кончиками пальцев постукивает по столу. Значит, чем-то озабочена или опечалена. Папы нет.